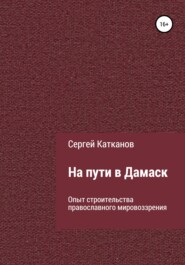скачать книгу бесплатно
А догматика? Настолько ли действительно важны различия в тонких, умозрительных догматических вопросах? Ну, мы же все христиане. Мы признаем один и тот же «Новый завет», там же ясно сказано, как жить. Стоит ли мучить себя едва уловимыми оттенками догматических формулировок? Одна ли во Христе природа – божественная, или две – божественная и человеческая? Если две, то в каких отношениях они находятся? А ипостась у Христа одна или две? А воля одна или две? Чем отличаются друг от друга и от православных монофизиты, монофелиты и несториане, имеющие по этим вопросам различные суждения? Не идет ли тут речь о таких богословских тонкостях, которые вообще не имеют ни какого реального значения, то есть не оказывают влияния на самое главное – на спасение нашей души? Зачем на вселенских соборах с таким ожесточением спорили об этих тонкостях, хотя прекрасно понимали, что земной разум все равно не может постичь эти предметы до конца? Не пора ли прекратить эти споры? Не пора ли перестать разделяться из-за их результатов? И не заявить ли наконец о полном единении и согласии с монофизитскими церквями Эфиопии, Армении и Египта?
Нет, никогда. Так почему же православные так упираются из-за незначительных, казалось бы, расхождений по таким вопросам, которые и понять-то способны лишь немногие? Да потому что мы знаем некоторые законы духовного мира. Мы можем вообще не понимать, как именно эти законы работают, но мы твердо знаем, что действуют они неумолимо. Маленькое, казалось бы, незначительное отступление в отвлеченном умозрительном вопросе, рано или поздно приведет к духовной и нравственной катастрофе.
Вспоминаю свой разговор со следующим вологодским архиереем, владыкой Максимилианом. В частной беседе он однажды спросил меня:
– Как вы думаете, что первично, догматические отступления или нравственные?
До сих пор не могу понять, как я умудрился навскидку дать очень неожиданный для меня самого ответ:
– Этот вопрос, владыка, равен вопросу о том, что было раньше, курица или яйцо?
Владыка немного помолчал, потом внимательно посмотрел на меня и, понимающе улыбнувшись, кивнул. Мы поняли друг друга без слов. С тех пор, вспоминая этот диалог, начинаю блаженно улыбаться. Постараюсь выразить словами безмолвную часть нашего разговора.
Я сразу понял, что владыка хотел сказать: искажения догматов влекут за собой нравственные искажения, ересь порождает безнравственность. И это воистину так. Но все чуточку сложнее. Желание исказить догмат тоже само по себе ни откуда не берется, оно уже является следствием некоторых нравственных искажений. И вот теперь поди разберись, что было в начале. Ересь и безнравственность диалектически переплетены, являясь по отношению друг к другу то причиной, то следствием.
Вот пример. Зачем католики ввели «филиокве» – еретическое искажение догмата о Святой Троице? Ведь они же, начиная с первого вселенского собора, несколько столетий строго держались никео-цареградского символа, всегда сами утверждали, что символ веры, соборно выраженный и позднее принятый соборным разумом Церкви, ни каким изменениям и улучшениям не подлежит. И вдруг неожиданно с Запада прозвучало: «А мы тут немножко подправили. По нашему суждению, отношения между Лицами Святой Троицы несколько иные». Веками Церковь считала, что Дух Святой исходит от Отца, а они вдруг говорят: «Не только от Отца, но и от Сына». Что с ними случилось? Впали в грех интеллектуальной гордыни. Горстка умников поставила свое мнение выше суждения Церкви.
Но вроде бы ни чего страшного не произошло? Это такой тонкий теоретический вопрос, который для широких церковных масс вообще не имеет значения, да не очень-то и понятен простым верующим. Вот только потом на Западе откуда-то взялась слишком примитивная, слишком юридическая, а следовательно искаженная сотериология. Но и опять вроде ни чего страшного. Для спасения души человек должен совершать добрые дела. Звучит вполне респектабельно, вполне нравственно. Но еретическое сознание, однажды уклонившись от истины, потом уклоняется от нее все больше и больше, логически развивая свои заблуждения.
Из теории «спасения делами» появляется теория «сверхдолжных заслуг». Логика такая: если для опасения нужны дела, то не трудно предположить, что достаточно определенного количества добрых дел. А святые совершили добрых дел гораздо больше, чем необходимо для спасения. Было бы обидно, если бы эти избыточные добрые дела, «сверхдолжные заслуги», пропали понапрасну, ведь кому-то не хватает. Если, скажем, входной билет стоит 100 рублей, при этом у одного в кармане 120, а у другого 80 – первый поделится, и оба пройдут. Так и святые, очевидно, не против поделиться добрыми делами с нами, грешными. А кто будет перебрасывать добрые дела со счета на счет? Самый главный, то есть римский папа. Ну, разумеется, за скромное добровольное пожертвование. Вот так появились индульгенции – самая омерзительная, совершенно безнравственная и откровенно антихристианская практика, какую только порождала латинская ересь.
Нам очень трудно проследить логическую цепочку, которая связывает филиокве и индульгенции, но эта цепочка существует, одно вытекает из другого. Вот какое огромное практическое значение постепенно приобретают «незначительные теоретические расхождения». А, казалось бы, что страшного в филиокве? Всего лишь усилили роль Второго лица Святой Троицы. Вот только, усилили ее за счет Третьего лица, умалив роль Святого Духа. А в итоге получилось, что спасение души уже не есть дело Святого Духа, это вопрос, который решается деньгами.
Вы скажете, что Рим давно уже не торгует индульгенциями? Разумеется. На еретической почве вырос сорняк настолько отвратительный, что его таки удалили. Но почва осталась еретической, и она породила другие сорняки, которым нет числа. Например, догмат о непогрешимости римского папы (1870), из которого следует, что папа имеет право единолично вводить или отменять любые догматы. То есть вероучительное значение папской буллы равно определению вселенского собора.
В определениях соборов отцы писали: «Изволилося нам и Духу Святу». Таково православное учение в том, что соборные определения продиктованы Духом Святым. Католикам это не надо. По их суждению, Дух Святой действует через папу. Вот тебе, бабушка, и филиокве. Сначала они принизили роль Духа Святого, а потом объявили одинокую фигуру римского понтифика самым надежным Его вместилищем. Это ужасно.
Кстати, протестанты, вышвырнув из католицизма половину его содержания, филиокве все же заглотили, очевидно, и внимания на него не обратив. В итоге сейчас они говорят, что богатство – показатель праведности. Чем больше нулей на банковском счете у человека, тем угоднее Богу этот человек. Приехали.
Итак, мы можем не понимать значения догматов, но мы должны понимать, что значение это огромно настолько, насколько огромна разница между различными направлениями христианства.
***
Таков мой личный опыт обоснования истинности православной веры. Когда я это писал, у меня за спиной была приличная православная библиотека, но я ни разу не заглянул ни в одну из книг, чтобы подтянуть дополнительную информацию или укрепить свои конструкции цитатами. Не из лености, поверьте, что во всех остальных случаях я не ленюсь это делать. Прежде, чем что-то писать я обычно долго и основательно конспектирую необходимую литературу. Сейчас- не стал. Мне хотелось, что бы сюда попало только то, что уже есть во мне, то что есть часть меня. Нет таких вместительных гробов, чтобы уложить туда библиотеку. А то, что сюда попало, пребудет со мной в вечности.
Это не богословская работа, для таковой у меня недостаточно знаний. Это тем более не проповедь. Не считаю себя имеющим моральное право обращаться к кому-либо с проповедью. Это из разговоров на кухне. Из «бессмысленных и беспощадных» разговоров на кухне. Это то, о чем я говорил бы, если бы мы встретились.
Как-то одна протестантка спросила меня: «А почему вы, православные, думаете, что только вы правы?» Я немножко вспылил: «Мы думаем, что мы правы, потому что мы думаем. Много думаем».
На короткие и простые вопросы редко можно дать столь же короткие и простые ответы. Ну а сейчас я наконец сказал все, что имел сказать. Наконец-то меня ни кто не перебивал.
На этом я хотел закончить, но ведь вопросы по-настоящему еще только начались. Те вопросы, которыми терзали меня, те, которыми я сам себя терзал. Те вопросы, которыми действительно имеет смысл терзаться.
Часть II. Пограничные вопросы
Что дает вера?
Как-то меня спросили: «Что дает тебе вера?» И я опять вспылил: «Ни чего не дает. В том смысле, в каком вы спрашиваете, вера не дает мне ровным счетом ни чего. Одни только дополнительные проблемы и неприятности».
Я сказал неправду. Но не из вредности. Просто того, что дала мне вера, вопрошавшие ни когда и не хотели, а того, что они хотят, вера не дает.
Бабушка одна как-то сказала: «Ну вот сходила в церковь, поставила свечку, а что толку?» Она не получила от веры то, что хотела. А хотела она решения либо медицинской, либо жилищной, либо еще какой-нибудь бытовой проблемы. Проблема осталась не решенной и деньги, потраченные на свечку, пропали понапрасну. Бабушка сделала вывод: «Это не работает. Это неэффективно». И это был очень правильный вывод.
Было дело, я с огромным нервным напряжением ждал, когда мне дадут квартиру. Могли и не дать. Мне советуют: «Сходи в церковь, поставь самую дорогую свечку» (Тогда самые дорогие свечки в церкви были по рублю). Я ответил по-хамски: «Не имею надежды получить квартиру за рубль». Не стоило обижать человека, который желал мне добра, но я был уверен, что со свечкой – не сработает. И вряд ли я ошибался.
Если кто-то ждет от Церкви решения земных проблем, он может быть очень разочарован. Православие существует не для того, чтобы помочь нам поудобнее устроиться в этом мире. Другие религии порою настолько явно настроены на решение проблем нашего бытийного плана, что их и религиями-то трудно считать. А православие – нет. Оно помогает нам обустроиться в мире ином, а в этом мире порою лишь создает нам дополнительные проблемы. Путь к Богу очень труден. У тех, кто по этому пути не идет, трудностей иногда бывает гораздо меньше.
Но ведь в Церкви можно молиться о вполне земном здоровье? Да, конечно. Таинство соборования, например, кроме прочего призвано положительно воздействовать на здоровье. А можно и молебен о здравии заказать, можно на литургию подать записку. Но вот ведь какая штука – Церковь не гарантирует вам результата. Ни один священник не пообещает вам, что после совершения таинств и церковных молитв больной обязательно пойдет на поправку. Мы уверены только в одном – совершится воля Божия. Если Божья воля в том, что бы больной умер – он умрет, если в том, чтобы он продолжал болеть – он будет продолжать болеть. И ни какие наши молитвы о выздоровлении не окажут на процесс болезни ни какого воздействия. А в чем Божья воля, мы ни когда не знаем.
Еще мы твердо уверены в том, что Бог всем нам желает высшего блага и дает нам только то, что полезно для нашей души. Порою болезнь полезна для души, и тогда мы будем болеть. Но порою для души полезно выздоровление, и тогда Бог вернет человеку здоровье. По моему суждению, именно этим объясняется большое количество исцелений при мощах святых, у чудотворных икон и т.д. Бог возвратил этим людям здоровье не потому что наше телесное здоровье само по себе ценно. Наше здоровье – это тлен, это пыль на ветру. Но эти исцеления были полезны для души, во всяком случае – потенциально полезны. Они даровали или укрепляли веру, они побуждали исцеленных возносить благодарственные молитвы к Богу, то есть укрепляли связь с Богом. Телесные исцеления способствовали решению отнюдь не телесных, а духовных проблем, и только в этом их значение.
Святые люди порою десятилетиями страдали тяжелыми недугами. Бог не даровал им здоровья, им было полезно болеть. И у них было достаточно духовных сил для того, чтобы выдерживать болезнь, обращать ее себе на духовную пользу, не впадая в отчаяние. В общем-то для любого из нас болезнь полезнее здоровья, но не любому по силам извлечь из болезни духовную пользу, а Господь знает, сколько у нас сил.
Как-то сказал одному своему знакомому о том, что недавно ездил в Дивеево. Меня весьма озадачила его реакция, он сразу же спросил: «Помогло?» А я ведь ни слова не сказал о том, зачем туда ездил, но он ни на секунду не усомнился, что за исцелением. У меня действительно и тут болит и там болит, но у мощей преподобного Серафима мне, признаться, и в голову не пришло просить об исцелении. Нельзя относиться к вере так утилитарно, потребительски. Церковь – не поликлиника.
Но вот однажды ближе к ночи у меня сильно заболел зуб, а надо сказать, что в этой жизни я более всего боюсь двух вещей – зубной боли и стоматологов. Боль все нарастала, суля хорошо известный кошмар, и тогда я взмолился из глубины грешного сердца: «Господи, сделай так, чтобы эта боль прошла. Ну не готов я сейчас, не по силам мне это. Господи, помоги!» И боль прошла. Я сладко засыпал, благодарный, умиротворенный и опозоренный.
На следующий день я смеялся над собой: «Зачем же ты молился о том, чтобы боль прошла? Что же ты отнесся к вере так утилитарно, потребительски? Начал Бога тревожить по пустякам, а ведь должен был терпеть во славу Божию». Да, той ночью по моей богословской концепции был нанесен сокрушительный удар.
Это был замечательный урок для меня. В мои мысли, по сути – верные, вкралось слишком много высокомерия. Не надо считать людей, которые молятся о здоровье, пребывающими на низшем уровне религиозного развития. Все мы люди, нам порою бывает так тяжело… А разве не тяжело смотреть на то, как страдает от болезни близкий человек и разве грешно молиться о его выздоровлении? Нет, конечно, не грешно. Бог не против таких молитв. Лишь бы только укреплялась наша связь с Богом – через болезнь или через исцеление.
С одной стороны, какой смысл молиться о земном, если Бог и так знает, что именно нам полезно, и даст Он все равно не то, о чем мы просим, а то, что будет нам на благо. Лучше бы нам вообще ни о чем не просить Бога, а молитвы возносить только покаянные и благодарственные. Но вы вспомните моление о чаше. Сам Господь дал нам пример просительной молитвы. Только мы не должны забывать, как и Он, добавлять: "Но не моя воля, а Твоя да будет". Впрочем, сказать эти слова легко, трудно воспитать в душе готовность принять Божью волю, какой бы она ни была. Легко ли благодарить Бога за болезни, страдания, трудности? А надо. Это и есть православие.
Вы хотите болезней, страданий, трудностей? Добро пожаловать в Православную Церковь. Это я все пытаюсь ответить на вопрос, что дает мне вера. Вот это все и дает. Помните, я рассказывал о женщине у которой все болезни прошли, когда она пришла в индуизм, но когда она пришла в православие – все болезни вернулись? В чем тут мораль? В том, что хорошее – трудно, а плохое легко. На пути к сокровищу всегда много препятствий, а если вы не встречаете препятствий, то задумайтесь, к сокровищу ли вы идете?
Православие – такая трудная вера, что и не передать. Иногда говорят, что люди приходят в Церковь в поисках успокоения. Ох, не знаю… Церковь говорит нам, что "и святые едва спасутся". А мы-то знаем, что мы не святые, как же нам-то надо жилы рвать, чтобы спастись. У православных постоянное ощущение того, что они делают недостаточно для спасения души. За успокоением, наверное, лучше обращаться к протестантам. Они пляшут, бьют в ладоши и поют: "Как хорошо, что спас меня Иисус!" Вот где спокойствие. А мы знаем, что Господь дал нам только надежду на спасение. Пребывая в Церкви мы можем очень даже легко погубить душу. Какое уж тут спокойствие. Постоянная тревога, постоянные укоры совести, постоянные самоограничения. Да одни наши службы на ногах чего стоят. А кто не выходил с исповеди в слезах? И не всегда это бывают слезы облегчения. Хотите знать, почему православные плачут? Приходите к нам. Наплачетесь – узнаете.
Вы можете придти к экстрасенсу, и он гарантирует вам исцеление. Кстати, вполне возможно, что и не обманет. А если вы придете в Церковь – вам ни кто ни чего не гарантирует. Вы закажете освятить новую машину, и батюшка вам скажет: "Я машину освящу, но вы понимаете, что она завтра может сгореть? Причем, именно потому, что я ее освятил. Может быть, вам полезнее не иметь машины, чем иметь? Нет, не факт конечно, может быть с вашей машиной еще много лет все будет нормально. Причем, именно потому, что я ее освятил. Неизвестно".
И вот вы посмотрите, православных их Церкви палкой не выгнать. Так что же их там держит? Что дает им вера? "Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика". Скажу за себя.
С содроганием вспоминаю тот период своей жизни, когда я считал себя атеистом. Меня всегда угнетало ощущение полного отсутствия смысла в том, что с нами происходит. Ну родились, ну живем. Это очевиднейшим образом ни на что не направлено и ни к чему не ведет. В масштабах вселенной земная жизнь – не более, чем тонкий слой плесени, покрывающий одно из бесчисленных небесных тел. Интеллектуальные занятия казались мне такими же бессмысленными, как и тяжелый труд до седьмого пота. Искусство – столь же бесцельным, как и стяжание материальных благ. Мне казалось, что все люди просто играют в игрушки, то есть придумали себе некие абсолютно бессмысленные занятия, лишь бы время убить. И в этом смысле гениальный писатель ни чуть не лучше безграмотного тракториста, просто у них игрушки разные. Все "смыслы жизни" держатся на самообмане, люди просто договорились считать свои занятия имеющими смысл, чтобы не сойти с ума, и стараются не думать о том, что во всем их существование нет ни капли смысла. Почему люди так дорожат жизнью? Ведь если за гробом ни чего нет, значит еще ни один человек не пожалел об утрате жизни.
Атеисту вообще очень опасно думать о смысле жизни. Он либо начинает нести полную ахинею, либо впадает в тотальное отчаяние. У меня с ахинеей не получилось. Эта "теория абсурда" и сейчас кажется мне вполне логичной и адекватно отражающей картину бытия, если устранить из нее Бога. Я ни когда не умел и не хотел обманывать себя, то есть с отчаянием у меня все было нормально.
Почему я не верил в Бога? Да просто потому, что ни чего не знал о религии. В эпоху государственного атеизма получить сколько-нибудь объективную информацию о религии было практически невозможно. Может быть, потому я сейчас это и пишу, что в моем религиозном выборе информация сыграла решающую роль, и я, наверное, переоцениваю эту роль, но это не удивительно, я всего лишь исхожу из личного опыта.
Мой атеизм рухнул, как карточный домик, едва я узнал, что Бог есть Дух, который наполняет собой всю вселенную. Первая мысль была: "Ну в таком случае, я могу верить в Бога". Понимаете, давно хотел, но не мог. Ну ни как я не мог поверить в старика, который сидит на облаке и управляет земными делами. Религиозные представления безграмотных старушек были антропоморфны, атеистическая пропаганда била именно по антропоморфизму, и я поневоле был вынужден встать на сторону атеизма, потому что он доказывал отсутствие человекообразного бога, которого и на самом деле нет.
И вот все прояснилось. Вышла наружу та правда, которую от меня скрывали. И весь мир до краев тут же наполнился смыслом. Не напрасно поют птицы. Не напрасно шумит морской прибой. Не напрасно человек строит дом. Не напрасно помогает ближнему. Человек созидает свою душу – нечто вечное, неразрушимое. Человек трудится в соавторстве с Самим Творцом Вселенной. Мы не тонкий слой плесени на случайном небесном теле в периферийной галактике. Мы – друзья Творца Вселенной. Он знает все про каждого из нас. Он любит нас, помогает нам. И Он приглашает нас к Себе, в царство высшего идеального совершенства. Наша жизнь – это путь к Нему. В этом ее смысл.
Вот что дает мне вера – ощущение смысла. Ощущение величайшего смысла, которым исполнено все, что происходит с нами и со мной. Православие – абсолютно универсальная идеалогия. Оно дает ответы на все без исключения вопросы. Оно объясняет, как надо вести бизнес, как надо воспитывать детей, какой должна быть государственная политика и многое другое. Православие – Богодарованная истина. Постичь ее целиком невозможно, но постигать ее – высочайшее счастье.
Что дала мне вера? Да все! Весь мир! Я теперь знаю, как это работает, как тут все устроено, а самое главное – зачем? Мне открыты высшие тайны бытия. А я всего лишь обычный, очень средний человек. И в духовном развитии я отстаю от большинства известных мне православных людей. У меня дух захватывает от мысли о том, что известно святым, если даже открытая мне крупица истины кажется безграничным сияющим миром.
Однажды на вопрос, что дает мне вера, я ответил вопросом: "А что дает вам закон всемирного тяготения?" Очевидно, ни чего. Закон просто надо знать и учитывать. Вы в курсе того, что, выпрыгнув из окна, полетите не вверх, а вниз. Закон ни чего не дает, это просто отражение объективной реальности. Но то, что вы знаете закон, и то что вы действуете с учетом этого знания, спасает вам жизнь.
Православие – свод объективных законов духовного мира. Православная Церковь – не клуб по интересам, членство в котором может что-то давать, а если нет, то вы выбираете другой клуб, или не вступаете ни в какой. Церковь позволяет нам жить в соответствии с теми законами мира, которые действуют совершенно независимо от нашего желания и одобрения. Абсурдно говорить: мне не нравится ваша вера, поэтому я ее не принимаю. Ну а мне, предположим, не нравится закон всемирного тяготения. Неужели от этого что-то меняется?
Если мы выбираем ту веру, которая нам нравится, значит мы просто выбираем себе хобби. Объективные законы реальности не выбирают. Их познают, открывают. А если мы говорим – мне этот закон не нравится, он мне ни чего не дает, я его не принимаю – последствия не замедлят сказаться.
***
Диалектический материализм глаголет, что "материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях". А вера это и есть те самые ощущения, которые отражают объективную реальность, только не материального, а духовного плана. В мире науки существуют различные теории, ученые спорят меж собой не о том, кому какая теория больше нравится, а о том, какая отражает объективную реальность. Различные религии это тоже различные теории, в той или иной мере отражающие, либо вовсе не отражающие объективную реальность. Бывают ошибочные религии. И если нам предлагают доказать, что наша религия действительно есть свод объективных законов мира, то это логично.
Если мне задают вопрос, который ставит под сомнение объективность моих убеждений, я не могу просто взять и отмахнуться от него. Я просто обязан допустить, что оппонент может быть прав, а я не прав. Меня спрашивают: "А с чего вы это взяли?" Что я должен ответить? "Мне так кажется"? Или "так в книжке написано"? Или "мне так священник сказал"? Или "я в это верю"? Тогда мне обязательно ответят: "Если кажется, то это галлюцинация. В других книжках написано прямо обратное. Послушали бы вы муллу, раввина или гуру – думали бы иначе. А верить может мальчик в то, что девочка ни когда его не разлюбит".
Сколько людей утратили веру, потому что столкнулись с умными оппонентами или такими фактами, которые не смогли объяснить, исходя из своей веры. Сколько людей, сверкая пятками, убегали от полемики, позоря свою веру, или на аргумент отвечали ударом в челюсть, позоря свою веру еще больше. Я не хочу оказаться в одной из этих позиций. Я ищу ответы. Иначе я не смогу дать достаточное удовлетворение моей честности.
Мне могут сказать: ты искал смысл и удовлетворил себя самообманом. Прежнюю ложь ты обменял на новую ложь, потому что в новой лжи тебе уютнее, комфортнее. Ты придумал себе смысл, потому что тебе этого очень хотелось. И что я отвечу? А я хочу ответить на все по пунктам.
Кому Церковь не Мать…
Однажды юморист Михаил Задорнов на вопрос о своем отношении к религии сказал: "В Бога верю, в посредников – нет". Сказал, как припечатал. Сила таких чеканных формул очень велика. Как-то маленький человечек забрался на трибуну и картаво прокричал: "Мир народам, фабрики рабочим, землю крестьянам". Россия после этого 70 лет умывалась кровью и слезами. Слова Задорнова еще разрушительнее. И вот ведь что печально: их невозможно опровергнуть так же коротко и впечатляюще. Для того, чтобы развеять чары "магии простых решений" приходится выражать мысли, которые куда сложнее магических выкриков. Но что же делать? Не молчать же.
Итак, главный вопрос: нужны ли человеку посредники для общения с Богом? Нет, не нужны! Любая чистая искренняя молитва уже соединяет человека с Богом. Эта молитва может выражаться в самых бесхитростных словах, она может быть произнесена на любом языке, не обязательно на сакральном, ее можно творить в любом месте, и Бог услышит и установится связь между тобой и Творцом вселенной.
Зачем же тогда нужны священники? Так дело в том, что это совершенно не посредники. Что такое посредник? Это такая фигура, минуя которую невозможно установить с кем-либо непосредственный контакт. Производитель товара не может отдать свой товар непосредственно в торговую сеть, он вынужден действовать через посредников. Человек с улицы не может, когда захочет, зайти в кабинет к губернатору, не может просто позвонить ему и договориться о встрече. Он вынужден действовать через посредников: одни запишут или не запишут его на прием, другие потом в приемной пропустят или не пропустят его.
И вот теперь представьте себе, что вы идете к Богу, и у вас на пути стоит батюшка с растопыренными руками и ехидно заявляет: "Нет, чадо, со мной будешь договариваться. Если я не захочу, так ты к Богу ни когда не попадешь". И начинает этот зловредный поп ставить условия. И ни как его не объехать, не обойти. И Бог ни когда тебе не поможет, Он даже не узнает о твоем существовании, если не будет на то воли священника. Смешно, да? Вы над юмористом нашим посмейтесь.
Кажется, любому дураку понятно, что при обращении к Богу и для получения помощи от Бога священники при всем своем желании ну ни как не могут играть роль посредников. В чем же тогда роль священников? Это, условно говоря, лица уполномоченные Богом для оказания людям помощи.
Представьте себе такую ситуацию. Вы прямо с улицы заходите в царский дворец, проходите по всем коридорам и никто вас не останавливает, вы беспрепятственно попадаете в царские палаты, где вас ждет царь. Царь ждет вас в любое время, заранее о встрече договариваться не надо и в приемной толкаться нет необходимости. Вы излагаете царю свои проблемы, он говорит, что во всем вам поможет и эту помощь вы получите от его слуг. Вы идете к царевым слугам с грамотой от царя и получаете все, что вам велено дать. Разве слуги тут играют роль посредников?
Но вот представьте себе, что вы начинаете капризничать: "Я хочу все получить лично из царевых рук". На этот каприз вам резонно отвечают: "На то у царя люди поставлены". Вы не хотите идти к этим людям? Но ни кто бы так не стал выделываться в отношениях с царем земным. Почему же мы начинаем выделываться в отношениях с Царем Небесным? Неужели не понятно: кто презирает царских слуг, тот выражает презрение царю.
Таинство крещения открывает нам доступ ко всем другим таинствам, а в таинствах мы получаем дары Духа Святого. Это не батюшкины дары, а Божьи. Батюшка тут играет лишь роль служебную, техническую.
Конечно, некоторых батюшек иногда заносит, они начинают выставлять себя этакими "распорядителями благодати". Помню, архимандрит Тит гневно обличал диакона Андрея Кураева, на что последний резонно ответил: "Благодать Божия безусловно не равна благословению батюшки Тита". Есть такая проблема. Иные царевы слуги, привыкшие оглашать царскую волю, постепенно перестают понимать разницу между собственным словом и словом царским. Но со Своими слугами Царь Небесный разберется Сам, на нас Он такую задачу не возлагает. И жаловаться Царю Небесному на Его слуг не надо, Он, в отличие от царя земного, всегда в курсе всех проблем. А мы в любом случае должны относиться к слугам Царя Небесного с почтением, потому что этим мы выражаем почтение к Царю.
Вы все-таки не хотите идти к священникам, вам интересно, нельзя ли спасти душу без таинств? Теоретически можно, практически – мало вероятно. Да и что это за безумие? Господь предлагает вам помощь на тяжелейшем жизненном пути. И то еще не факт, что вы сумеете разумно этой помощью воспользоваться, не факт, что даже с таинствами спасетесь. А вы спрашиваете: нельзя ли без таинств, без помощи? Мы такие крутые гиганты, что и так все могём. Сущее безумие.
Итак, мы приходим к Богу не через священников, а напрямую, а Бог посылает нас к священникам. А вот Задорнова он почему-то к священникам не послал. Ну тогда я сомневаюсь, что он разговаривал с Богом. Нам юморист говорит, что верит в Бога. Но я – таки думаю, что это не правда.
Спасутся ли иноверцы?
Помню, у митрополита Кирилла (ныне – патриарха) спросили в телепередаче: "Спасутся ли иноверцы?" Владыка улыбнулся и ответил: "Да откуда же я знаю". Меня, тогда ревностного неофита, до крайности возмутил этот ответ. Как же можно хоть на минуту допустить, что возможно спасение без Христа? Потом я много лет об этом думал, сопоставлял, сравнивал различные мнения и наконец понял, что владыка был прав. Единственный правильный ответ на этот вопрос: "Не знаю". Нам не известно, как рассудит Господь.
Начнем с вопроса полегче: могут ли спастись христианские еретики, католики, например, или протестанты, которых мы теперь стали ласково называть инославными? Тут главное, что надо понять: слово "еретик" уже означает "христианин", потому что иначе это был бы уже не еретик, а иноверец. Все, кто исповедует Христа, как Сына Божия – христиане. Православная Церковь признает крещение католиков и традиционных протестантов, то есть крещенных во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, они для нас – христиане. Как же мы можем полностью исключить возможность спасения христиан?
Святитель Феофан Затворник мудро сказал по этому поводу: " Не знаю спасутся ли католики без православия, а я точно не спасусь". Человек, который видит свои грехи, хорошо понимает, что даже в православии спастись не так-то просто. Исповедание веры истинной – отнюдь не гарантия спасения души. Если же еще и веру исповедовать искаженную, то спасение психологически представляется уже и вовсе невозможным. Если, скажем, человек не уверен, что дойдет до цели с грузом в 20 кг, так спросите у него, дойдет ли он с грузом 40 кг? Он обязательно ответит: "Точно не дойду". Но спросите у него: "А другие смогут дойти с грузом в 40 кг?" Он ответит: "За других сказать не могу". А "не могу сказать" означает "не исключено возможности". Может быть, другие сильнее?
То есть, спастись в католицизме гораздо труднее, чем в православии, но все же возможно. Может быть, на душу иного католика полсотни ересей, которые есть в их вероучении, не оказали существенного воздействия, как-то они в нем не привились, оказались ему психологически не близки. Одновременно, здоровый и здравый компонент католицизма, то есть компонент собственно христианский, произвел в его душе большую работу. И кого мы имеем в итоге? Православного. А вот душа иного православного, напротив, чистоты нашего вероучения отнюдь не впитала, одновременно с этим в околоцерковной, псевдоправославной среде он нахватался мнений откровенно еретических, ни когда не бывших частью церковного учения, и вот эти-то псевдоправославные мнения определили характер его религиозности. Кого мы имеем тогда? Еретика.
Вывод напрашивается страшноватый, но бесспорный. Среди католиков есть настоящие православные, а среди православных есть сущие еретики. Значит, граница между Православной и Католической Церкви не отделяет с жесткой однозначностью еретиков от ортодоксов. Понимание этого должно побудить нас как минимум к большей осторожности в оценках.
Как-то я прочитал замечательную книгу Честертона. Это еретическая книга? Если судить по Аристотелю, только так. Силлогизм выстраивается безупречный. Честертон – католик, католицизм – ересь, следовательно, Честертон – еретик. Но в православии "Аристотель" частенько не срабатывает. Честертон проповедует не католицизм, а чистое христианство. Мне не удалось обнаружить в его книге ни каких признаков ереси. Возможно, некоторые отклонения от православия я у него просто не доглядел, у меня не самый зоркий глаз на свете. Вполне допускаю, что книга Честертона – не самый чистый образец ортодоксии. Но тогда у меня следующий вопрос: блаженный Августин – православный? Ну кто же в этом сомневается? Имя блаженного Августина мы находим в списке православных святых. Его "Град Божий" сейчас издают православные издательства. Он жил задолго до разделения Церквей, так от чего же он не православный? А дело в том, что в трудах блаженного Августина есть значительное количество очень серьезных богословских ошибок, причем таких, которые содержат зерна будущих католических ересей. Блаженный Августин – классический носитель того типа западного, латинского мировосприятия, которое и породило католицизм. Но мы говорим по этому поводу: "Да, у блаженного Августина были ошибки, мы его ошибок не разделяем, но считаем его своим. Кто не ошибается?» Вполне согласен с этой точкой зрения, но ведь Гилберту Честертону, Франсуа Мориаку и Жоржу Бернаносу, то есть католическим авторам ХХ века, мы не простим и десятой доли ошибок блаженного Августина. Мы тут же возопим: ну вот же, смотрите, у них ересь просто из ушей прет. Нельзя православному человеку такое читать.
Так в чем же принципиальная разница между бл. Августином, св. Амвросием Медиоланским с одной стороны и Честертоном, Мориаком, Бернаносом – с другой стороны? Да в том, что одним посчастливилось умереть до разделения церквей, а другие родились уже после. А ведь книги их могут быть исполнены одного духа, то есть не совсем нашего, но все же нашего. Не факт, что это так, но надо разбираться, а не судить исключительно по формальному признаку.
А Бернара Клервосского допустимо ли считать святым? Формально – не допустимо. Какой он святой, если он еретик? Но вы прочитайте его житие, и вы увидите святого. Может быть, что-то в его житии покажется вам диким? И вы скажете: вот он, безобразный лик католицизма. А в житиях православных святых ни что и ни когда не казалось вам диким? Св. бл. князь Андрей Боголюбский разорил Киев со всеми его святынями. Св. бл. князь Александр Невский резал своих, чтобы угодить татарам. На ересь это невозможно списать, князья-то православные, значит надо их жестокость тонко объяснить с православной точки зрения. А жестокость Бернара Клервосского объяснять не надо, нам легко интерпретировать ее, как естественное следствие того, что он пребывал в католической ереси.
Я искренне считаю наших благоверных князей святыми, но я думаю, что к "чужим" надо относиться с таким же внимание и пониманием, и тогда может оказаться, что значительная их часть вовсе не чужие для нас. На вопрос о том, был ли св. Бернар Клервосский святым, правильный ответ: "Не знаю". Нет у нас достаточных критериев для ответа на этот вопрос.
А иногда эти критерии есть. Католики, которые уже в ХХ веке приняли смерть за Христа в Индии – святые. Такую смерть Господь дарует только настоящим христианам. Вы понимаете, что это значит? Католики-мученики принадлежали (и принадлежат!) к Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Сие бесспорно, ибо засвидетельствовано кровью. А ведь при их жизни многие православные ткнули бы в них пальцем – еретики. Сколько из "ткнувших пальцем" лишь формально православные, а по сути – еретики? Сколько еще своих среди чужих и чужих среди своих? Я отнюдь не уравниваю в достоинстве Православную Церковь и еретическое сообщество. Я лишь призываю к максимальной осторожности при оценке конкретных личностей.
Размышляя о последних временах, я как-то подумал, что при Антихристе уже не будет иметь значения, к какой именно из конфессий принадлежит христианин. Не будет больше ни православных, ни католиков, ни протестантов. Останутся лишь сохранившие верность Христу и предавшие Христа. Даже догматические различия, которые я считаю сверхважными, тогда уже не будут иметь значения. Ведь искажения догматов страшны не столько сами по себе, сколько тем, что в перспективе проводят к страшным искажениям духовности. Но когда всей земной перспективы останется на год – два, можно будет позволить себе роскошь уже не думать об этом. Тогда появится абсолютный, бесспорный критерий того, чью душу ересь изуродовала, а чью так и не смогла, кто и в еретическом сообществе сохранил внутреннюю верность Церкви.
Я убежден, что среди сохранивших верность Христу, большинство составят православные, но будут там и католики, и даже протестанты. Антихрист вытянет к себе, к своему престолу, всю гниль из каждой конфессии, а чистые остатки всех конфессий сольются в единую Церковь. Этим и объясняется то, что в последней книге моей трилогии "Рыцари былого и грядущего", где речь идет о временах Антихриста, последние православные монахи встречают последних рыцарей-тамплиеров, как своих. Монахи знают, что если бы тамплиеры были чужими, они ушли бы к Антихристу.
На днях прочитал повесть об Антихристе Владимира Соловьева и был поражен тем, что он пишет о том же самом. Антихрист, сам того не желая, соединит чистые остатки всех конфессий в единую Церковь. Впрочем, я совершенно не согласен с Соловьевым в том, что Католическая и Православная Церкви уже и сейчас внутренне едины, осталось лишь добиться внешнего единства. Меня удивило, что такой глубокий мыслитель с таким поразительным легкомыслием игнорирует наши догматические расхождения. Говоря о противоречиях между нашими Церквями, он вообще не упоминает о догматике, словно полагая ее суммой пустяков. Нет уж, батенька, до тех пор пока у нас нет абсолютного критерия отделения чистых от нечистых, мы вынуждены ориентироваться на чистоту догматики. Мы вынуждены считать каждого православного православным, до тех пор пока не доказано обратное, а каждого католика – еретиком, пока не доказано обратное. Хотя иногда так хочется доказать, что иной католик – отнюдь не еретик.
А вопрос о возможности спасения для иноверцев еще более сложен. Легко сказать, что без Христа спастись невозможно. Это так, но ведь, может быть, иные нехристиане – со Христом, даже если сами о том не подозревают. Почитав тексты некоторых суфиев, я был поражен их внутренней, глубинной православностью. Далеко не все православные так глубоко понимают свою веру, как эти суфии. Так и хочется сказать, что высокие истины веры были открыты этим суфиям Духом Святым. Остерегусь от однозначных заключений, но вопрос бесспорно возникает.
Мы, порою, рассуждаем слишком линейно и примитивно. Праведники дохристианской эпохи безусловно спасли свои души. Ведь тогда еще не было Христа, они в этом не виноваты. А вот теперь, когда Евангелие проповедано по всей земле, когда каждый имеет возможность принять Христа, без Христа спастись уже невозможно. А понимаем ли мы, о чем говорим? Мы, выросшие в православной стране, едва душа испытывает порыв к Богу, принимаем именно православие только потому что оно – рядом. А человек – выросший в исламской стране, где вся жизнь в мельчайших деталях строится на шариате? Он даже дышит по шариату. Да, конечно, этот человек слышал, что где-то рядом есть христиане, но что для него значит пойти к ним и стать одним из них? Это значит, отречься от своих родственников и стать для них предателем, отречься от своего народа, от многих поколений своих предков, отречься от своей культуры, от всех своих привычек, отречься фактически от самого себя, от своей личности, сформированной исламом. Возможно ли это? Да, возможно. Но это такой высокий подвиг веры, на который способен, может быть один человек из миллиона. Для обычного среднего человека это совершенно не посильно. А мы, обычные средние православные люди, отнюдь не совершившие ради православия такого подвига, высокомерно говорим мусульманам: "Ведь вы же имели возможность принять Христа. Вы сами не захотели. Вот и будете гореть в аду". Ну не бессовестно ли?
А представители диких африканских племен? Все они тоже будут гореть в аду только потому что в сотне миль от них жил христианский миссионер, и они имели возможность принять крещение? Вот если бы они жили две тысячи лет назад, когда миссионера не было, тогда некоторые африканские праведники могли бы спасти свои души, а теперь – фигушки. Халява кончилась.
Надо признать, что для нескольких миллиардов землян в наши дни возможность принять христианство является лишь формальной, фактически они этой возможности лишены, так же, как и люди, жившие до Христа. У иных эта вероятность может составлять лишь один шанс из тысячи. Неужели человеку гореть в аду, только потому, что он этим шансом не смог воспользоваться, хотя жил по закону совести? Наша православная совесть может принять такую версию? Если мы сделаем робкое предположение, что Христос предусмотрел для них некую возможность спасения души, не связанную с христианством? С самим-то Христом может быть и связанную, если эта возможность исходит от Него? Предположим, я сделал такое предположение. Надо ли меня на этом основании объявлять еретиком?
"Кому Церковь не Мать, тому и Бог не Отец". Я в этом твердо уверен. Я не сойду с этой точки зрения, потому что это было бы для меня полным мировоззренческим крахом. Но у меня возникают вопросы, связанные с радиусом действия этого утверждения. Оно явно в первую очередь касается еретиков и раскольников, которые покинули Церковь. Если в Церкви человек родился для духовной жизни, а потом покинул свою Мать, то неужели он думает, что Бог остался ему Отцом? Но если человек родился в Аравийской пустыне, ни когда не знал Церкви, но всегда искренне стремился к Богу, вам не кажется, что это другая история? Он ведь не враждует на Церковь, не предает ее, не отрицает. Он просто ее не знает. Ислам не учит любви, он учит покорности, а в сердце этого аравийца живет любовь. Разве это в нем не от Бога? Иной мусульманин почему-то чувствует и дышит, как христианин, явно научившись этому не у ислама. Он не принадлежит Церкви, но рискнете ли вы однозначно утверждать, что в его сердце нет Бога?
Меня пугают эти мои мысли. Не поддаюсь ли я соблазнам ложного гуманизма, пытался быть добрее Бога? Из этого соблазна выросло много ересей. Одни отрицают Ветхий Завет – на их вкус это слишком жестокая книжка, а Бог, дескать, не может быть таким жестоким. Другие говорят, что адские муки обязательно прекратятся, потому что иное противоречило бы милосердию. Третьи вообще считают, что ад – это такая метафора, а на самом деле после смерти всем будет хорошо. Нет, я не любитель распускать розовые слюни, я не берусь рассуждать о милосердии Божием, и уж тем более не склонен создавать какие-то свои теории. Но ограниченные, высокомерные фанатики, твердо уверенные в том, что ни кто кроме них спастись не может, это тоже не моя кампания.
Итак, спасутся ли иноверцы? Да откуда же я знаю?
Хорошие люди без Бога?
Вот живет человек без Бога. Не враждует на Бога, нет, и к верующим относится уважительно, но сам и мысли не допускает, что Бог может существовать. Он вообще добрый человек, всем старается помочь и удружить и ни каких больших грехов не совершает даже без угрозы адских мук. Но по-нашему получается, что он будет гореть в аду.
Среди своих знакомых я мог бы назвать несколько таких людей. Я всегда знал, что любой из них по-человечески лучше меня. Мне требуется усилие для того, чтобы не злиться, не осуждать других людей, чтобы придти кому-то на помощь, и ох как не часто эти усилия приводят к надлежащим результатам. А они и без усилий гораздо добрее меня. Я всегда был довольно жесток, оправдывая себя тем, что этого требуют честность и справедливость. А они и честны, и справедливы, и жестокости в них нет.
Но я – с Богом, а они – без Бога. Они совершили свой вполне сознательный выбор – жить без Бога. Значит, я имею надежду на спасение души, а они такой надежды не имеют. Я еще может быть и попаду в Царство Небесное, а им гореть в аду со всей неизбежностью.
Вроде бы я все правильно излагаю? Но почему-то мое нравственное чувство ни как не может с этим смириться. Неужели нормальные добрые люди, которые прожили жизнь по совести, обречены на ад? Даже самое спокойное и не слишком мучительное место ада – это ведь все равно ад. Так ли это на самом деле? Может быть, мы ошибаемся? Неужели возможно не задавать себе этих вопросов? Неужели возможно вот просто так взять и удовлетвориться бесхитростным разъяснением батюшки относительно того, что неверующие попадут в ад?
Нет, я не спорю с Церковью, ни когда не спорил, и никогда не буду спорить. Не хватало мне ко всем моим грехам еще и ересь прибавить. И вообще я не склонен к ереси и не люблю суемудрия. Умники, у которых по каждому церковному вопросу есть свое мнение, выглядят в моих глазах весьма подозрительно. И все же… Хорошо ли это, спокойно и бестрепетно, а то еще и с глубоким внутренним удовлетворением, принимать то утверждение, что всем атеистам уготован ад? Может быть, нас это даже радует? Тогда чего же стоит наша вера? Мы сами-то уверены, что мы на самом деле с Богом, если чье-то несчастье нас ни сколько не трогает, а то и вызывает злорадство?
Я много думал об этом, и мне кажется, что тут надо очень многое учитывать. Во-первых, стоит спросить, а можно ли вообще быть хорошим человеком без Бога? Все добро в этом мире от Бога, а без Бога-то какое может быть добро? Может быть, иной добряк-атеист только выглядит таким, а на самом деле у него в душе змеи ползают? Саму возможность существования атеистической нравственности можно поставить под большое сомнение. Если Бога нет, объясните мне, почему воровать не хорошо? Ведь это же очевиднейшим образом выгодно и полезно для того, кто ворует. И если Бога нет, то почему я должен думать о других больше, чем о себе? Атеистическая нравственность нелогична. Она не объясняет, почему человек не должен совершать дурных поступков. "Если Бога нет, то все позволено" – вот это как раз вполне логично.
Но если мы честно посмотрим вокруг себя, то заметим, что эта логика опровергаема опытом. Мы найдем не мало людей, которые на самом деле живут честно, хотя и не верят в Бога. Они вообще не думают о том, что это не логично. Они не воруют просто потому, что "воровать не хорошо". Звучит глупо, потому что ни на чем не основано, так и что? Ведь не воруют же. Иного верующего только страх перед Божьей карой и удерживает от воровства, даже с большим трудом удерживает, а рядом атеист не ворует безо всякого напряжения, и соблазна не испытывает, потому что имеет странное и крайне нелогичное отвращение к плохим поступкам. Он и жене не изменяет "потому что это не хорошо". И не мучайте вы его вопросом: "Почему не хорошо?" Он не ответит. Нехорошо и все. Глупо? Да. А человек-то честный.
Чтобы мы не говорили, а надо признать бесспорный факт: иные неверующие куда нравственнее иных верующих.
Эта нелогичность объясняется довольно просто. Божьи заповеди закрепляются в народе на уровне ментальности, они становятся национальной традицией. Потом значительная часть людей перестает верить в Бога, но остаются и ментальность, и традиции. И вот многие атеисты продолжают жить честно просто потому что "так принято". То есть православные предки продолжают оказывать большую услугу современным атеистам. Но как человек может остаться порядочным по одной только привычке, если ему Бог не помогает? Да в том-то все и дело, что помогает. Если бы Бог помогал только тем, кто верит в Него, этот мир не смог бы существовать. Бог не отвергает отвергающих Его, так же как и солнце греет одинаково и грешных, и праведных. Атеисты думают, что они без Бога, а Бог на самом деле с ними.
Вот отсюда и вытекает главная сложность в понимании этого вопроса. Если Бог продолжает заботиться о тех, кто в Него не верит, а они даже и без веры в основном соблюдают Божьи заповеди, тогда почему бы Ему и не взять их в Царство Небесное? Легко сказать: вы сами выбрали жизнь без Бога, как же Бог после смерти может взять вас к себе? Можно ведь ответить: а как же Он при жизни не оставляет своими заботами тех, кто Его не признает? Может быть, Он их и после смерти не оставит?