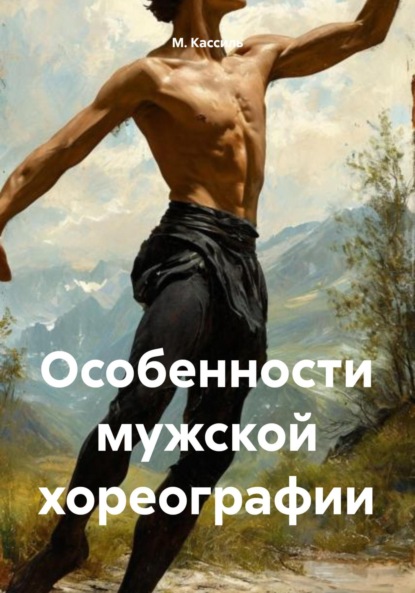
Полная версия:
Особенности мужской хореографии

М. Кассиль
Особенности мужской хореографии
Введение
Хореография – это не просто искусство движения, но и отражение культурных, биологических и психологических особенностей человека. Мужская хореография как область искусства требует особого внимания: она сочетает в себе мощь и техничность, пластичность и выразительность, часто играя ключевую роль в формировании образа на сцене.
Несмотря на то, что на протяжении веков мужчины были основателями, реформаторами и исполнителями в танцевальном искусстве, их роль в хореографии часто оставалась в тени женского идеала балетной грации. Сегодня, с развитием сценических форм и демократизацией искусства, мы наблюдаем возрождение интереса к мужскому телу в танце – его выразительным возможностям, уникальной физике и характерной манере исполнения.
Мужчина и танец – сочетание, которое в массовом сознании до сих пор вызывает вопросы, восхищение, иногда – смущение, иногда – восхищённый трепет. Привычные образы мужественности долгое время находились в противоречии с утончённой, одухотворённой природой сценического танца. Однако это противопоставление иллюзорно. Мужская хореография обладает собственным строем, логикой, эстетикой и глубиной. Она не «прикладывается» к общей картине, как деталь, а формирует самостоятельный пласт культуры движения.
Цель этой книги – не только обучить, но и показать, как через мужской танец может быть выражено целое мироощущение – от первобытного экстаза до современной рефлексии, от воинской поступи до философской паузы.
Хореография – это язык тела. Мужское тело говорит на этом языке по-своему. Его сила и напряжение, осанка и взгляд, вес и прыжок – всё это не просто физические параметры, а носители смысла. Разобраться в этом языке – значит научиться читать и писать внутри искусства танца.
Эта книга предназначена для хореографов, преподавателей, студентов, артистов и всех, кто стремится глубже понять природу мужского танца. В ней теоретические размышления сочетаются с практическими методиками, культурологическими отступлениями и с анализом конкретных упражнений и подходов. Главная мысль проста: мужская хореография – это самостоятельная система выразительных средств, требующая понимания, уважения и развития.
Учебно-методическое пособие ставит целью не просто систематизировать знания о мужской хореографии, но и сформировать целостное представление о ней как о важной, самобытной и глубокой сфере.
Глава 1. Историко-культурные предпосылки мужской хореографии
Мужчина в танце – фигура древняя. В первобытных племенах танец был частью обряда инициации, охотничьих или военных ритуалов. Сила, мужество, порыв и экспрессия были основами таких движений. Позже, в античной Греции, танец входил в палестру – систему мужского физического воспитания.
В Средневековье танец утрачивает сценическую функцию, но в эпоху Ренессанса вновь выходит на передний план – и именно мужчины становятся первыми профессиональными танцорами в королевских дворцах. На сцене XVII века господствует галантный танец, исполнение которого требовало от мужчин не только физической сноровки, но и утончённости.
В XVIII–XIX веках классический балет закрепляет типаж: мужчина – опора, женщина – эфемерный образ. Тем не менее, такие исполнители, как Вацлав Нижинский, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников и Хорхе Донн, взламывают этот канон, возвращая танцору его автономию, драматизм и физическую мощь.
Глава 2. Первобытные и архаические формы мужского танца
Танец признается исследователями источником ритуала. Первобытный человек не отделял тело от духа, движение – от смысла, ритуал – от действия. Мужской танец, вероятно, возник не как развлечение, а как форма включения в силу природы: танец дождя, охоты, войны, смерти и рождения. Он был жесток, точен, наполнен силой и страхом. Танец помогал «быть внутри мира» – соединиться с животными, небом, солнцем, душами предков.
Мужчины, как охотники и воины, нередко формировали отдельные хореографические ритуалы, подчеркивающие их статус. Часто это были круговые или линейные танцы, где ключевым был ритм, удар, повтор. В этих действиях закладывались архетипические движения: топот, взмах рук, пригибание, поворот корпуса, резкое замирание.
Танец служил для инициации тела как доказательства мужественности. В культурах, где мужчина становился таковым лишь после обряда инициации, танец был не просто ритуалом, но и испытанием. Хореографической задачей было выстоять, показать выносливость, ритмичность, влиться в движение племени. В некоторых традициях тело покрывали краской или татуировкой, превращая танцующего в знак. Мужское тело становилось движущимся тотемом.
Танец в таких культурах – это и игра, и бой, и молитва. Он обращён к небу и к земле, он связан с дыханием, с животным импульсом, с коллективным бессознательным. Хореография в этом контексте – это система доступа к сакральному через повторяющееся движение.
Танец также означал принадлежность к определенному мужскому сообществу и уровню власти. Во многих древних культурах мужской танец был не только ритуалом, но и символом иерархии. Танец царя отличался от танца воина. Вожди танцевали на пирах и в обрядах власти. В Индии существовал танец раджей, в Африке – шаманский танец старейшин, в Китае – церемониальные ритуалы, где мужской танец был вписан в государственный порядок. Танец показывал, кто есть кто.
Особенность мужской хореографии в первобытных формах – это сочетание жеста и намерения. В нём не было изящества в привычном смысле, но была мощь, которой не требовалось доказательств. Каждое движение происходило не для «красоты», а для установления порядка в мире.
Таким образом, мужская хореография восходит к сакральным ритуалам и испытаниям. Её структура основана на силе, ритме, символическом действии. Ранние формы мужского танца – это не искусство в эстетическом смысле, а телесная магия. Понимание первобытной хореографии помогает раскрыть глубинную природу мужского движения – не как производного от женского, а как самостоятельного выражения тела и духа.
Глава 3. Античность: танцующий гражданин и идеал тела
Пластика в ту эпоху была выражением духа. В античной культуре танец не признавался чем-то отдельным от жизни, как это стало позже. Он присутствовал в гимнасиях, на праздниках, в театрах, в военных ритуалах и в религиозных шествиях. Танец был не только развлечением, но и философией движения, а тело – формой мысли. Мужчина-танцор не воспринимался как нечто «особенное» – он был частью образованного человека.
В палестрах здоровое и сильное тело считалось выражением добродетели. А мужчины в основном тренировались в палестрах – учебных заведениях, где культивировалась гимнастика, борьба, ритм и пластика. Танец входил в систему подготовки гражданина: он развивал чувство меры, ритма, пропорции тела и души. Согласно мнению Платону, хорошая музыка и правильное движение формировали характер.
Танец в эпоху Античности был не женской прихотью, а мужским долгом: умение двигаться ритмично, гармонично, выражать своё состояние считалось высшей формой дисциплины. Тело, движущееся согласно Логосу, отражало Космос.
Мужчины играли в театре. В греческом театре танец был составной частью трагедий и комедий. Мужчины-актеры исполняли все роли, включая женские. Танец хора служил не фоном, а был смысловой тканью действия. Здесь жест, поворот, шаг несли повествовательную и символическую нагрузку. Пластика актера была строгой, масштабной, монументальной. В центре внимания были не украшения, а выражение внутреннего содержания.
В позднюю Античность нарастает кризис танца и телесности. В позднем Риме отношение к танцу изменилось. Появляется больше развлечений, гладиаторских зрелищ. Танец становится элементом шоу. Мужская хореография утрачивает свою сакральность, уступая место внешнему эффекту. Тем не менее, даже в период упадка римской культуры сохраняются линии воинской, ритуальной пластики, особенно в военных церемониях, маршах, процессиях.
Исходя из проведенного обзора места танца в античной культуре можно утверждать, что в Античности мужская хореография являлась методом воспитания гражданина и воина. Танец был связан с философией, гармонией, идеалом меры. Мужское движение считалось носителем смысла, а не только эстетическим удовольствием. Именно в Античности сформировались основы сценической и ритуальной пластики, на которые в дальнейшем будет опираться вся европейская хореография.
Глава 4. Средневековье и Возрождение: возвращение мужского тела
Танец во времена укрепления католического догматизма подвергся забвению и запрету. Средневековая Европа воспринимала тело с подозрением. Танец считался праздностью, иногда – грехом. Особенно подозрительно относились к движению мужчины, ведь оно могло выражать гордыню, искушение, бунт. Танцевальные формы сохранялись в народных праздниках, но на уровне «высокой» культуры движение мужчины уходило в подполье.
Однако именно в народных традициях сохранились мужские проявления хореографии. Топот, кружение, хлопки, боевые элементы закрепились в танцевальных традициях Венгрии, Шотландии, Руси. Эти танцы не были сценическими, но они сохраняли дух силы и свободы.
Тем не менее, формировались и рыцарские ритуальные танцы. Средневековый благородный рыцарь был не просто воином, но и участником таких ритуалов как турниры, балы, шествия. В них движения подчинялись церемонии, а не пластике. Тем не менее, важность осанки, шага, поклона – все это было результатом хореографической подготовки. Танец через рыцарские ритуалы постепенно превращается в социальную роль.
Мужчина должен был уметь двигаться с достоинством в доспехах, при оружии. Это формировало особую вертикальность и напряжённость мужской пластики.
Эпоха Возрождения связана с рождением сценической телесности. С XIV века начинается возврат к телу как к ценности. Человек вновь становится центром картины мира. В Италии появляются первые трактаты о танце (Джованнино да Фиезоле, Доменико из Пьяченцы), в которых описываются мужские танцы, манеры, структура движения.
Мужчина вновь становится исполнителем – не носителем греха, а выразителем гармонии. В придворных кругах Франции, Италии, Испании зарождается идея «учтивого мужчины» – того, кто владеет телом и словом. Это заложит фундамент для будущего классического балета.
Мужчина в те времена был призван выражать достоинство своей личности в танце. Танец в эпоху Возрождения – это язык иерархии. В нем важны благородство, спокойствие, точность жеста. Танцующий двигается как монарх: ни одного лишнего движения, все есть знак.
В результате, возникают придворные формы хореографии, в которых мужская пластика не агрессия и не изящество, а контроль и уверенность. Это хореография власти.
Таким образом, Средневековье ограничило мужской танец, но не уничтожило его. Народные формы сохранили элементы ритма, силы, праздника. Возрождение вернуло телу ценность, а мужчине – хореографическую субъектность. С этого момента танец становится частью личности образованного мужчины.
Глава 5. Классический балет и романтизм: становление мужского сольного тела
Происхождение академической формы балета связывают с XVII-м веком и Францией. Король-солнце Людовик XIV – не просто правитель, но танцор. Он исполняет роль Солнца в придворном балете и учреждает первую академию танца. Так начинается путь академической хореографии, которая вырастет в классический балет.
Интересно, что в самом начале балет был сугубо мужским занятием. Первые балетмейстеры, исполнители, наставники были мужчинами. Женщины пришли позже, и долгое время даже игрались мужчинами в женских костюмах. Первоначальный импульс балета – это мужское воплощение порядка, ритуала и силы, оформленной в точные движения.
Классический балет начал формироваться как геометрия во плоти в линии, оси, симметрии. Мужское тело стало центральным объектом дисциплины. Позиции, пор де бра, аллюры – все это создавалось на основе мужской анатомии.
Мужчина в балете – не украшение партнерши, а фигура балетного текста. Его функция всегда архитектурная, ритмическая, символическая. Он не «плывет», он держит структуру, как несущая балка.
В дальнейшем уже XIX век приносит с собой романтизм, и вместе с ним поворот к чувству и новую женскую фигуру: воздушную, мистическую, одухотворенную. Женщина в балете превращается в идею, а мужчина – в рассказчика, спутника, возлюбленного. Он становится опорой, смотрящим, ждущим. Это первая «ласточка» ухода мужского тела со сцены в тень женского.
Однако вместе с этим возникает новый тип мужской роли – драматический герой. Он уже не просто танцор, а персонаж. Танец становится театром. Мужчина страдает, ищет, борется, влюбляется, сходит с ума – и все это передает в движении.
Классический балет становится школой дисциплины, то есть начинают формироваться балетные школы как система воспитания танцора. Мужской танцовщик становится прежде всего носителем техники: прыжков, вращений, четкости, мощи. Он репетирует гран-при, кабриоли, антраша, то есть демонстрирует силу в рамках строгой формы. Это уже не спонтанный танец, а конструирование тела по канону.
В хореографии возникает следующее различие: женщина – вдохновение, мужчина – структура. И данное обстоятельство позже станет проблемой. Но в классике XIX-го века мужчина все еще активен, пусть и сдержан. В качестве примеров инициативности мужской хореографии можно привести Жана-Батиста Ландэ, Карло Блазиса, Мариуса Петипу.
Жан-Батист Ландэ – основатель русской балетной школы. В его постановках мужской танец трактуется как выразительная система тела и духа.
Карло Блазис – теоретик, который впервые систематизировал классические позиции и движения. Он заложил основу технической школы для мужчин.
Мариус Петипа – создатель золотой эры русского балета. В его постановках мужские партии еще значимы, особенно в сольных вариациях.
Однако с середины XIX-го века, особенно после появления пуант и балетных пачек, мужская фигура отступает. Основное внимание приковывается к воздушной балерине. Мужчина остается партнером, фоном, поддержкой. Это сужение роли начинает влиять на стиль и методику постановок: исчезает внутреннее содержание, остается техника.
Тем не менее, великие исполнители (Жюль Перро, Люсан Петипа) показывают, что мужской танец может быть философским и поэтичным. Просто он больше не в центре.
Итак, можно заключить, что классический балет сформировал техническую базу мужского танца: позиции, прыжки, структура. Романтизм поставил под вопрос значимость мужчины в танце, придав приоритет женскому образу. Мужской танец оказался разрываем между архитектурной ролью и драматической тенью. И к XIX-му веку возникла напряженность между техникой и смыслом, между служением форме и поиском собственного голоса.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



