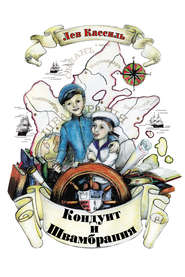скачать книгу бесплатно
«Дрррать вас надо, дрянь!».
Уроки. Уроки. Уроки. Классные журналы. Кондуит. «Вон из класса!», «К стенке!».
Молитвы, молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния.
Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл – отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до сих».
§ 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после семи часов вечера.
§ 20. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора для каждого раза. Безусловно воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гулянья и т. д.
Примечание: В г. Покровске таковыми местами являются: Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы.
Так было написано в наших гимназических «билетах», и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят: все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в кондуитный журнал. Штрафы, «безобеды», выговоры, исключения из гимназии… Страшная это была книга! Тайная книга. «Голубиная книга».
Есть такое предание, что «Голубиная книга» упала много веков тому назад с неба и написано было в ней будто бы про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять: слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой «Голубиной книгой» казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством. Никто не смел и думать о том, чтоб прочесть кондуитные записи.
Голуби-сизяки
Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В «Голубиную книгу», в кондуит, была вписана жизнь трехсот «диких голубей». Триста голубей томились в силке.
Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками, амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца.
Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу. Гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили. Справляли свадьбы, танцуя по Брешке. Лущили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волостном правлении «на сходку». И, если подымался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:
– Нэ треба!
Болота и грязь затопляли слободские улицы.
Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.
И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены «под три нуля», вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы.
Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинелей. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники (о, эти господствующие классы!) дрались с нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники.
Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Все-таки раза три случайно валялся без сознания.
На пустырях играли в особый «футбол» вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча.
Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы. Механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована «спешная почта», «телеграф». Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов.
Некоторые «назло учителям» нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили «на выпрямление». Дома же это были прямые, стройные парни.
В классах жевали макуху (жмых), играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы.
В классах жгли фосфор – для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно.
Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку – игрушка пищит. Учитель бегает по классу – пищит. Учитель обыскивает парты – пищит.
– Встаньте и стойте!
Класс на ногах – пищит.
Приходит инспектор – пищит. Весь класс сидит два часа без обеда.
Пищит…
Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями. Били городовых. Учителям, которых невзлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль: зинь-ицив…
Директор
Директор Ювенал Богданович Стомолицкий был худ, высок, несгибаем и тщательно выутюжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий Глаз».
Рыбий Глаз был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек (обязательно за козырек!) и низко кланяться.
Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш.
– Стой! – сказал директор. – Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует.
Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями.
Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры; все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать.
Любил Рыбий Глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом.
Директор садился у кафедры и следил за тем, чтоб вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом уж учителю.
В кондуите по милости директора были такие записи:
Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой внакидку. Оставить на четыре часа после уроков. Гавря Степан… был замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе (в два праздника).
(У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил.) Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором.
– Я доволен, милоштивый гошдарь, – шепелявил он директору. – Порядок у ваш обрашцовый.
Учительская
В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались «мы, божией милостью» – голубая лента, сусальная бородка, пробор с зачесом, ордена – «царь Польский и прочая и прочая». (Портрет царя висел напротив.) В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом «гусара в нос» богине. Богиня была старая и гипсовая. Звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом… Это Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строились безобразные рожи, показывались «носы», кукиши … Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, преклонялись перед храбростью озорников. Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее.
Он ловил нас на Брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтоб убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры дожи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход.
Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучела птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единиц и пятерок всех учеников – классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.
Инспектор
Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый, плотный человек. Волосы ершиком. Темные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости.
И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам.
– Дежурный, – спокойно-зловеще говорил инспектор, – а ну-ка, дежурный… закрой дверь. Тэ-э-эк-с.
Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут. Полчаса…
Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать:
– Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, брандахлысты, голубятники?! У-у, «хохландия»!.. Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, головотяпы! Шарлатаны! Галахи! Лодыри! Эй, чей это там дурацкий затылок? А-а, это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротишь? Сам – первейший оболтус! Ну, что? Стыдно небось, обормоты? Мерзавцы! Оборванцы! Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет. Щи горячие. Говядина жареная. Дух идет. – И инспектор щелкал языком и крутил носом. – Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома еще батька зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний кондуит по первое число… Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопаи! Го-ло-во-ре-зы! Безобедники! Срам!
И, поговорив так около часа, отпускал домой. По одному, с промежутками. Нас уже не держали ноги.
Агнцы и козлищи
Всех гимназистов Ромашов делил на «козлищ» и «агнцев». Так и знакомил нового преподавателя с классом.
– Садись, лоботрясы!.. Это вот, изволите видеть, – агнцы, зубрилки, пятерочники, дурохлопы. А вот тут – единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, «камчатка», «сахалин», «хохландия»… Алеференко! Спрячь живот в ранец. Выпятил!
Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между «пятерочным» – задним левым углом класса, и «двоечным» – передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа и сдувания.
Сказание об афонском рекруте
Восемь непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. Восемь загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите восемь раз:
Ученику… такому-то… объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные хулиганские проступки. Отметка в поведении за четверть 4– (4 с минусом). Двадцать часов лишения праздника. Предупреждены родители. Классный наставник такой-то (подпись). Надзиратель (подпись).
Восемь записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город. Но никому не известны развязка этой истории, ее конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Козодаве, Афонском Рекруте и шалманском дворце мадам Коленкоровны. Покойный гимназический сторож Мокеич поведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать.
Первый звонок
Лет восемнадцать назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, ну вроде тех, какие в уборной бывают. За ручки дергали. Но вот приехал в слободу (Покровск был тогда еще слободой Покровской) новый доктор, про которого говорили, что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал «Ниву» и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через пять лет не осталось почти ни одного домика с крылечком, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили. Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления: «Прозба не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка».
Покровчане гордились своим культурным звонком. О звонках говорили с нежностью и увлечением. При встрече справлялись о здоровье звонка:
– Петру Степановичу! Мое вам… Ну, як ваш новенький? Справил мастер?
– Спасибо, справил. О це ж и гарный звоночек. Милости просим послухать. Чистый канарей.
Свахи, расхваливая невесту, хвастали:
– Дом за ей дают флигерем, на парадном звонок ликстрический.
А слободской богач Млынарь завел у себя семь разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали большие звонки самого мрачного тембра.
Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за Афонским Рекрутом. Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим «звонковым мастером» в слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро – лучшее и поныне болото в Покровске, как Лазарь – лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как пожар амбаров – лучший из пожаров.
Шалман
Афонский Рекрут жил на базаре, у мясных, пахнущих кровью рядов, в шалмане. Так называли свое неуютное, грязное жилье обитатели его. Рядом с шалманом была большая яма. На дне ее вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочили петли кишок, комья требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скобяной ряд.
В шалмане жил Афонский Рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого роду-племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех, худ, гибок, подвижен, как вымпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные и черные усы. Левый ус загибался кверху, правый – книзу, и усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у Рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком – чем хотите.
Он был самым уважаемым человеком в шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видал его сердитым. Даже когда в шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи, – даже тогда ярче их блистала улыбка Афонского Рекрута. Он, словно из-под земли, появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал:
– Поштенный публик! Киляля! Последний новейший фокус-покус черной, белой и полосатой с крапинками магии. Мадамы, мусьи и джентельмены! Атанде трошки! Гляйх их бин деманстре фокус-покус! Америк! Аллюра-шкидла!
Из кармана его летели коробки, шарики. Все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку, стоящую на носу, папиросы зажигались из рукавов. Живот пел женским голосом. А рваный ботинок разевал рот и говорил: мерси… В шалмане позабывали про ссору.
Хозяйство в шалмане вела полусумасшедшая Дунька Коленкоровна. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была безобидная мания навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на которых висели картинки из «Нивы», крышки чайных ящиков, рекламы папирос «Бабочка» и «Ю-Ю», ландриновские коробки, бусы, бумажные цветы, карты, обрывки сбруи, сломанные ложки. В городе его любили как блаженненького и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и пестро, говорят:
«Ось! Понарядился, как Костя Гончар».
Любил заглядывать в шалман фараон Козодав – городовой, охранявший порядок на базаре. Козодав имел все, что полагается иметь образцовому городовому: свирепые усы, бляху, свисток, шашку-«селедку», хриплый раскатистый бас, нос сливой, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти Кости. Фараон заходил в шалман клюкнуть рюмочку у Коленкоровны, подуться в картишки и побеседовать «за жизнь» с мудрым коммивояжером Иосифом Пукисом.
А еще жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец-шарманщик Гершта, с попугаем, который умел тащить билетики «счастья», чахоточный китаец Чи Сун-ча и два друга, два вора – Шебарша и Кривопатря.
Черт и «младенцы»
По вечерам в шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не боясь нарваться на Цап-Царапыча, сыграть в «очко». Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по русскому, готовы ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латиниста за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чи Сун-ча.
– Какой зилая латыня, – говорил он, вырезая фестоны из разноцветной бумаги, – лас холосо, засем единиса?
Мы приносили в шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Взамен мы приобретали некоторые полезные сведения и навыки по части вырезывания замков, чистки ретирад и приемов одесского джиу-джитсу.
Но Афонский Рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались: связался, дескать, черт с младенцами, но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из «младенцев», Васька Горбыль, так отлупил Шебаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли «80000 лье под водой», нашли «Детей капитана Гранта», чуть сами не потеряли головы с «Всадником без головы». А потом Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, принес под полой и другие книжки. Затаив дыхание, слушал шалман о парижских коммунарах.
Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго.
Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая Биндюгова шайка. Когда в шалман неожиданно заходил Козодав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал:
– Слышь, гимназеры? Раньше как через полчаса не вылазьте. Ваш Цап-Царапыч по Брешке шныряет. Я тогда скажу, как можно станет.
Во саду ли…
В сентябре в Народном саду поредела листва, побурел кохий. Сад стал похож на вытертый воротник старой шубы.
В сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку.
Пятиклассник Ванька Махась гулял с гимназисткой. Сидящие на скамейке парни с Бережной улицы стали «зарываться».
– Эй, сизяк! Ты с нашей улицы девчонок не замай.
Махась отвел гимназистку к фонтану. Сказал:
– Я извиняюсь. Одну секунду. Я в два счета.
Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку, огораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатилась в одной общей, сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллее сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников.
Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление Цап-Царапыча окончательно прекратило побоище.
И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и Народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, но родительский комитет одобрил приказ директора.