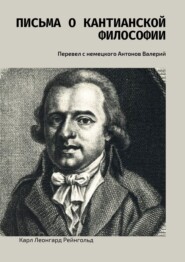скачать книгу бесплатно
Письма о кантианской философии. Перевел с немецкого Антонов Валерий
Карл Леонгард Рейнгольд
Перевод писем о философии Канта выполнен мной с немецкого на русский язык со следующих изданий: Briefe ?ber die Kantische Philosophie [Erster Band] (1790), Briefe ?ber die Kantische Philosophie, Zweyter Band (1792). Перевода второго тома писем по настоящее время нет ни на одно языке, кроме, естественного оригинала на немецком, приведенных выше изданий.
Письма о кантианской философии
Перевел с немецкого Антонов Валерий
Карл Леонгард Рейнгольд
Переводчик Валерий Антонов
© Карл Леонгард Рейнгольд, 2023
© Валерий Антонов, перевод, 2023
ISBN 978-5-0059-8310-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Аннотация
Карл Леонхард Рейнгольд (26 октября 1757 – 10 апреля 1823) был австрийским философом, который помог популяризировать работы Иммануила Канта в конце 18 века. Рейнгольд считается пионером в восприятии критической трансцендентальной философии Иммануила Канта в немецкоязычном мире. Он пытался превратить критическую философию в элементарную философию, в которой разум и чувственность выводятся из воображения. Своими центральными работами на тему « Попытка создания новой теории человеческого воображения» (1789 г.), «Вклады в исправление прежних недоразумений философов» (том 1, 1790 г.) и «Об основании философского знания» (1791 г.) он внес важный вклад в развитие философии немецкого идеализма. Знаменитым сделали его «Письма о кантианской философии» (1786—1787). Они дали ясное объяснение мыслей Канта, которые ранее были недоступны из-за использования Кантом сложного или технического языка. Сочинение Карла Рейнгольда к сожалению доступны только на английском языке. Недавно появилось несколько частичных переводов работ Рейнгольда: один, написанный Джорджем ди Джованни, отрывков из «Фундамента»; другой, Сабин Рор, фрагментов из «Сверхъестественного в Грундбегриффе и Грундсетце морали в аус дем Гешиштспункте о драгоценностях и основах веры»; и два, Йорга Ноллера и ДжонаУолш, выдержки из Бейтраге II и Вермиштера Шрифтена II, относящиеся к посткантовским дебатам о свободе воли. В 2005 году в серии «Кембриджские тексты по истории философии» был опубликован прекрасный перевод первой серии «Писем Рейнгольда о философии Канта», переведенный Джеймсом Хеббелером и отредактированный Карлом Америксом. Кроме того, в настоящее время ведется перевод второго тома писем Рейнгольда о философии Канта на английский язык.
В 1998 году философия Рейнгольда была предметом международной научной конференции – первой подобной конференции, посвященной Рейнгольду, – в Бад-Хомбурге, Германия. Вторая международная конференция Рейнхольда была проведена в Люцерне, Швейцария, в 2002 году; третья – в Риме, Италия, в 2004 году; четвертая – в Монреале, Канада, в 2007 году; пятая – в Зигене, Германия, в 2010 году; и шестая – в Киле, Германия, в 2017 году.
Данный перевод писем о философии Канта выполнен мной с немецкого на русский язык со следующих изданий: Briefe ?ber die Kantische Philosophie [Erster Band] (1790), Briefe ?ber die Kantische Philosophie, Zweyter Band (1792). Перевода второго тома писем по настоящее время нет ни на одно языке, кроме, естественного оригинала на немецком, приведенных выше изданий.
Том первый
Предисловие
Следующим намерением писем, собранных в настоящем томе, было уже не пригласить моего друга к изучению философии Канта, а облегчить ему эту задачу в отношении той части этой философии, которая имеет для него самый непосредственный интерес, которую он считает понятой лучше всего и которая, тем не менее, как мне показалось, требует для него наибольшего обсуждения. Критика практического разума нашла в его сердце толкователя, который столь же безошибочен, сколь и готов, но которого, тем не менее, можно неправильно понять, если оставить его наедине с простыми утверждениями даже в тех случаях, когда следует искать их основания. Причины следует искать в них. То, как мой друг начал использовать некоторые выражения и фразы из этой важной работы, не оставляло у меня сомнений в том, что в его новых убеждениях нравственное чувство нередко торопило философский разум. Я видел, как он применял утверждения, которые, по замыслу кенигсбергского философа, должны были быть лишь предварительными объяснениями, как объяснения и принципы, и тем самым ставил себя перед необходимостью находить ту же систему, которая, взятая в целом, удовлетворяла его сверх всяких ожиданий, противоречивой в некоторых отдельных частях. Убедившись, что я не могу никаким другим способом устранить возникающие из-за этого опасения, я решил попытаться дать ему всю систему.
Я решил попытаться показать ему всю основу новой моральной философии с точки зрения, которая полностью отличалась бы от точки зрения Канта, и с помощью, которой он был бы вынужден внимательнее присмотреться к тем ее частям, которые до сих пор были слишком близки для его взгляда, и к тем, которые он, казалось, едва замечал в темной дали. При этом я пошел по следующему пути. Некоторые довольно распространенные и глубоко укоренившиеся предрассудки против философии Канта в целом, на которые обратил мое внимание мой друг, стали для меня поводом подготовить его к ходу и методу моих будущих размышлений в первом письме.
Предварительные знания, развивая которые я затем берусь осветить новое философское понятие о нравственности, распадаются на внешние и внутренние.
Первые предшествуют подробному изложению этой концепции и определяемых ею принципов морали и естественного права, что составляет содержание шестого письма, вторые – пятого. Здесь, обсуждая конфликт между различными философскими концепциями долга и права, а также разногласия между принципами морального и гражданского права, а также науками естественного и позитивного права, я стремлюсь сделать очевидной необходимость определенного понятия морального права и показать, что недоразумения, которые особенно вызывали и способствовали этим разногласиям, устраняются концепцией, установленной Кантом.
Внутренние предпосылки этой концепции, которые, после всего, что было сделано в трудах Канта в ее пользу, еще предстояло (или еще предстоит) открыть, касаются особенностей воли.
Внутренние предпосылки этого понятия, которые, после всего, что было сделано в трудах Канта в его пользу, все же еще предстоит обнаружить (или еще предстоит), касаются особенностей воли, того, чем ее свободное действие отличается как от действенности простого разума, так и от непроизвольного желания. В силу аналитического хода, к которому привязан философствующий разум в прогрессивном развитии основных способностей разума, эти характеристики могли быть найдены только после предварительно определенного понятия о своеобразных законах воли, которое впервые было выставлено Кантом. В «Критике практического разума», как и в «Основоположении метафизики нравов», они не ошибочно предположены, но они совершенно не разработаны, и установление их определенных понятий стало возможным только благодаря этим работам, но столь же легко, сколь и безвозвратно. Отсутствие этой определенности заявило о себе во всех дошедших до меня сочинениях, в которых теория морали Канта либо осуждается, либо используется, и в которых действительная и безусловная свобода воли, которую Кант утверждает по каждому поводу, даже друзьями его философии, либо отвергается как нечто немыслимое, либо прямо ограничивается только морально добрыми поступками, либо, по крайней мере, перенося ее на самодеятельность разума, мыслится таким образом, что она может быть распространена на морально злые только по непоследовательности.
Повторения, которые я счел нужным позволить себе в подробном обсуждении этой концепции, содержащемся в восьмом письме, вызваны, а возможно, и оправданы многообразными недоразумениями, с которыми мне пришлось столкнуться из-за различных старых и новых принятых концепций.
После этой проработки я смог быть еще более кратким в девятом и десятом письмах, где мне пришлось спасать эту концепцию от прежних метафизических представлений о душе и прежних оснований для веры в существование Бога.
Одиннадцатым письмом, в котором я использовал точно такое же понятие как ключ к истории моральной философии до настоящего времени, завершаются рассуждения, касающиеся внутренней возможности будущего согласия между самостоятельно мыслящими людьми относительно принципов этой науки.
Двенадцатое и последнее письмо призвано объяснить внешнюю возможность этого согласия.
Большая часть содержания этого второго тома была также опубликована в различных отдельных выпусках немецким «Меркурием» для предварительной оценки, и была частично исправлена, частично дополнена, а частично полностью переработана в соответствии с полученными таким образом воспоминаниями, а частично в соответствии с моими собственными более поздними прозрениями.
Йена, 1 октября 1792 года
Письмо первое
Дух нашего века и современное состояние науки предвещают общую реформацию философии. Итак, вы настаиваете, дорогой друг, на своем утверждении, что относительная культура духа нашего народа снижается в протестантской его части, в то время как в католической она возрастает?
Я могу спросить вас, учитывали ли вы в сравнении, из которого вы сделали этот вывод, с одной стороны, действительно большую быстроту, которая отступает с первым рвением, и, с другой стороны, кажущуюся медлительность, которая основана на оптической иллюзии и становится более заметной с развитием разума, как солнце, в той же мере, в какой оба поднимаются выше над горизонтом? – Вы один, по вашему заверению, только сравнили ход духа среди протестантов с собой и обнаружили, что он не просто движется медленнее, но действительно вот-вот отступит.
Многочисленные факты, о которых вам сообщает это явление, не открывают, однако, никаких утешительных перспектив на будущее в том ракурсе, который вы придали им в своем письме; и я признаюсь вам, что не нашел среди них ни одного, который бы я мог отрицать или в котором бы сомневался.
Но я также воздерживаюсь от всех возражений, которые я мог бы выдвинуть против сомнительности некоторых из этих фактов; потому что, по вашему утверждению, вы хотите, чтобы о вероятности судили больше по взаимодействию всех, чем по силе отдельно взятой причины.
Чтобы показать вам, что я вас полностью понял, я извлеку ваши самые существенные замечания из череды фактов и выводов, которыми вы сопроводили их в своем письме, и повторю их здесь своими словами.
С тех пор как (вы имеете в виду) свободное использование разума в делах религии стало терять для своих защитников славу запретного плода, на место былого рвения к правам разума пришло равнодушие, которое уже время от времени переходит в ненависть и презрение и грозит закончиться всеобщим недоверием. Те, кто еще не убежден, что разум в наше время зашел слишком далеко, по крайней мере, опасаются, что он зайдет слишком далеко, и либо снова ищут произвольные барьеры, либо изобретают для себя новые. – Исключительное право разума решать вопрос о значении Библии, это право, от признания которого зависит судьба всего протестантизма, оспаривается даже протестантскими теологами со рвением, которое должно было в немалой степени способствовать пробуждению старых надежд и институтов римского объединения.
Апелляции от разума к ощущениям, к здравому смыслу, к интуиции и чувствам, к чувству Бога и т. д. становятся все более шумными и частыми, и от каждого из этих угловатых судилищ получаются решения, направленные против наиболее обоснованных высказываний первых. – Наука, из которой все остальные, относящиеся к области собственно философии, заимствуют свои принципы, эта главная наука, которая с незапамятных времен составляла наиболее своеобразное и наиболее подходящее дело разума и обращением с которой Лейбниц, Вольф и Баумгартен оказали столько услуг самым благородным достижениям нашего века, одним словом, метафизика, пренебрегается таким образом, который составляет странный контраст с претензиями нашего века на почетное звание философского.
Как незначительное ветхое укрепление, она брошена на произвол врагов религии и морали, против которых она еще недавно служила самой надежной защитой. В настоящее время горячие энтузиасты и хладнокровные софисты, как никогда, заняты тем, чтобы на руинах этой науки заново поддерживать старые системы суеверия и неверия.
Партии натуралистов и натурфилософов становятся все более и более распространенными; и поскольку они учатся все более и более искусно использовать оружие, которым они боролись раньше и которое теперь, похоже, осталось за ними, они должны, скорее, не изнурять друг друга, а приобретать все новые силы в своей борьбе, расходовать силы человеческого разума бесполезными ссорами в ученом мире и увековечивать старое противоречие между словом и делом в морали.
Надежды благонамеренных людей на то, что этот злополучный спор разрешится при посредничестве разума, исчезают точно в такой же степени, в какой этот самый разум во многих других предметах человеческого знания, демонстрируют самые возмутительные образцы его эффективности и силы.
Ее, которую никогда не призывали в качестве арбитра по самым незначительным пустякам, обвиняют все громче в нарушении мира в самом важном деле человечества; и в то время как ее притворство…
О победе над старыми предрассудками с криками триумфа заявляют безбородые мальчишки: встают мужчины и в присутствии публики обвиняют их в государственной измене человечеству, доказывают, что они демонстрируют противоположное тому, что открывает Бог, и оттачивают, сами того не зная и не желая, изношенное оружие венной веры и неверия.
– Сравните наши академии наук и искусств с общественными и тайными обществами, которые под всевозможными названиями и предлогами работают над увековечиванием нашей незрелости, и чье отличие в том, что они имеют заранее намеченный авторитет, чтобы загнать разум в угол сразу с нескольких сторон; и судите, какая из этих двух столь противоположных видов обществ в настоящее время является более процветающей и активной?
У кого из двух больше участников, больше рвения в своих начинаниях и более многочисленная и восприимчивая аудитория для демонстрации? – Признавая, наконец, что у веселья и деспотизма, возможно, никогда не было столько поводов жаловаться на разум, разум никогда не имел столько оснований опасаться чего-либо плохого со стороны обоих. До тех пор, пока посредством протестантской Реформации он только устранял те предрассудки, которые противопоставляли свободу одного и произвол другого в иерархической структуре, он не имел против себя ничего, кроме неправильно понятого интереса обоих.
Но как только она пойдет дальше и утвердит принципы, рядом с которыми не может существовать ни празднество, ни деспотизм, нет ничего более определенного, чем то, что оба они соберут все силы, которые им дает их старое владение, чтобы подавить голос своего врага.
Скоро им не понадобится для этого никакого другого предлога, кроме постоянно растущих злоупотреблений, которые наш пишущий сброд практикует со свободой прессы и гласности, и которые в конце концов, вероятно, заставят даже более благоразумных служителей религии и государства рассматривать известные противоядия, отменяющие свободу одновременно с разнузданностью, как меньшее зло.
Вы попросили меня написать вам свое мнение о вероятном исходе всех этих явлений вместе взятых. Если я теперь признаюсь вам, что это мнение прямо противоположно вашему, то я знаю, что говорю вам что-то очень парадоксальное. Но я также знаю, что на данный момент ваше сердце на моей стороне, и поэтому надеюсь с гораздо большей вероятностью прийти к соглашению и с вашей головой.
Ваше письмо достаточно точно описало ту суету, в которой в настоящее время находятся дела разума в нашей стране в отношении религии; и как бы ни потеряли индивидуальные черты вашей картины в наброске, который я сделал с нее, я все же верю, что каждый более внимательный наблюдатель нашего века найдет и более поздние обстоятельства, относящиеся к нашему веку, так и их героев, а также некоторые из его собственных замечаний по этому поводу.
Каждое из отдельных явлений, которые в ней происходят, само по себе, само по себе вызвало бы у меня большую или меньшую тревогу; каждое из них заслуживает внимания всех гуманитариев, и большинство из них уже привлекли это внимание.
Только рассматривая их в целом, в их взаимосвязи друг с другом, причинами и основаниями, я чувствую себя обязанным рассматривать их как надежных предвестников одной из самых масштабных и благотворных революций, когда-либо имевших место одновременно в научном и моральном мире.
Поскольку причины и основания этих явлений лежат не только в области теологии, мне придется пойти немного дальше, чтобы оправдать свои обвинения против вас.
Я должен буду решить вопрос о так называемых знамениях нашего времени, которые вы упомянули, и которые принадлежат к одному классу в той мере, в какой они касаются религии, с другими явлениями, которые с таким же основанием можно назвать знамениями нашего времени, но которые, по общему признанию, принадлежат к другим классам; одним словом, я должен буду ответить на ваше описание состояния нашего Просвещения в вопросах религии картиной, которая имеет не менее обширный предмет, чем – дух нашего века.
Давайте договоримся, прежде всего, о значении, в котором я хочу, чтобы это выражение, столь двусмысленное и столь часто употребляемое, было принято в дальнейшем.
Посредством очень естественного способа представления— в отношении, которого даже наши самые известные философы все еще далеки от согласия относительно того, могли ли они объяснить его простым обманом чувственности, или нет? – место, которое человек обычно отводит своему "я", – это не что иное, как центр вселенной.
Отсюда следует, что принципы и предрассудки высшего сословия, к которому принадлежит уважаемое "я" и которое описывает ближайший круг вокруг этого центра, очень часто называют духом нашего века.
Ученый по профессии обычно подтверждает преобладающие мнения о предмете своего исследования, а мещанин большого и прекрасного мира – вкус и тон своего окружения с этим многозначительным именем.
Первому редко удается добиться того, чтобы его система была принята его коллегами по гильдии, большая или лучшая часть которых настроена против него; в то время как второго вряд ли можно опровергнуть в его убеждении, что он поддерживает, если не утверждает, тон в своих кругах.
Из этого можно понять, почему последний обычно находит esprit de son tems (дух своего времени ) столь же просвещенным и приятным, как второй находит genius saeculi (гений века)злым и отвратительным.
Я ищу дух нашей нации в ее душе, которая, конечно, в определенном смысле распространена по всему телу, но которая имеет свое фактическое место только в том классе умов, который предпочтительно называют мыслящим классом, и который, следовательно, не привык притуплять свою силу мысли односторонним занятием своей памяти, не развлекать свое воображение в вечной дреме мечтами, или, самое большее, пробуждать его играми в остроумие.
Для вас, дорогой друг, привыкшего оценивать истинную ценность наций, как и отдельных людей, по характеру и степени их жизненных сил, не может быть безразличным знакомство с точкой зрения, с которой можно с первого взгляда увидеть мыслительную силу нашей нации в ее самой напряженной деятельности, в ее самых своеобразных проявлениях и в ее самых разнообразных занятиях.
Возможно, моя попытка найти такую точку зрения не будет для вас совсем нежелательной, высказанное особенно в свое время.
Мы вступаем в последнее десятилетие века, которое я не считаю чрезвычайно странным только потому, что оно наше, и которое особенно странно для Германии не иначе, чем через высшую культуру меняющегося духа, через значительный прогресс, которые наша нация сделала во всех областях науки и искусства, и благодаря важному званию, к которому она поднялась среди своих бывших сестёр. Будет ли она оставаться такой же, и если да, то в какой степени; останется ли она, как и каждая из ее сестер, на определенном уровне; или поднимется выше до уровня достойной школы остальной Европы, должно решаться главным образом в этом десятилетии.
Что это решение действительно должно произойти в этот период, и чем оно обернется, я могу только (но должен непременно) вывести из общего обзора явлений, которые, взятые в целом, характеризуют современное состояние наших мыслительных способностей.
Наиболее яркой и специфической чертой духа нашего века является разрушение всех доселе известных систем, теорий и способов представления, масштабы и глубину которого история человеческого разума не знает примеров.
С этой чертой связаны самые разнообразные, даже самые противоречивые признаки нашего времени, которые свидетельствуют о более чем когда-либо активном стремлении повсеместно утвердить новые формы, с одной стороны, и поддержать все старые – с другой.
Будет ли старое окончательно вытеснено новым, или последнее – первым; выиграет ли человечество в том или другом случае и что оно выиграет? Беспристрастный самостоятельный мыслитель обычно тем более не осмеливается принять решение, что не находит ни старые формы настолько бесполезными, ни новые настолько удовлетворительными, как их провозглашают фанатики с обеих сторон, которые, в зависимости от своей безусловной привязанности к старому или новому и от своих восторженных надежд или предчувствий, пророчат человечеству хорошую или плохую судьбу, исходя из духа низшей эпохи.
Тем не менее человек, мыслящий самостоятельно, меньше всего может удержаться от вопроса: Откуда возникла эта странная конвульсия и что из нее должно получиться? Удовлетворительный ответ на этот вопрос предполагает исследование, которое поднимается над ограниченной сферой видения отдельных субъектов, прослеживает силу мысли через самые благородные области ее деятельности, выделяет самые странные инциденты из каждой из них и помещает их все под точку зрения, которая в равной степени удалена от точки зрения восхваляющих и порицающих нашего века.
Педант судит о прогрессе человеческого разума в соответствии со своей точкой зрения на соответствующее состояние отдельного предмета, над которым он работает и который по этой самой причине является в его глазах самым важным из всех. Он желает человечеству счастья или жалеет его, в зависимости от того, считает ли он, что то, что он считает теологией, юриспруденцией, государственным управлением, наукой о войне, философией и т.д., развивается или находится в упадке. Откуда ему знать, что даже истинное состояние его предмета может быть правильно оценено только по его отношению к состоянию человеческого разума и его потребностям, так же как и вся ценность самого предмета может быть правильно оценена только по его отношению к действительной судьбе человека (которая, однако, не должна ни якобы предполагаться, ни мрачно подозреваться, а скорее признаваться)? Потрясение, о котором мы здесь говорим, проявляется не только в состоянии наук, но и во всем, на что влияет сила мысли, и везде прямо пропорционально величине этого влияния. Она простирается так же далеко, как и европейская культура, с той лишь разницей, что здесь она проявляется в едва уловимых колебаниях, а там – в бурных потрясениях. Во всем своем объеме она однажды составит главную картину в истории человеческого духа, с которой наши внуки будут останавливаться с восхищением.
Но эта огромная сцена частично ослепительных, частично незавершенных событий лежит слишком близко к взору современника, чтобы он мог уловить отдельные части в их реальном соотношении с большим целым. Реальная доля, которую сила мысли имеет в причинах события, и которая одна должна определять более или менее важное место, которое событие должно занять в этой картине, может быть отделена от постороннего влияния внешних обстоятельств только тогда, когда само событие полностью созрело и через свои последствия приобрело свой определенный характер для мировой истории.
Тогда многие тихие, едва заметные перемены, несущие на себе печать самодеятельности нашего духа, будут следствием лучших прозрений, а лучшие прозрения распространятся и распространят свое звание гораздо выше блестящих и чудесных революций, в которых одна случайность сметает обветшалые государственные конституции, а другая, согласно своему собственному смыслу, вновь собирает руины.
Тогда впервые можно будет с уверенностью сказать, было ли и в какой степени более глубокое знание прав и обязанностей человека вскоре причиной и вскоре следствием тех событий, которые уже привыкли называть, отчасти в хорошем, отчасти в плохом смысле, явлениями Просвещения.
Только тогда я смогу показать связаны ли и в какой степени упразднение иезуитов, сокращение монахов и упадок репутации монашества в нескольких католических государствах, ограничение репутации, власти и доходов римских епископов почти во всем католическом мире, терпимость, свобода печати и гласность в австрийской монархии, отмена то и дело смертной казни, отмена крепостного права, снижение платы за наем, североамериканская, французская, голландская революции и т.д. как следствия одной и той же причины или нет. Как следствия одной и той же причины или нет.
Я могу сказать более определенное о нынешнем перевороте воображаемых форм в нашем немецком отечестве; не только потому, что все это может быть более легко рассмотрено из-за более ограниченной сцены, но и потому, что оно выражает себя здесь особенно из области науки, где причина его происхождения из силы мысли, под которой он в самом строгом смысле является явлением разума, может быть менее двусмысленной. Из всех других европейских государств Германия более всего расположена к духовным революциям, менее всего – к политическим. Благодаря своей удачной конституции мы, как никакая другая великая нация, защищены от самой пагубной из всех болезней политического тела, которая заключается в слишком большом богатстве малого и слишком большой бедности большого числа граждан. Ни избыток богатства не возбуждает императивность великих, ни избыток несчастья не побуждает народ к восстанию; а мыслительная сила нации, взятая в целом, остается парализованной обоими этими противоположными пороками. Никакой капитал не ускоряет и не ослабляет, как теплица, плоды нашего духа, которые, предоставленные самим себе в воздухе свободы, расцветают медленнее, но энергичнее.
Мы, конечно, никогда не доживем до золотого века нашей литературы, как Италия при Льве X, Франция при Людовике XIV, Англия при королеве Анне, но вряд ли мы его переживем. Наш прогресс тем значительнее, чем меньше он нас стесняет. Не только наши соседи, которые привыкли к тому, что мы не понимаем их, но и мы сами едва замечаем, что над науками, взятыми в целом, никогда не работали в таком объеме, с таким рвением и с таким счастливым успехом, как теперь среди нас. Это, конечно, тем более очевидно, что все без исключения области науки культивируются примерно с одинаковой интенсивностью, что связь каждой науки с другими становится все более заметной, и, следовательно, возрастает суровость требований, предъявляемых к практикующим специалистам каждой из них. Не успеет один человек достичь чего-то очень значительного, как другой уже выходит вперед, чтобы привлечь внимание к еще более значительному, чего еще предстоит достичь. Ни в одном предмете у нас нет правящей системы, на которой всеобщее признание поставило бы печать реального или воображаемого совершенства.
Везде утверждаются и защищаются старые идеи, выдвигаются новые, против которых ведется борьба. Здесь вскрываются существенные недостатки популярного до сих пор учения, которое тщетно хотят заменить совершенно новым, потому что кто-то другой уже осветил непризнанные преимущества старого, упущенные в новом. С новыми исправлениями и открытиями множатся новые противоположные теории, каждая из которых тщетно оспаривается как совершенно несостоятельная, и тщетно отстаивается как универсально верная. Ни одна из них не может утверждать, что она решила всю проблему науки, так же как и не может быть осуждена своими оппонентами за то, что не предоставила никаких полезных данных для ее решения. При всей этой нерешительности современного состояния наших наук, влияние их на другие человеческие дела, и особенно на принципы правителей, пожалуй, никогда не было столь заметным.
Это влияние тем менее двусмысленно, чем больше оно обнаруживает шатание между старым и новым, составляющее отличительную черту состояния нашей научной культуры. Один регент, который отменяет крепостное право крестьян, хотя в целом рассматривает своих подданных как наследственный F?rth, который философским взглядом обнаружил ошибки в позитивной теологии, лежащей в основе господствующей религии его народа, непоследовательность и вредность которой признают даже самые известные теологи его толка, выставляет эту теологию на всеобщее обозрение. Другой, напротив, который смотрит на это более государственным взглядом и, более того, указывает философам своей нации на спор о необходимости позитивной и недостаточности естественной религии, берет старую доктринальную конструкцию народной религии под защиту против всех общественных нападок, проливает свет, который в последнее время распространился на области государственного хозяйства и т.д., вплоть до трона, и просвещает регента о существенных недостатках в форме правления и управления делами его страны. Он отменяет старую конституцию и заменяет ее новой без воли и даже против воли народа и считает, что тем самым не только не оскорбил прав последнего, но поступил не иначе, как по долгу службы; ведь он считает высшим критерием своего долга регента пользу государства, которую, по его мнению, он понимает лучше, чем его недовольные подданные; разве он, если бы он имел в виду экономические интересы своего народа, стал бы действовать так или даже думать так, если бы общее убеждение воспротивилось ему; или если бы даже знатоки права были единодушны в отношении неотъемлемых прав человечества и принципа, «что эти права ни в коем случае не могут определяться за счет народа (как в целом, так и в частностях, и что уважение к народу может применяться только тогда, когда право заранее уже было постановлено?»
Когда здесь один регент отменяет крепостное право крестьян, в то время как он считает и обращается со своими подданными как с наследственной собственностью в целом; когда там другой воздает честь человечеству, отменяя пытки и смертную казнь, в то время как он низводит их до скота совершенно произвольными, капризными и бесчеловечными наказаниями за преступления; когда третий признает неотъемлемое право своих подданных верить в то, во что они могут верить, в то время как он объявляет это самое право даром своей милости, а пользование им – простой терпимостью, которую он, во имя единственного благодатного мнения, предоставляет мнениям, которые не являются благодатными; если четвертый, под именем свободы печати, предоставляет каждому право сообщать другим свои убеждения в соответствии с лучшими жилетами и совестью, в то время как он хочет, чтобы публикация тех убеждений, которые противоречат символическим книгам, каралась самым строгим образом как преступление против печати (и так далее): Так что все глубокие регенты поступили бы столь же несправедливо, если бы приписали вторую половину их противоречивого поведения слепому следованию старой традиции, как и первую половину – простому пристрастию к новшествам, и не признали бы, что как для одного, так и для другого они могли бы привести решения столь же знаменитых писателей и что они действовали совершенно в духе своей эпохи, насколько это определяется даже состоянием науки.
Насколько характерное для этого духа сотрясение старых и новых способов зарождения идей, распространившееся по полю человеческого знания, настолько же не одинаково заметно оно из отдельных областей этого поля. Градиент, по которому он увеличивается и уменьшается, можно определить по большей или меньшей доле, которая приходится на содержание и форму той или иной науки благодаря той способности мыслить, которая называется разумом. Тот, кто не знает этой доли достаточно хорошо, может ориентироваться только по нарастающему шуму и более плотным облакам пыли, и он скоро убедится, что центр волнения находится в сфере метафизики, а другая граница его определяется областями математики, естествознания и описания природы.
Та наука, которая, согласно ее определению, как воплощение первых причин человеческого знания, как система наиболее общих предикатов вещей вообще, как наука о принципах всего человеческого знания, должна занимать место выше всех других, в настоящее время настолько поколеблена, что не только это звание, но даже само название науки оспаривается. И с этим сталкиваются не только одни критические или так называемые кантовские философы (приверженцы нового способа философствования, который до сих пор принимали очень немногие и опровергали самые знаменитые философы нашего времени), но даже две партии из четырех, к которым восходят все прежние представления о философии. Догматический скептик отрицает обоснованность отношения метафизических предикатов к реальным объектам вообще; супературалист хочет, чтобы они ограничивались только органами чувств, поскольку, или, как он предпочитает выражаться, естественными объектами, и чтобы их применимость к сверхъестественным объектам вытекала из откровения; оба согласны, что метафизика – это необоснованное предположение разума, который неверно оценивает свои силы.
То, что две другие партии (материалистическая и спиритуалистическая) уступают ей, присваивая ей ранг истинной науки, они отнимают у нее, делая эту науку общим основанием своих доктринальных построений, которые стоят в прямом противоречии, и, демонстрируя из одной и той же онтологии материализм и спиритуализм, деизм и атеизм, фатализм и детерминизм, по крайней мере, в глазах беспристрастных зрителей с одинаковым мастерством, они разрушают научный характер этой онтологии в очень двусмысленном свете. Одна из этих партий состоит в основном из публичных преподавателей философии; из тех, кто занимается наукой как гражданским ремеслом, и кто, поскольку они считают себя присягнувшими и связанными изложением основных истин религии и морали, не считают надуманным, что их обязательство должно распространяться на форму изложения, которая является традиционной в их гильдии. Они объявляют метафизику своих материалистических, фаталистических и атеистических оппонентов поверхностной, давно опровергнутой и недостойной названия науки, которой они отводят лишь ту интерпретацию метафизических формул, на основе которой, по их мнению, могут быть продемонстрированы фундаментальные истины религии и морали. Но как ни многочисленны и, отчасти, как ни искусны были умы, занимавшиеся в наших многочисленных университетах и вне их разработкой такой метафизической науки; как бы ни были они согласны между собой относительно ее экономического существования; как бы ни был каждый из них твердо убежден, что он изложил ее в своем сборнике: однако ни один из этих людей до сих пор не создал метафизики, которая, я не скажу, выдержала бы испытание других партий, но удовлетворила бы даже требования его собственной партии. Ни один из них, как и следовало ожидать от науки о первых причинах знания, не опирается на основные положения, с которыми согласились бы даже сами профессора; каждый из них был опровергнут более чем в одном из своих наиболее существенных утверждений даже в метафизических сборниках. Далеко не всегда владельцы и культиваторы этой науки думают одинаково между собой даже о ее первом принципе; поэтому во многих известных и популярных учебниках нет даже упоминания об этом важнейшем условии всякой науки. В других, по старому обычаю, логика лишена своего первого принципа, а метафизика им наделена. В других, наконец, принцип путают с причиной, и читателей, интересующихся последней мыслимой причиной метафизических предикатов, отсылают то к опыту, то к врожденной системе определенных истин.
В той же самой степени, в какой один занят возведением ботаники, минералогии и химии в системы, другой позволяет метафизике опуститься до совокупности бессвязных, двусмысленных формул, в которых то, что должно было быть доказано, предполагается общепринятым и поэтому не требует доказательств. Один дает себе волю и делает немалую заслугу в том, что под рапсодической внешностью скрывается система его метафизики, которую он сам знает лишь по смутной интуиции; другой же, с гением силы поэзии, отвергает всякое правило, даже если оно исходит от его собственного разума, как сковывающее дух, и высмеивает всякую систему вообще. Поскольку метафизическое предложение может иметь истину только через связь с универсально обоснованными причинами знания и через его прослеживаемость до универсально обоснованного принципа, который возможен для всех, легко понять, что наши популярные метафизики в университетах через ту самую так называемую либеральную форму, через которую, как они думают, они могут получить более общий вход в науку, готовят ей, как бы они ни заботились об этом, определенное падение. Этот успех ускоряется более поздними и лучшими трудами тех самостоятельных мыслителей, которые, поскольку они относятся к метафизическим предметам с умом, свободным от всех ограничений академической профессии, с большой проницательностью и красноречивым изложением, казалось бы, должны помочь метафизике подняться.
Поскольку эти люди, сами того не желая и не желая, отдаляются от одной из четырех до сих пор неизбежных философских партий, они тем более тесно связывают себя с другой, и даже, как правило, с противоположной, или даже ставят себя во главе последней; Так как объединившиеся те, кто сторонится спиритуализма, дают слово материализму (который в настоящее время наиболее приятен при последовательной концепции Спинозы); так как борец против материализма и спиритуализма размышляет об очищенном сверхъестественном, а другой, не находя удовлетворительного ответа во всех этих философских предметах, разрубает узел догматическим скептицизмом: Так что каждый из этих писателей, в той самой степени, в какой он ставит великие вопросы о Боге, свободе и бессмертии, о правах и обязанностях человечества в более оригинальном свете, вызывает тем большую путаницу в области онтологии. Чем больше он думает сам, тем больше он принимает метафизические формулы, употребляемые всеми сектами, в значениях, которые тем резче отличаются от всех известных до сих пор; он оспаривает формулы, которые не являются общими и, например, приняты только университетскими философами, с тем более яркими основаниями; он подрывает принципы, смещает точку зрения и ослабляет престиж науки первого знания.
Не следует ли из этих обстоятельств вполне удовлетворительно объяснить, как случилось, что даже среди действительно философских умов все больше и больше растет число тех, кто громко и публично объявляет изучение метафизики бесполезным, даже пагубным? И не слишком ли близко подойти к нашему веку, если объяснять это явление свойственной ему мелкостью ума, не задумываясь над тем, не является ли эта самая мелкость, где она действительно имеет место, отчасти следствием того состояния, в котором находится наука, составляющая основу всего остального? Из дальнейшего освещения нынешних потрясений в других областях науки станет очевидным, что потребность в главной науке, от которой все остальные должны были ожидать твердых, отчасти руководящих, отчасти основополагающих принципов, которая, кстати, не называется метафизикой, никогда не была столь общей и столь неотложной, как в настоящее время; и что, следовательно, презрение, которое испытывает метафизика, является следствием несбывшихся ожиданий, которые глубокая наука во все времена возбуждала своими великими обещаниями, и которые никогда не были так широко известны, как значительное время назад, когда владельцы собственных счетов со всех сторон чувствовали себя вынужденными верить метафизике на слово более дорого, чем когда-либо.
Другие области наук более или менее поколеблены в той же мере, в какой их область более или менее удалена от собственно метафизики, и можно ожидать, что они будут следовать друг за другом в этом дальнем свете приблизительно в следующем порядке: рациональная психология, космология и теология, философия религии (наука о причине наших ожиданий будущей жизни); надежды на будущую жизнь; вкус, мораль, естественное право, позитивная юриспруденция и теология, и, наконец, история в самом узком смысле этого слова. Первые три, которые непосредственно связаны с метафизикой и обычно даже рассматриваются как ее составные части, разделяют ее имя и судьбу; история же обязана более спокойным владением и менее спорным расширением и совершенствованием своей обширной области своей удаленности от центра конвульсии. Успех недавних попыток реформировать позитивную теологию и юриспруденцию был более удачен в той самой пропорции, в которой реформаторы этой науки научились лучше использовать свое соседство с историей. Точно так же, как, с другой стороны, все попытки лучших умов договориться между собой о первых принципах морали и естественного права потерпели полное фиаско, поскольку при разработке понятий, предполагаемых этим принципом, нельзя было обойтись без соседней метафизики. Поскольку, наконец, при создании философии вкуса и религии человек время от времени колеблется между данными опыта и метафизическими понятиями, он еще даже не пришел к согласию по вопросу: относится ли высшее правило вкуса и первый принцип для основных истин религии к числу мыслимых проблем или нет?
В этих условиях престиж истории возрастает точно в такой же мере, как и престиж метафизики, которая никогда не была так резко противопоставлена ей, не только в отношении своих объектов, но и в отношении своей надежности, полезности и влияния. Философы по профессии помещают историю на трон бывшей царицы всех наук, а также воздают ей должное от имени философии, как действительной науке о первых основаниях знания всего человеческого знания. "Природа, говорят они, которая всегда остается одной и той же и всегда в согласии с собой, тогда как метафизика получает новую форму от каждого самостоятельно мыслящего человека и беспрестанно вступает в спор через своих администраторов, – природа есть истина, которая открывается не более чистому разуму метафизика, чем сырой чувственности легкомысленного человека. Она говорит громко и в целом понятно через голос истории, через который она зовет здравый смысл обратно из пустых комнат удовольствий спекуляции на сцену реального мира, где она раскрывает свои законы, которые только и могут быть названы универсально обоснованными принципами, в своих работах и действиях."
Как бы единодушно ни обращались наши философы-эмпирики к природе и истории, о каких бы важных для человечества проблемах они ни говорили, они вряд ли смогут договориться между собой, когда им придется ответить на вопрос: что они понимают под природой и в какой области истории следует искать данные для решения такой задачи? То есть, когда они не смогут ни уклониться от этого вопроса ловким оборотом речи, ни, как это обычно бывает, отмахнуться от него как от метафизического размышления. Мало кто из тех, кто так часто употребляет слова «природа» и «история», дал отчет о значении этих слов. Они находят это тем более излишним, чем более привычными стали для них эти слова, двусмысленность которых так удобна для тех, кто привык пользоваться памятью и воображением больше, чем разумом. Тот, кто благодаря неумеренному поиску и накоплению материалов для мысли забыл саму мысль, обращается непосредственно к природе, вернее, к своему неопределенному представлению о ней, которое всегда достаточно широко и темно, чтобы принять и скрыть любое несоответствие, которое человек хочет втиснуть в свою окружность, в отношении тех оснований разводов, которые он может вывести из тонких собранных материалов ни одним из своих пяти чувств. Какая разница между объектами и науками, которые эмпирик объединяет под названиями природы и истории! Между информацией, которую так называемая естественная история дает через описания минералов, растений и животных, и которая время от времени значительно увеличивается искусственными опытами анатомии и химии, между информацией, которую антропология дает о человеке как о природном явлении, между выводами, которые антропология делает о человеке как о природном явлении, которое она может рассматривать в наблюдательной теории души как явление внутреннего чувства или в физиологии как явление внешнего чувства, и между выводами, которые наука, обычно обозначаемая словом история, если оно употребляется без всякого добавления, до сих пор делала о человеке в отношении его гражданской и нравственной культуры!
Разница между прогрессом, достигнутым до сих пор в истории в конечном значении этого слова, и историей в том смысле, в котором она включает в себя естественную историю и антропологию, не меньше, чем разница между двумя значениями этого слова, которые наши эмпирики обычно путают, когда они восхваляют надежность истории как фундамента философии. В то время как минералогия, ботаника, зоология, анатомия, химия, физиология и эмпирическая психология продолжают беспрепятственно давать новые урожаи и приносить их как верную прибыль в сокровищницу человеческого знания, ни одно из тех решений по великим вопросам прав и обязанностей людей в этой жизни и оснований их ожиданий в жизни будущей, которые, как утверждают противники метафизики нашли в истории, еще не было общепризнанным, даже ими самими. Если к тому же учесть, как мало пишет историческая критика о ценности как сырых, так и уже обработанных материалов реальной истории, о достоверности документов и деяний, – и как мало философия истории согласна сама с собой относительно формы и основных законов обращения с этой наукой: из этого следует, что в области истории, то есть в той области, на непоколебимости которой позитивные теологи и юристы полагают свои усовершенствованные доктринальные сооружения, а эмпирические реформаторы морали и естественного права – свои принципы, также происходит сотрясение, которое, хотя в целом и более незаметное, не менее достойно внимания, чем сотрясение самой метафизики.
Но оно должно стать более заметным в той же мере, в какой наша историческая критика перестает быть совокупностью неопределенных, последовательно бессвязных замечаний и все более приближается к систематической форме, от которой она так далека. Чем больше будут приобретать стройность и определенность те до сих пор мало развитые требования, которые эта наука предъявляет к историкам и историкам, тем больше должно накапливаться сомнений в надежности материалов истории, над которыми до сих пор работали, тем реже и с большими ограничениями доверие к историкам будет признаваться достойным проверки. В наибольшей степени это относится к самым благородным, самым поучительным, самым важным для философии воздействиям, которые может оказать история, а именно к событиям, которые имели свои движущие силы в умах и сердцах людей, и на представление которых иногда решающее влияние оказывают страдальческие валы, иногда принципы, но всегда своеобразное воображение рассказчика. Значительное количество исторических новостей о таких действиях великих и замечательных людей уже было объявлено вне закона недавними расследованиями, и впоследствии станет еще более очевидным, что человеческая природа была неправильно оценена в точно такой же пропорции, в какой она привыкла оцениваться по таким новостям.
Какая важная перемена ожидает, наконец, некоторые отдельные области истории в момент, когда прогресс исторической критики предъявит права на доселе неоспоримые документы и решит спор о тех, которые доселе оспаривались! Не только историки, но даже профессиональные богословы еще не пришли к единому мнению относительно исторической ценности священных документов; и даже те, кто считает эту ценность решенной, извлекают из этих памятников, столь важных для истории человечества, прямо противоположные результаты, в зависимости от того, рассматривают ли они их глазами разума, предоставленного самому себе, или сверхъестественно просвещенного разума.
Чем более умножаются материалы истории, а с обработкой их множатся точки зрения, придающие внутреннюю форму каждому историческому сочинению, которое должно быть больше, чем компиляция, тем заметнее становится смущение наших мыслящих голов по поводу высшей общей точки зрения, которая должна объединить под собою все частные и отвести каждой свое особое фиксированное место. То, что потребность в такой точке зрения ощущается, и что существует даже стремление удовлетворить ее, доказывается столь же правдоподобно недавними попытками истории человечества, как и тем фактом, что ни одна такая точка зрения еще не нашла своего обоснования. Только история человечества в целом может и должна лечь в основу всех попыток реформировать нынешнее состояние всех особенных историй. Только через нее может и должна быть исправлена узость и односторонность точек зрения, с которых, например, один писатель своей историей церкви работает в пользу крайне натурализма, другой – стихийного натурализма, один – католицизма, другой – лютеранства, один в своей истории государств деспотизма, другой – княжеской ненависти; здесь один помещает религиозные системы, другой – государственные конституции в том свете, который светит на них с подсвечника высокого духовного или светского сана их отечества. Но как может история человечества исправить эти пороки, пока ее собственные авторы не согласны даже с определенным понятием о ней, пока значения выражений история человечества, всемирная история, история культуры, история человеческого разума и т.д. беспрестанно пересекаются друг с другом; более того, пока не согласована даже характерная особенность человеческого рода?
Напрасно наши эмпирики утверждают, что определенное понятие этой важной характеристики должно быть установлено путем изучения истории человечества. Оно так мало возможно посредством этого изучения, что оно скорее подвергается возможности и всяческому лишь несколько счастливому успеху как уже существующее. Только оно одно является тем основным правилом, которым может надежно руководствоваться составитель этой истории не только в своем отношении к ней, но даже и в выборе ее направленности. Ибо только благодаря такому правилу из неизмеримого материала, разбросанного по полям всех конкретных историй народов, государств и т.д., можно вычленить факты. Которые должны составить содержание всеобщей истории человеческого рода в целом. О его отсутствии достаточно красноречиво заявляют наши компиляции и рапсодии, в которых фрагменты из естественной истории животного мукоеда в паре с догадками, основанными на ненадежных результатах едва еще окультуренных историй мещанской культуры, религии, философии, называются историей человечества и делают значение слова человечество столь трудноразрешимой проблемой для любого размышляющего читателя.
Поскольку нить, на которую каждый из этих историков человечества нанизывает свои события, определяется самими событиями, точнее, их выбором и расположением по отношению друг к другу, нет ничего более естественного, чем то, что в каждом случае возникает совершенно разная нить. Здесь это постепенное, в целом непрерывное продвижение к нравственному совершенству; там – ход развития человеческих сил, который катится по всевозможным извилистым линиям, то продвигаясь вперед, то отступая назад, и направление которого зависит только от внешних обстоятельств; там, наконец, вечный тупик в отношении совершенства и счастья, в котором во все времена пренебрежение одной способностью должно быть связано с развитием другой, уменьшение чувствительности с увеличением разума. Каждое из этих мнений рассматривается мыслителями примерно одинакового ранга как очевидный результат истории человечества; и их защитник обвиняет приверженцев других мнений в том, что они привнесли в историю год, раскопали и упорядочили факты только в соответствии со своими произвольно предвзятыми представлениями.
Причина этого спора, до решения которого мы ни в коем случае не можем похвастаться тем, что владеем актуальной историей человечества, кроется в недоразумении, которое полностью скрыто от спорящих сторон, потому что оно касается пункта, по которому они считают, что находятся в полном согласии, или на который они не хотят обращать никакого внимания как на метафизический вопрос; я имею в виду неясное, двусмысленное. Я имею в виду неясную, двусмысленную концепцию разума и его отношения к животной природе. Поскольку эта концепция касается специфического характера человечества, только через нее может быть установлена высшая точка зрения.
Концепция разума – это двусмысленная концепция отношения разума к животной природе. Она не может быть результатом истории, которая предполагает ее, которая должна объяснить и подтвердить ее, но не может сначала установить ее. Данные, на основании которых только и можно его установить, могут быть даны нам только в нашем разуме и через него, и могут быть обнаружены только путем расчленения нашего простого воображения. Искать их для нас в истории – значит давать очевидное доказательство того, что человек не знает, что искать. Общие законы интеллектуальных сил могут быть определены историей не в большей степени, чем общие законы физических сил, и как научное знакомство с природой движения совершенно невозможно без математики, так и определенное знание особого способа действия разума предполагает науку, которая должна быть не менее отличной от истории, чем математика.
Поэтому указанный мною переворот в области истории должен либо продолжаться вечно, либо привести к открытию и признанию той науки, на основе которой должна возникнуть высшая точка зрения для всей истории в целом с общим доказательством; и все попытки придать философии лучшую форму через историю должны быть совершенно напрасными, так как история может получить свою форму скорее только через философию, но, конечно, только тогда, когда она сама будет иметь установленную форму.
Второе письмо
Назрела необходимость в высшем правиле вкуса, руководящих принципах для позитивной геологии и юриспруденции, но прежде всего в первых принципах естественного права и морали
Отсутствие неизменных и общезначимых фундаментальных принципов не так бросается в глаза в произведениях вкуса, как в произведениях исторического искусства.
У нас, да и, пожалуй, у всех наших культурных соседей, гораздо больше поэтов, чем историков классической ценности, и если бы и тех, и других судили одинаково строго в соответствии с целями их искусства, последние, возможно, все же оказались бы далеко позади первых.
Эстетическая критика также разрабатывалась у нас с несравненно большим рвением и более удачным успехом, чем историческая. Благодаря изучению, а еще более благодаря наслаждению старыми и новыми шедеврами изобразительного искусства в самом широком смысле этого слова, Германия наконец-то постепенно приобрела то, чего ей совершенно не хватало в начале нашего века, и к чему, как считается, она и сегодня не слишком склонна – художественный вкус; и, если быть точным, чувство вкуса, которое, несмотря на то, что искусство может обоснованно возражать против некоторых отдельных его проявлений, в целом является таким же подлинным, как и у лучших наших соседей, и которое не только не уменьшилось за последние десятилетия, но, бесспорно, увеличилось в утонченности так же, как и в широте распространения.
Немалое число немецких ученых уже не считают ниже своего достоинства серьезно заниматься даже прекрасным; наши филологи больше не прославляются вариациями, грамматическими догадками и домыслами; они сами нередко берут на себя обязанность пресекать тех не в меру ретивых, кто все еще забывает среди мертвых букв старых классиков дух, живущий в вечно цветущих красотах этих самых книг.