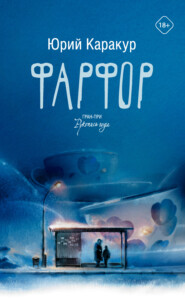скачать книгу бесплатно
На неделе выяснилось, что эти американцы – евангелисты.
– Они не православные, – предостерегла Капа и немного обиделась, – и песни у них другие.
– Да вроде про Иисуса Христа, – удивилась Тамара.
– Но они совсем по-другому верят, – настаивала Капа, – вы бы лучше к вечерней службе к отцу Андрею сходили.
Но к вечерней надо было подниматься на высокий четвёртый этаж, а больница на летнем солнце прогревалась, и в церкви было жарко, душно, и Алевтина осталась недовольна: еле выстояла, вышла с мокрой жопой. А вечером, когда свежо, сиди себе на лавочке и слушай про Джизаса, а если помазать ноги меновазином, то и комары не так пристают. Поэтому и на следующей неделе мы пошли на концерт. Джеф снова улыбался, раздавал листовки, и там теперь было на споткнувшемся русском: посещайте на выходных в церковь «Часовня у Голгофе», улица Степана Разина, иди и молись с нами. И нарисован такой голубь, летящий вниз, как у Джефа на значке.
– В Америке я бы ходил в церковь, – прошептал мне Игорь, ему очень нравилась Роуз.
– А Голгофа-то что такое? – спросила Вера.
– Это где Христа распяли, – сказала в недоумении Тамара.
Капе решили не рассказывать. Антонина поехала в эту часовню, привезла оттуда детские цветные книги.
Капе летом было не до нас. Господь вдруг хмуро посмотрел на неё, и она вытянулась в неудобной позе. Сын Капы нашёл на балконе сумку с грязными банками и удивился, откуда это и почему мать не помыла, а прямо грязными поставила на балкон. Да и не мог вспомнить, чтобы они ели голубцы, фаршированные мясом и рисом в томатном соусе, кашу гречневую с тушёнкой, пахло старой кислой грязью. А потом присмотрелся и понял, что сумка эта – бабкина, и что он видел её с этой сумкой на улице и удивился ещё тогда, что она там несёт так много, ведь в магазин она не ходит. И тут всё зашевелилось и сложилось – Капин сын был рад, как от ловкого решения задачи: это бабка принесла с помойки. Он обследовал балкон, уже предчувствуя, как будет по-учительски отчитывать её, нашёл ещё перевязанные журналы, ковшик со сгоревшим дном, разбитый светильник и побежал с удовольствием кричать на бабку. Даже номер дома на журналах, кричал он, не наш. Она понимала, что он чем-то недоволен, но не сразу разбирала слова, а только через время додумывала: что за что-то вно что-то шила. Говно пришила, догадалась Капина мать, а что за говно? Но когда она увидела, что он с балкона несёт её сумку с банками, она вдруг (говно притащила!) поняла, что сейчас он выкинет или разобьёт, и стала у него отнимать, а он злой, сильный, из школы милиции, и когда она схватила руками его сцепленный кулак и стала тянуть, он дёрнул, и её рука отскочила ей же по губе, и совсем вроде несильный удар, но синяк тут же, как пятно краски, растёкся по губе, и она заплакала, обидевшись и сморщив сразу всё лицо. Он забегал по квартире и от ужаса, что всё выглядит так, будто он ударил старуху, начал кричать на неё, что она выжила из ума, совсем уже, и зная, что она плохо слышит, он наклонялся к ней, как будто переводил – крутил пальцем у виска. А когда Капа пришла со службы и увидела синяк, Капе больно было представить, что этот синяк появился на лице, которое она помнит с детства, и мать сидела с мокрыми щеками и умной, смиренной рукой придерживала рот, а сын истошно кричал, что на балконе воняет помойкой и что она старая дура. И Капа развязала внутри узел, чего не делала ни разу за этот год в церкви, и стала сама кричать истерично, с неприятным чувством узнавая в своём крике интонации сына, чтобы он, малолетний пиздюк (плюнула она ядом и получила удовлетворение и сразу же повторила – как гвоздь вколотила) пиздюк не смел тут распускать руки, маленький пиздюк (сверлом сверлила), и она схватила даже ремень по старой привычке воспитывать его, как она делала всю школу, последний раз в начале девятого класса. Но сын дёрнул ремень у неё из рук так, что она поранилась о пряжку, кинул в кухню со всей силы (там что-то зазвенело) и закричал дрожащим от страха голосом: «Ещё бить меня будет!» Капа зажала рану, зарыдала и побежала на кухню, уже планируя повязку, а сын выскочил из квартиры, хлопнул дверью, и всё в Капе дрожало, и седое суровое лицо Бога смотрело внутри Капы, и она уже раскаивалась и начала искать какие-то слова, но пока всё дрожало, слова не находились. Сын вернулся всего через десять минут, решительно открыл дверь, она даже подумала, что он вернулся, как бывало с ним раньше, чтобы продолжить кричать. Но он сказал странным голосом, предназначенным для посторонних:
– Мать, там тебя спрашивают, у Кочетковых трагедия.
Она не поняла, что за трагедия, и он так неумело выговорил это непривычное, у подъезда, наверное, подобранное слово, что она спросила:
– Кто сказал?
Но в прихожей уже звал испуганный голос Тамары:
– Капа!
«Пятёрка», утомлённая речным зноем, с остатками еды, с пляжными одеялами в багажнике, просела на железнодорожном переезде, и фирменный поезд Москва – Пермь ещё километр толкал её, прежде чем остановиться. Отпускные люди, возвращавшиеся в Пермь через Москву, почувствовали толчок и с интересом посмотрели в окно, кто-то расплескал чай. В «пятёрке» не спасся никто, умерли оптом: Михаил, Светка, их дочь Лена с мужем и двумя дочерьми, четыре года и пять месяцев, куколка, погремушки. Ни долгой раковой опухоли, ни инфаркта, ни почечной недостаточности, ни разорвавшихся сосудов – только одна случайная глупая минута, когда поезд неотвратимо ехал на них, и закричали, наверное, дети, хочется зажмуриться. Поезд назывался «Кама», был ярко-голубой, и мы с Мишей не раз махали ему с холма. Из всей семьи осталась только Рита, полноватая, близорукая, с приятным детским лицом, глаза увеличены очками и поэтому всегда удивлены – вторая дочь Михаила и Светки. В квартире было тесно, а станет свободно. И от того, что теперь Рите одной плакать по шестерым, что придётся пересчитывать гробы, заказывать сразу шесть крестов на кладбище – от этой арифметики всем делалось страшно.
Наш двор стонал в голос. Мы видали смерть, но такого не ожидали. В Перми встречали родных из Геленджика: загар, корабль в бутылочке, пляжные фотографии. И прислушивались к ракушкам, и волны шумели в их живых, счастливых ушах. Всё-таки, Господи, раз уж ты еси на небеси, скажи нам, в чём Твой план? Ведь всего пять месяцев, Господи! И кричали, наверное, от страха, нет, нет, невозможно. Евдокии (соседка по этажу, сидела несколько раз с детьми) хотелось молиться, но молитва казалась неискренней, не помилует нас, как ни проси. И Твоё ли это царствие, Господи? И на всё ли воля Твоя? И святится ли имя Твоё после такого, Господи? Нашу новую нежную веру расчертили рельсами и шпалами, и даже Капа ходила с пристыженным лицом, особенно когда Рита закричала на неё: «Не пойду я ни в какую церковь, тётя Капа!» Отец Андрей сказал: «Хорошо, что успели покрестить девочку». Капа согласилась, но не могла потом понять, почему это хорошо, кому это хорошо, и даже представляла, как мать могла бы в последнюю секунду выкинуть девочку из окна, а не прижимать к себе, и даже подстилала под маленькую эту Иринку мягкую густую траву, в которой она лежала бы, ждала бы, когда её подберут, и Бог бы улыбался с неба тому, что спас невинную жизнь. Но он не спас, а прибрал.
Накануне похорон шесть гробов разного размера подняли в квартиру. Таков был обычай: покойник ночь проводил дома, а утром уезжал навсегда. Только один, Светкин, гроб раскрытый: её как-то выбросило, синяки, опухшие губы, но показать можно. А пять заколоченных: внутри – синева, кое-как, ненадёжно (а зачем надёжно?) выпрямленные переломы, на крышках – фотографии, чтобы не спутать. Светку поставили на раздвинутый обеденный стол, детские разместили на журнальном столике и на телевизионной тумбе, а Лену с мужем положили в той же комнате на разобранный диван. Не поместился только Михаил, его оставили в коридоре на трёх табуретках. Рита испугалась ночевать, ушла к школьной подруге, и там вся семья сидела вокруг Риты тихая, без аппетита.
А Капа вызвалась ночью читать молитвы у гробов.
Капа однажды покупала у Светки малину и сразу узнала мебель в коридоре, зеркало на стене. Она разулась, чтобы не натоптать Светке, смутилась от этой мысли, заметила изобилие тапочек, но побыстрее отвела глаза. Капа дотронулась до Михаила и прошла к другим гробам. Ей показалось, что открытая Светка представляет всех и что с ней и нужно говорить. За окном смеркалось нестрашными летними сумерками, Капа включила маленький ночник, зажгла свечу и села рядом со Светкой. Капа читала молитву по книжке, которую купила у себя в церкви. Поначалу ей было страшно смотреть на ударившееся Светкино лицо, но она быстро привыкла и смотрела на Светку без предвзятости и страха, а с пониманием: теперь Светка такая. Капу смущало, что она, кажется, не нравилась Светке. Капа пришла тогда за малиной и дружелюбно, многословно заговорила со Светкой, даже начала вспоминать, как ела малину в детстве со сметаной, но Светка не отвечала, а молча, сурово отсыпала ей в банку ягоды, и Капа осеклась, остановилась, и уже просто улыбалась без слов, поняв, что Света не поверила ей. Потом Света попрощалась без дружбы в голосе, и Капа даже, спускаясь по лестнице, подумала, что вот какие невоспитанные люди – не могут поддержать разговор. А теперь она читает над Светкой молитву. Капа чувствовала вину, что она сидит такая живая перед страшно умершей Светкой и её заколоченной семьёй. От напряжения у Капы заныла шея, запершило в горле, и когда свечка догорела, она подумала, что вполне, наверное, допускается сделать перерыв и выпить чая, Бог вряд ли против. Капа встала и увидела в серванте фотографию, прислонённую к фарфоровой пирамиде из блюдец и чашек: Светка, увалень Михаил, две девочки-погодки, море, что ли, у них там сзади. Капа подошла, и правда: на фотографии подпись Феодосия 79-й год. Мёртвые люди на фотографии показались ей грустными и умными, а Ритка, напротив, легкомысленно смотрела через очки. Капа вышла в коридор, снова ободряюще дотронулась до Михаила, как будто Михаил сидел в очереди и Капа хотела сказать ему, что ещё чуть-чуть осталось подождать. На улице стемнело, коридор спрятался, и Капа пошла на кухню, угадывая направление по планировке Веры, которая жила в такой же квартире, но на первом этаже, и долго искала выключатель в темноте. Он оказался не наверху, как у всех, а почему-то ниже, на уровне пояса. Наверное, догадалась Капа, потому что так легче было включать детям. И когда Капа поняла, что это Михаил, который сейчас лежал на табуретках в коридоре, сделал выключатель пониже, чтобы девочки могли доставать, она как раз открыла шкафчик над раковиной в поисках чашки и увидела там маленькую детскую кружку, лиса и журавль, намекающую на пальчики, какие были у её сына в детстве, и она вдруг заплакала и заохала, и охала и плакала громко, в чужой кухне, хоть ей и стыдно было, что она так громко плачет не у себя дома, и казалось, что кто-то слышит её и сейчас войдёт и пристыдит, что плачет она громко, и не только по мёртвым детям, по Михаилу, но и, как догадывался этот кто-то, по себе, по своей матери, по ушедшему детству и по какой-то ещё мелочи, которую Капа не могла даже назвать. И она плакала, плакала и говорила ой, ой, и в голове у неё кружилось, и она, плача, налила воду в размазанный чайник, зажгла мокрый газ и стала искать чай в чужих Светкиных шкафах. Уж прости, Света, проносилось у неё в голове, прости, Света, и она нашла чай и заварила. И пока пила, успокоилась. Из-за слёз Капа как будто сблизилась со Светой и теперь имела больше прав сидеть у Светы и читать по ней молитву. И когда она вернулась в комнату, сказала: «Вот так, Светочка…» И нежно села на табуретку. Капа открыла жёлтостраничную книжицу, похожую на учебное пособие. Старый, вязкий, обнимающий шрифт жучками-паучками расползался по странице и что-то обещал. И Капе легко и уютно сделалось от этой страницы, и она прочла:
– Безначальная Троице Святая, Боже Отче и Сыне и Душе Святый, в лице святых причти душу преставленнаго раба Твоего и огня вечнаго избави…
* * *
Утро было ясным и уже жарким. Похороны начались рано, пришло много людей. Бабушка не спустилась, болела нога, и не хотелось видеть, как плачут. Я смотрел из окна подъезда. Отпевать позвали не отца Андрея, а кого-то из города, священник у гробов волновался складками рясы, но его толстое бородатое лицо сурово одобряло Бога. Рита в чёрной косынке обиженно плакала, прикладывая руку к груди, как будто надеясь на понимание. Катафалки, извинившись, выползли из двора. Всех, кто хотел ехать на кладбище, собрал большой автобус. Я не поехал и поэтому заметил, что двор выдохнул, расслабился, и сначала нерешительно, а потом всё увереннее пошли люди по делам.
День похорон – день наших летних каникул, и мы с Игорем, конечно, не можем этого остановить. В солнечном дырявом лесу мы ступаем осторожно, боимся змей, выходим у сцены. Среда, середина тёплой летней пустоты, и до воскресного Джизаса ещё далеко. В дальнем углу сцены выломаны доски, тут мы спускаемся под сцену. Сначала Игорь, потом я. Под сценой можно двигаться только в согнутом виде, здесь у нас есть старая покрышка, чтобы сидеть, и кусок плёнки. От уединения во мне нагибается ветка, пружинит, может обломиться. Зачем мы залезли сюда, мы точно не знаем, но нам именно сюда хотелось. У Игоря всегда с собой сигареты, которые изображают цель: мы залезли, чтобы курить. Мы курим одну на двоих, я беру фильтр после него и держу осторожными губами. Сигаретный дым прячется в темноте, только в нескольких местах широкие щели между досок ловят его.
– Ну что, – говорит Игорь, – будем сегодня?
– Давай.
Игорь снимает футболку, белая сутулость выкатывается колесом. Он поворачивается спиной и опускается на колени на плёнку. Я сажусь сзади, рассматриваю его позвонки, моё молчание уплотняется и раскачивается между нами. Наконец я решаюсь и пользуюсь голосом незнакомого мальчика без лица, без отца, с сигаретной горечью во рту. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, протягиваю руку, провожу пальцем от шеи вниз и перечёркиваю, ехал поезд запоздалый, огибаю большую мягкую родинку, из последнего вагона вдруг просыпалось зерно, пришли куры, выклевали, пришли гуси, схватили и потянули, потащили нас всех, пришел дворник и подметал, подметал. Я заканчиваю массаж и неискренне хлопаю его по спине: «Письмо шло и пришло!» Игорь говорит: «Хорошо!»
В выходные отец повёз нас на мотоцикле купаться в Нерли. Выезжать семьёй было страшно, и мама подумала, что так вот и останется Денис один, если что, без родителей, бабушки и младшего брата, и, совсем испугавшись, мама утешилась тем, что Денис сможет переехать в Киров к другой бабушке, и мы поехали. Такая хорошая погода, что будем жалеть потом, если не искупаемся. Мама села за отцом и держалась за него, почти обнимая, а мы с бабушкой залезли в коляску. Отец натянул над нами брезентовый тент, чтобы не пекло голову и не дуло. Обогнув город, мы покатились по Суздальской дороге, обгоняя автобусы и некоторые грузовики. Иже еси на небеси, громко читала бабушка на светофоре, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Мотоцикл грохочет, и слышит ли её кто-нибудь, кроме меня?
В августе отыграли свадьбу отца Андрея, Капа сама вышила наволочку, прихожанки тоже дарили всякое – и деньги, и фужеры. Матушка отныне всегда приходила в церковь на службу, высокая, молодая, красилась неярко. Галина Андреевна, правда, видела, как матушка в мини-юбке выгуливала огромную волосатую колли. Это в будний день, уговаривала её Капа, в будний можно, а в Господне воскресение ну разве что стрелочки себе сделает матушка и всё. Но прошло полгода, матушка вернулась раньше времени из колледжа и поймала отца Андрея с любовницей – блондинка, чёрные брови, смазанный красный рот. Галина Андреевна как узнала – хохотала до слёз. Матушку уговаривали все, и даже мать матушки просила успокоиться: всё-таки отец Андрей крепко стоит на ногах, а время безденежное. Но матушка была непреклонна: подала на развод, написала церковному начальству, и отец Андрей лишился прихода и, кажется, сана. Из города прислали нового священника – отца Дмитрия, старого, седого, пьющего, путающего имена прислужниц. Многим он не понравился, приход пустел. Регулярно приходили только больные из отделений, пахли перевязкой. Капа по-прежнему держалась церкви, но новый священник не различал её, а просто давал задания, неласково называя голубушка, чем напоминал Капе её бывшую начальницу в бухгалтерии.
Бабушка в церковь в больнице больше не ходила: очень высоко, девяносто две ступеньки. Колено болело без изменений, иногда обманывая надеждой: вот так ногу положишь, и вроде меньше болит, а встанешь – и снова. Молитва, как и настойка из цветов одуванчиков на водке, не помогала, хоть бабушка и продолжала всем этим пользоваться, и Пресвятая Богородица Дева всегда сильно пахла водочкой.
Капина мать приносила вещи с помойки до глубокой осени. Зимой к помойке было не пробраться, и она перестала, но периодически обнаруживались тайники еды, которые она делала в квартире: завёрнутые в платок сушки, котлеты, кусок сыру. В кухне появились тараканы и испуганно разбегались, если включить свет. Сын кричал, свирепо выкидывал всё найденное и однажды выбросил даже Капину подборку «Крестьянки», решил, что это тоже с помойки. Капа ему не перечила неделями, но, если он вдруг обзывался, а мать, расслышав, начинала плакать, Капа чувствовала внезапную яркую злобу и тоже кричала, чтобы он (после паузы) гадёныш (так она договорилась с Богом заменять мат) закрыл поганый рот свой и не смел орать на старого человека, за ремень она больше не хваталась.
После того как Капа просидела всю ночь с шестью гробами, её стали звать к покойникам. Она научилась обмывать и правильно готовить человека, когда-то жившего и отдыхавшего в Феодосии, к гробу. За одну зиму Капа обмыла Лизу из двухэтажного дома, мужа бывшей коллеги, который ни разу не поздоровался с Капой, когда приходил к жене на работу, онкобольную Катю, которая ещё в церкви рассказала Капе, во что её одеть и где она это хранит, соседку Веры по даче – старуху с сиреневыми волосами, которую Капа иногда видела на рынке, но не знала даже имени, и вот выяснила – новоприставившаяся Софья. И даже Галину Андреевну, когда она упала от инсульта в ванной и там же (нашли вечером) умерла. Хоть Галина Андреевна и предупреждала сына, но невестка запаниковала и решила на всякий случай попросить Капу читать молитвы и даже священника наняла для отпевания. Все во дворе знали, что Галина Андреевна не верила и не хотела бы этого, и поэтому она всем показалась недовольной в гробу. Платили Капе щедро, благодарили, но и сторонились: Капа теперь вместе со смертью приходила и была в глазах людей как-то с ней связана, белое лицо Капы перестало светиться и напоминало о трауре: чёрное на бледном фоне. Евдокия так пошутила накануне своего юбилея (семьдесят пять лет): «Капу звать не буду. Помру – пусть тогда приходит». И Капа со временем пришла.
По талой тропинке больничного двора идёт грешник – я. Над больницей, над небом – Бог. Но я от стыда не поднимаю головы, мы слишком хорошо друг друга знаем. Я молюсь о прощении за мой грех, невольно вспоминается поцелуй, рука, стена подъезда, но я брезгливо морщусь, отгоняя сюжет. Когда Бог наказывает, родители ругаются за стеной и нечем дышать под одеялом. Святый боже, святый бессмертный, святый крепкий, ну! Но на третьем этаже я теряю надежду, различаю голоса, они уже кричат, и внутри всё делается холодным и ломким, и завтра первым уроком алгебра, никто не помилует меня. У соседей громко работает телевизор, я завидую им. Я решаю подняться ещё на пролёт и посидеть на подоконнике. Над гаражами в свете фонарей мучается снег. Дальше – конец, всё отрезано стеной чёрного леса, пахнет изгнанной из чьей-то квартиры геранью. Я сижу, жду паузы в криках и, когда она наступает, вхожу домой. Плотный воздух скандала, свет в каждой комнате и на кухне, видно, что здесь недавно бегали и хлопали дверьми, опрокинута табуретка. Сегодня мы с Богом больше не разговариваем.
Наничку
I
Ну пусть полдень.
Из высоких Евдокииных окон первого этажа тянется песня. Евдокия глуховата, поэтому на улице всегда слышно, что она смотрит по телевизору. И вот сейчас – сериал «Никто, кроме тебя», песня на языке, которого мы не понимаем и даже не знаем, что это за язык (мексиканский?), но по первым нотам узнаём. Дон корасон авентурьеро. Что это значит – не ясно, но очень, очень красиво. Потом в газете «Антенна» написали, что корасон – это сердце по-испански: дон сердце – лжец, дон сердце – авантюрист. Мне казалось, что эти русские слова не очень-то и подходят, там должно быть что-то другое, не про сердце.
Сонный дневной повтор сериала смотрит только Евдокия, потому что вчера задремала, а мы сидим в тени, на лавочке, выглядываем из ситца (косыночка, кепочка, сарафан) и пытаемся разгадать замысел: как же так? почему так колет сердце? чего добивается этот Ельцин? что ещё за ваучер? когда будет пенсия? Мы знаем, что в заставке сериала солнечно, красивая, увесисто-макияжная девушка Ракел идёт по берегу моря (бабушка сразу вспоминала Азовское, но у Азовского волны маленькие, игрушечные, а здесь – огромные, намного сильнее человека), и садится на скалу, и смотрит в морскую чёрно-белую, а поэтому едва различимую даль. Но если купить цветной телевизор, то даль вдруг делалась яркой, синей, незабываемой, дон корасон, маэстро дйамор.
Громкая Васина машина («ауди» с заплатками) ворует звук телевизора и возвращает, когда неприятный гнусавый голос уже пересказывает краткое содержание предыдущих серий: Антонио Ламбардо получает огромное наследство и попадает в аварию, виновник аварии – его брат Максимильян, Антонио спасается и вплавь добирается до необитаемого острова, но тут в него стреляют, и Маура, его бывшая любовница уоу-уоу-уоу-о.
Всё это произвело для нас мексиканское телевидение и повесило где-то наверху, в районе рая: белый дом с колоннами, брючный женский костюмчик с голой спиной, клипсы золотым венком, томная, шубкой приправленная походка – какая, господи, роскошь. Но и бедность была неузнаваемой – многокомнатная, с отдельной, без спальных мест, столовой, в центре которой свободный, не прижавшийся к стене стол. Особенно поражал бабушку сифон, советская редкость, запросто стоявшая на бедном мексиканском столе. Сифон бытовой, предназначенный для газирования (детское ха-ха-ха!) воды – коробка из-под сифона осталась в саду (помнишь?), в ней сейчас детки чеснока (жалко тыкать в землю), а сифона и не было никогда, это от тёти Лары коробка попала к нам (оберегала бутылку бальзама в дороге).
– Почему Антонио всё время ходит в библиотеку? Он же не учится, а всё в библиотеку, – спрашивает Алевтина, третий подъезд, второй этаж.
– Так это комната такая, – отвечает Лидиякольна, первый подъезд, первый второсортный этаж, угловая трёшка.
– Комната?
– Ну с книгами, отдельная.
– Аааа.
– Он там, наверное, на диване сидит, читает да сигару курит.
– Аааа, – выдыхала, как будто зевая, Алевтина, – точно, точно, я поняла.
И грустно было смотреть на гаражи.
– Сколько же в ней метров, интересно?
Больше пятнадцати никто не мог вообразить: хрущёвский район, серия 1-527, кухня шесть метров, но есть кладовка, очень удобно. Книги у Алевтины – над диваном на двух полках ступеньками (осторожно-голову-береги): Жюль Верн, Майн Рид, «Вокруг света на „Коршуне“» – стоят иронично, как будто Алевтина мечтает о путешествиях (но это сына, а она даже не открывала), потом красный песенник, не сразу дающийся языку случайный Брет Гарт (дали за макулатуру), дальше загорожено фотографией внука Илюши, и с краю, чтобы не двигать стекло, – «Рецепты народной медицины» с торчащими закладками: давление, запор, геморрой, варикоз.
II
И вот цветной телевизор. От него не уйти, он – «Горизонт», обступает со всех сторон и обозначает предел. Вот туда бы, туда бы, там так красиво розовеет. Были ещё два – «Рекорд» и «Рубин», высокий и драгоценный, тоже недостижимые.
Тамара (появляется) – невысокая раздражённая сердечница, волосами завязанная на злой узел. Что-то вроде горькой луковицы. Тамара очень хотела цветной телевизор. У неё стоял чёрно-белый, на тонких ножках, с нависающей чёлкой-салфеткой, ещё мама когда-то помогала купить. Оттуда чёрно-белые демоны рассказывали Тамаре про приватизацию, про ваучеры, про доллар, и она кричала на них: «Козлы! Козлы! Такую страну просрали!» И давно уже хотелось цветной. Зимой, в темноте, которая, извините, с четырёх дня уже, и по серому предсмертному снегу Фая из соседнего дома ведёт свою потускневшую колли – вот тогда бы включить «Горизонт», и пусть разноцветно тлеет концертом: «Льдинка, льдинка, скоро май!»
Тамара всегда получала мало, работала птичницей в институте защиты животных, легко провожала кур на смерть. И после пятидесяти пяти планировала работать и откладывать пенсию – на телевизор. Но как только достигла возраста, только одну ногу занесла, её тут же, как топором, сократили – по достижении. И ещё раскричались в отделе кадров: посмотрите, что делается, молодым работать негде! И так Тамара, раненная, оказалась на лавке у подъезда. Она сильно переживала, усилились рези в сердце, но на лавке сидела как-то цепко, и было видно, что, во-первых, так просто её отсюда не сгонишь, а во-вторых, она будет мстить.
– Козлы! – кричала Тамара. – Козлы!
И Тамара мстила. В основном летом и ранней осенью. Она решила воровать (у Ельцина, кажется) всё, что плохо, с краю, росло: горох, кукурузу, свёклу, картошку с колхозных полей, иногда забиралась в колхозные сады за мелкими сливами, кислыми яблоками, вяжущими грушами, возле школы милиции черноплодная рябина, возле аптеки шиповник, и Тамара прогуливалась туда вечером, когда око уже дремлет, приходила домой с пузатыми карманами.
Тамару на лавочке недолюбливали: резкая, злая, назидательная. Зачем ты так солишь, делать тебе нечего! Кто же так квасит капусту! Да кто так яблоки сушит! Вот старый дурак! Вон пошла проститутка! Да ну, ещё я буду портить глаза твоими «Поющими в терновнике»! Или просто посмотрит без слов, одним восклицательным знаком – как ударит. Но меня Тамара любила. Я как-то шёл к бабушке тёмными гаражами, старухи увидели меня и испугались: что же ты идёшь по такой темноте, ведь там шпана и алкаши! А я говорю: да под фонарями больше шпаны встретишь. «Вот точно! – сказала Тамара. – Не слушай никого, ходи где потемнее!» А в другой раз я назвал Раису Максимовну Горбачёву мандавошкой, поддакивая общей ругани. Я, правда, не знал тогда, что это значит, и слово мандавошка казалось мне хоть и ругательным, но уютным: мандавошечка ты моя, прыгучая, родная мандавошечка. Все притихли, бабушка задумчиво посмотрела на небо, а Тамара хрюкнула от удовольствия – и с тех пор считала меня за своего.
– Да эта Раиса – старая проститутка! – подтвердила Тамара.
Бабушка дома указала мне пальцем на свой подол (разноцветные маргаритки): вот где живут эти вши. Я недоумевал: где? где? «Ты знаешь, что такое манда?» – тихо, но решительно спросила бабушка. И снова показала на разноцветные маргаритки. Со временем я понял.
На воровство Тамара сколачивала банду. Ей, кажется, нравилось, что мы вот так все вместе идём, мировой пожар в крови, и покажем им чёрта на куличиках, господи, благослови. Обычно в банду входил Тамарин улыбчивый муж Слава, две-три старухи из соседних подъездов, сумасшедший Артём. А вот теперь и меня позвала.
– Пойдёшь с нами за горохом, Юрочка?
Тра-та-та! Вышли на следующий день после утренних сериалов.
До горохового поля нужно было идти через три леса. Первый – придомный лес, весь расчерчен и размечен. По бокам – гаражи, возле дороги – канавы с водой, две перекладины для чистки ковров приколочены к деревьям. Лес глухо и хозяйственно хлопал выбивалкой, особенно в выходные, особенно перед праздниками, а мы с Игорем свисали с этих перекладин вниз головой, переворачивали мир. Здесь в тряпочке из маминого халата захоронен под весёленькими берёзками мой хомяк Пуфик, которого Артём вы- и закапывал раз в неделю, ему очень нравился ритуал. Он снимал венок из одуванчиков с головы, и получались похороны: от Артёма – Пуфику, вечная память. Артём всё время переносил могилу на более подходящее место: холмик, под ёлками, в орешнике, «простимся с рабом божьим Пуфиком, господу помооооо» – басом гудел он, а я требовал вернуть хомяка и однажды нашёл в вырытой могиле уж совсем неожиданное… Впрочем, вот второй лес – за гаражами, густой, тропа на косой пробор и только одна лысина – пруд. Но всерьёз этот лес мы тоже не воспринимали: несколько наших насиженных шалашей, землянка, тарзанка над оврагом (хорошо лететь ногами вперёд) и всего пятнадцать минут от тропы до инфекционной больницы или до новых огромных небоскребущих девятиэтажек. А вот третий лес, отчёркнутый заброшенной дорогой, уже ширится без границ. Начинается он загадочной станцией второго подъёма. Где первый подъём? И что это вообще такое – станция подъёма? Ну вода там! – отвечала Тамара. Ааа, вода! Чувствовалась в этом какая-то торжественность. Станцию охраняли собаки, которые, заслышав нас, лаяли. Из-за них было немного страшно.
В третьем лесу узкая нерасчёсанная тропа, и мы, шестеро, идём строго друг за другом: зачинщица Тамара, тра-та-та, добрый Слава, гипертоническая Евдокия, пережившая рак почки Лидиякольна (из-под ситцевого платьица торчат тренировочные), сумасшедший Артём, начинающий вор я. Евдокия не рассчитала и выпила лекарство от давления, а оно мочегонное, и мы останавливаемся время от времени. «Весь лес зассышь!» – кричит Тамара. Все смеются, пока Евдокия стесняется там в листиках, а когда она вылезает, пристыженная, обратно, мы идём дальше. Идём минут сорок, начинаем уставать, но вдруг лес выдыхает полем – всё оказалось не всерьёз.
Поле – репетиционное, не гороховое, с какой-то травой по колено. Мы переходим его, рассекая траву, словно позируем для открытки: Артём побежал вперёд – киль, надрезающий море, следом женщины в косынках, особенно высоко повязана у Евдокии, у Славы – рюкзак за плечами, седая голова, я в беленькой кепке с пластиковым козырьком.
И наконец – горох. Большой квадрат горохового поля, три стороны – лес, а последняя, незакрытая, с горизонтом – дачный овраг, речка, печка, огурчики, бутончики, яблочки, чк, чн, делается уютно и спокойно, как будто с мягким знаком.
Мы начинаем собирать горох, шесть вороватых спин. В основном нам нет ещё и семидесяти, а если есть (Лидиякольна), то только немного торчит краешек, у нас есть силы, и мы хотим побольше собрать, закатать в банки, на крышку приклеить пластырь и надписать ручкой 1992 год, заставить долину под кроватью. И потом зимой (если доживём, конечно – это приставлено ко всему, на небе написано, и страшнее всего – Лидиякольне, она смотрела куда нельзя), и вот зимой, встав на колени перед пролетевшим летом, доверительно заглянем под свисающее покрывало, вдохнём пыль и будем двигать пыльные тайные банки, доставать и удивляться: ох, это вот оно что. А у Тамары – кладовка. Всё раздражённо выкинула и освободила для заготовок, Слава сделал полки, провёл свет. Включишь – и всё видно: варенье из яблок, светленькое, весёленькое, тёмный, загадочный компот из черноплодки, сложные тесные грибы (чесночок, листочки) в трёхлитровой банке, упорядоченный, геометрически верный горошек. А выключишь свет и – всё гаснет, ждёт в покое.
Печёт спину, мы переговариваемся, перекидываемся рецептами, пастеризуете ли банки, класть ли перец, сколько соли, Евдокия сама раньше не консервировала горох. Мы слышим отдалённое тарахтение, оно запуталось среди ветра, птиц, далёкой дороги за деревней, но вот выпуталось, окрепло, и Тамара всё поняла:
– Патруль!
Все разогнулись, глаза испуганные.
– Где?!
– Батюшки!
– Господи!
– Где?
– Не слышишь, что ли?
– Что?
– Да мотоцикл едет.
Что-то хрустнуло, и как будто порвали верёвку – все грузно побежали в лес. Минуточку, сейчас и я побегу, но пока посмотрю на крупный пожилой бег, пригнули спины, чтобы уменьшиться в размерах, ох-ох, вступило, зажало, дёрнулось за ребром – всё это быстро, страшно, весело. И красиво мелькает ситцевый подол Лидиякольны. Артём (белая футболка) уже вскрыл рощицу, и в эту щель мы пролезли.
Тамара командует спуститься в овражек и там сесть, и мы осторожно пристраиваемся. Евдокии бы помочиться, но Тамара приказывает сидеть, пока мотоцикл не отъедет. «А то повяжут тебя прямо без трусов!» Мы все трясёмся от смеха, а Евдокия смеётся испуганно, удержаться бы. Мотоцикл рычит совсем рядом, потом удаляется, вероятно, поворачивает, уходит за поле, уже не так страшно, оставляет тоненький след, пузыри на воде, и пропадает, деревья, птицы, ветерок. Тамара боится хитрости сторожа и отправляет Артёма (палочкой тыкает в капкан) посмотреть, уехал ли мотоцикл. Артём возвращается радостный: уехал! Мы выходим из леса и воруем с дополнительным азартом: мы не просто воры, но и ловкачи. Получайте! Вот вам!
Обратно идём увесисто (пять кило, не меньше), и как будто сложилась жизнь. Выясняется, что у всех есть планы на вечер, и все даже торопятся домой: к телевизору, к внукам, и варенье ещё доваривать, знаете какое (рецепт).
А вечером, часов в девять, можно увидеть Тамару на лавке, смягчённую закатом и халатом. Она выхватила у жизни гороху, прожила удачный день и теперь смотрит по сторонам, пахнет жареными семечками.
– Козлы!
III
Вот так волновались и радовались, а всё оказалось только прологом. Дальше так.
Тамара знала все грибные места в округе и как будто владела ими. Находила всюду: под еловыми ветками, в травке за берёзовой рощицей, среди надменных, церковных сосен, на пне, за пнём, в канавке, на пригорке. Но никому ни разу не выдала ни одной грибницы. Тамара никого, кроме Славы, не брала с собой, а если случайно встретить Тамару в лесу и спросить, где это она набрала такие красивые красноголовики, она разозлится и скажет, что здесь никаких грибов нет, а нужно идти в сторону Спасского, потом повернуть на север, и через два километра, за старой березой, снова повернуть и вот оттуда уже прямо идти на хуй (гром и молния). Зато около дома охотно показывала соседкам: «Смотрите, какие у меня белые, смотрите, какие подберёзовики!» Все охали, а она золотыми зубами улыбалась. Потом наступали опята, и Тамара со Славой приходили с огромными корзинами наперевес. Груздей почти не было в наших лесах, и Тамара собирала валуи, которые многие считали несъедобными, а Тамара собирала и отмачивала (валуи плавали в тазу обиженные), чтобы засолить их в высокие банки под пластиковую крышку.
В девяносто втором году случилось на редкость черничное лето. Говорили, что черники в лесах – ну это просто неприлично сколько, чёрные от ягод поляны. Люди несли вёдрами, протирали с сахаром, варили, некоторые даже замораживали – это если был отдельно дрожащий морозильник на кухне. Черника бушевала уже недели две, а Тамара никак не могла до неё добраться. За черникой нужно было идти в другую сторону – за Московское шоссе, спуститься с холма мимо городских садов, перейти железную дорогу, и вот там, в болотистом лесу – черника. Тамара того леса не знала и даже побаивалась из-за болота, но и чернику Тамара хотела, поэтому стала искать кого-нибудь, кто согласится отвести её.
И нашла. За шоссе в двухэтажном доме старой постройки жила тихая пенсионерка-садовод Тоня. Мы часто встречали Тоню, поднимавшуюся из сада, всегда уравновешенную двумя тяжёлыми сумками, она здоровалась, превозмогая одышку. Тониного мужа Колю давно парализовало, перекосило, отняло правую сторону и не вернуло: язык не произносил слов, как умел раньше, на лице схватилось свирепое смятое выражение, и рука, и нога – отказывались. Но Коля был молоденький совсем – ну шестьдесят пять лет, энергия в нём осталась, и Тоня подвязывала ему правую руку косынкой, выдавала палку, клала на голову кепку и выпускала на улицу. Коля куда-то ковылял, гремел собранными бутылками, как-то крутился в нашей общей воронке. Тонин сад был прямо у железной дороги, три сотки, ухоженный, унавоженный, солнечные грядки, синенький дом-фургончик, у домика две яблони и недавно посаженная слива-ребёнок, яркое пятно сиреневых флоксов у бочки. Тоня сгибалась над грядками, выставляла васильковый зад (старое платье доживало в саду), поезда проезжали мимо неё, и, может быть, кто-то даже запомнил васильковую Тонину задницу в огороде. А прямо за железной дорогой стоял большой лес, перед которым Тонин сад – ну брошечка. По краям лес разлинован соснами, а дальше – намешано. Тоня знала этот лес, собирала там маслята. Поэтому Тамара предложила Тоне сходить за черникой вместе. Тоня согласилась.
– Юрочка, пойдёшь? – спросила Тамара. – Мать отпустит?
Конечно, отпустит, конечно, пойду.
– Но вставать придётся рано! – предупредила Тамара. – Нужно успеть до жары, так что будь готов в полшестого.
Лёг пораньше, когда летняя ночь ещё не наступила, а только припугнула и красиво висела с жёлтыми разливами, остро кричали стрижи за окном. Будущий день уже постукивал у меня в голове, и я долго не мог уснуть. Но проснулся быстро и легко. А небо – как не ложилось, снова посветлевшее, разбавленное. Мама дала мне фляжку воды с вареньем, бутерброды с сыром и какие-то пусть будут печенья. Я надел курточку от спецодежды, которую мама принесла с работы, плотные брюки, резиновые сапоги (на них особенно настаивала Тоня), бейсболку USA California (новенькая, на затылке сеточка), взял эмалированный, орфографически неловкий бидон (скрипучая ручка, отколовшаяся краска, кто-то давно ударил и забыл, а бидон не оправился) и спустился к Тамаре на второй этаж. Звонок у Тамары с упругой жёлтой кнопкой, я недавно начал до них дотягиваться и поэтому нажал с удовольствием. За дверью резкий звон, энергичные шаги, Тамара открывает: пахнет зубной пастой, лицо пока ночное, не вступившее в силу, ясно, что ещё не собралась.
– Юрочка, вот посиди тут.
Я сел в коридоре на табуретку. Я проснулся вовремя, собрался, на мне бейсболка, и мне очень приятно и спокойно подглядывать за утренней Тамариной жизнью. Слава выходит из комнаты – как по учебнику: по-доброму выбрит, майка белая, синие тренировочные штаны. На кухне открыто окно, и там деревья, которые я знаю только с земли. На столе – вазочка с вареньем, сахарница, чашки, хлеб, набросок завтрака. И вот Тамара готова, тоже в спецовке (Слава принёс с работы), с рюкзаком за спиной, надевает резиновые сапоги. Мы со Славой молчим и смотрим на её ноги. Ну, с богом (Тамара берёт большую корзину), пошли, Юрочка. С богом, подтвердил Слава и закрыл за нами дверь. И мы с Тамарой ножками по ступенькам раз, раз, бидон скрип-скрип, вышли на улицу.
Летом всё самое красивое, новое, прохладное начинается как раз в районе шести утра, когда можно любое место застать врасплох, а оно – голубенькое, незлое. Мы свернули за дом и шли как будто к почте, а потом как будто в школу, а потом будто вдруг передумали и – на рынок, а потом бог с ним, пойдём в старое кафе, и в итоге (скрип-скрип) дошли до светофора и встали перед Московским шоссе. Мимо осторожно проезжали редкие, невыспавшиеся машины, и огромные изначальные грузовики сотрясали землю, везли далёкий, уставший в пути груз: куда они так рано? где Москва, направо или налево? Впрочем, всё равно. Перешли дорогу, завернули за клуб и там – Тонин двухэтажный дом. Мы открываем подъездную дверь, в темноте виднеется ненадёжный скелет деревянной лестницы, а нам навстречу – Тоня. Оказывается, она ждала нас у окна и вот спустилась, белокосыночная, в спецовке (унесла с работы, когда вышла на пенсию), улыбается.
Мы идём втроём: взрослая библиотека, дом моей учительницы, потом будто к нашим садам, и вот уже видна водонапорная вышка, красненькая, уверенная в себе, не знает, что её в конце концов снесут, и теперь бы вниз к садам – но мы сворачиваем. И всё сразу же преломилось и подсветилось новым: тут я ещё ни разу не ходил. А оказалось, что там разное есть: сперва немного смотрящих друг на друга сарайчиков, перед которыми раскидано сено, мелкие какашки, за дверями притаилась запертая животная жизнь (куриная? козья?), и кто-то там сейчас смотрит блестящим глазом, услышав наши шаги, хлопает крылом, но мы не останавливаемся. После сараев – лабиринт гаражей: прямо, направо, налево, разноцветные, как набор фломастеров, ворота (даже жёлтые есть!). Мы идём направо. Гаражи, помелькав, закончились у леса. Дорога рассыпалась щебёнкой, быстро повела вниз с холма (энергично скрип-скрип-скрип-скрип). Вдалеке вдруг споткнулся какой-то механический звук и стал расти. Я тут же узнал: поезд. Звук креп, обосновывался и наконец громко заколотился по рельсам совсем рядом, за деревьями. А когда щебёнка переменилась на песок и лес закончился, перед нами показалась железная дорога. И всё уже неважно по сравнению с ней. Железная дорога величественно расходится в две стороны, разрезает мир пополам блестящими сильными рельсами. Вдоль неё навытяжку стоят столбы, держат спину. Мы, маленькие, подходим к насыпи и осторожно забираемся, чтобы идти какое-то время по железной дороге. Тоне и Тамаре, кажется, всё равно, лишь бы не споткнуться о шпалы и не упасть (перелом бедра, долгая горячая постель), а я иду ювелирно, перебирая, потому что знаю, что там, где сходятся, обманув нас, рельсы, – новый, лучше старого, Уренгой, нижний огромный стальной Тагил, мягкий, синенький (в цвет вагонов) Пермь, блестящая полноводная Лена – на всех этих поездах я ездил к бабушке в Киров. Какое-то время мы идём по шпалам, пародируем великие поезда. Справа шагают по холму сады, слева лес стоит декорацией: густая зелёная темнота, только иногда берёзовый орнамент или ногастая сосна. Потом Тоня даёт сигнал, и мы уходим с железной дороги. Из леса торчит незаметный кончик тропинки, и, если бы не Тоня, мы никогда не заметили бы её. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на железную дорогу ещё разок, перед разлукой.
– За полчаса, наверное, дойдём до поля, – говорит Тоня.
IV
Тут достаточно длинного тире: шли – и пришли. Но невозможно смириться, ведь, кажется, у нас и нету ничего, кроме этой дороги. Нам нужно перейти лес, потом большое поле, снова войти в лес, и вот там, в объятиях болота – черника.
Лес берёт нас и тут же прячет, никто и не подумал бы, что только что по шпалам шли три небольших человека. С неба через деревья тянется где может неуверенный свет. Внизу тихо, темно и тесно, а если запрокинуть голову, то там берёзы, сосны, осины, освободившись от глупостей орешника, движутся с ветром, шевелят листьями – красивый высокий порядок. И что там внутри, внизу, у пяток – лесу всё равно.
Тамара достала маленькую красную баночку с золотой звездой – бальзам «Звёздочка».