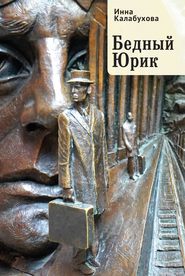скачать книгу бесплатно
Генрих все это мне рассказывал не так последовательно, связно, зато более образно, с какими-то яркими деталями, штрихами. Например, как Софья Модестовна поручила ему сделать эскиз программки студийного спектакля. Что-то Островского ставили.
– А мне вдруг кто-то из ребят «Строителя Сольнеса» подсунул. Знали уже, что я на архитектурный собираюсь. И я так увлекся. Представил, что мне декорации поручены. Кучу набросков сделал. Особенно бился с башней, с которой Сольнес будет падать… А программка-то… Когда спохватился – назначенный день уже прошел… Я быстро какой-то вариант изобразил… И прямо в воскресенье… На дом… В святая святых… Сначала Софья Модестовна со мной через порог разговаривала. В суровом, уничтожающем тоне… Потом развернула картинку, смягчилась, говорит: «Зайди, только ботинки грязные сними». А у меня носки дырявые. Ну все, как в соцреалистическом романе: какой-нибудь пролетарий приходит в княжеское семейство. Я ремень ослабил, чтоб обшлага брюк ступни прикрыли. Коекак прошаркал в столовую. А там обедает весь новосибирский бомонд: Михайлов, Глазырин, Гаршина, Елизавета Стюарт… Одна фамилия чего стоит – Стюарт. А в сочетании с именем – просто королева. И вид у всех королевствующий. Софья Модестовна меня представляет: «А это мой студиец – Генрих Иванов». Все уставились, как на дворника, пришедшего поздравить с Рождеством и получить то ли рюмку, то ли полтину. Проклинал себя, что пришел. Стеллка недовольную гримаску скорчила. Софья Модестовна вышла куда-то с моим блокнотом. Владислав Викентьевич, нехотя как-то: «Проходи за стол, пообедаешь с нами». Я, слава Богу, не поддался соблазну, говорю: «Опаздываю на консультацию». Тут вышла хозяйка, сунула мне блокнот в руки: «Я там замечания свои написала. Исправишь и завтра приноси в театр. И чтоб без опозданий. Да, зайди сегодня к Жене Чернику, напомни ему, что в четверг репетиция».
Не стоило дырки на носках маскировать. Мог перетоптаться в прихожей. Но я все эти щелчки, уколы, обиды глотал, как горькое лекарство, залпом. Даже водой не запивал. Ведь наградой за все неприятности мне была Стеллка. Сегодня пытаюсь разобраться, почему так страстно был в нее влюблен? Ну, во-первых, была она, или казалась, или считалась необыкновенной красавицей. И действительно – все при ней. Но ведь Ирка Шур объективно – ничуть не хуже внешне. Тот же высокий рост, такая же стройная фигурка. Те же большие глаза. И волосы густые. И черты лица правильные. И даже обе в этом ореоле музыки. К тому же Ирина во сто раз милее своей простотой, добротой. Так нет, как раз это высокомерие, недоступность, гордость что-то во мне разжигали, возбуждали. И потом, конечно, наряды, платья все эти, туфельки изящные, шубки, прически. Еще какие-то мелочи. Со всеми этими атрибутами женскими, которые для того и существуют, чтобы воображение и чувственность разжигать, я впервые столкнулся. И потом, знаете, – он слегка дотронулся до рукава моей крепжоржетовой блузки и поправился: – Знаешь, очень много значит, что женщина сама о себе думает. Если уверена, что красавица, что сокровище, если цены себе не сложит, то большинство мужчин подпадает под этот гипноз. Особенно если парень в себе не уверен. Если жизненного опыта нет. (А я про себя подумала: «Если чересчур эмоционален».)
Ох, мы наконец повернули в сторону «Больничного городка». Мне было очень интересно слушать Генриха, да ноги еле переступали. К счастью, проходили мимо кинотеатра «Металлист», а возле него приютилась парковая скамейка, никем по ночному времени не занятая. Я на нее просто рухнула.
Теперь Генрих рассказывал, как в какой-то момент его рейтинг… (нет, он произнес какое-то другое слово, «рейтинг» не употреблялся ни в сорок шестом, ни в пятьдесят девятом) скорее статус, упрочился. После того как он успешно поступил на архитектурный.
Стеллу же, наверное, раззадорила поездка в Москву, дифирамбы, которые пели Иванову студийные девушки. И еще в ней, у которой среди кавалеров водились не только школьники, но и вполне зрелые и опытные молодые люди, уже пробуждался темперамент, который приятно и безопасно сублимировался в отношениях с Генрихом.
Вот тут-то и таилась роковая ошибка. Ее допустила не только молоденькая девушка, но и ее хитро-мудрые высокомерные родители. Генрих уже перешел на второй курс НИСИ. Стелла поступила в пединститут на иняз. Не Бог весть что! Но куда? Куда? Университета в Новосибирске тогда еще не было. На консерваторию способностей не хватало. И связи не помогли. Склонности же были гуманитарные. Но можно будет поступить в аспирантуру. Или стать переводчиком…
– В это время, – рассказывал Генрих, накинув мне на плечи свою светлую хлопчатобумажную куртку и оставшись, нет, все-таки не в майке, а в какой-то рубашонке, – в это время я уже был принят в доме. Ну, не как ухажер, кавалер, поклонник, а скорее приятель. Может быть, паж, оберегающий принцессу. Или запасной игрок из второго состава. И вот как раз в роли пажа мне предложили на зимние каникулы поехать со Стеллой в пригородный дом отдыха. В лес. На лыжах покататься. Владислав Викентьевич по своим каналам достал тридцатипроцентные путевки…
И мы поехали. Все чин-чином. Она – в двухместной палате с какой-то великосветской знакомой. Я – с тремя мужиками. Но – за одним столом. И лыжи. На которых Стеллка – не очень. А я – лихо и даже с неким шиком. И с большим удовольствием. И танцы в клубе. Оказалось, что я хорошо танцую. И целоваться удобно и приятно в лесу. Очень приятно. Неожиданно ей понравилось. А ее напарница иногда отъезжала на полдня, а то и на день в город. И случилось то, что должно было случиться. Боже! Как я был счастлив! Но и смущен, испуган… Нет, прежде всего – счастлив! Теперь эта ослепительная, фантастическая девушка принадлежала мне! И, едва вернувшись в Новосибирск, я рассказал обо всем родителям. Они как раз вернулись из Маслянино, и отец получил квартиру в центре города. В коммуналке, но две комнаты. Мне казалось, что этого вполне достаточно для будущего моего семейного рая.
Мама с отцом тут же засобирались идти к Войно-Радзевичам свататься. Но я сказал, что следует подождать. Я, конечно, догадывался, что реакция родителей Стеллки будет совсем другая. Она, кстати, не спешила поговорить с матерью. И только когда поняла, что беременна, поставила Софью Модестовну и меня в известность одновременно. Вот тогда я спустил родителей, что называется, с поводка. Они этого визита до сих пор не забыли. Особенно мама.
Нет, нецензурных слов в этом доме не употребляли… Но оскорблять умели. Особенно Софья Модестовна. На людях такая комильфо, в семье она давала волю языку. А в тот день особенно. Ведь была в своем праве. Я оказался и подлец, и негодяй, и даже вырвалось, что насильник. Правда, Владислав Викентьевич, подробно вникнувший в ситуацию, эти намеки на уголовную ответственность пресек. Но зато мать и отца облили грязью с ног до головы. Они были полуграмотными плебеями, которые вырастили бесчестного, бессовестного, безответственного, растленного…
– Так ведь любовь, – лепетала мама.
Отец мой тоже пытался Софью Модестовну утихомирить:
– Давайте не будем ссориться и найдем правильный выход из положения. Ведь их теперь трое. И действительно – любовь. Генка мечтает о женитьбе…
Тут Софья Модестовна отбросила всякий пиетет:
– Женитьба?! Моя дочь – за мерзавца? За голодранца? И вы воображаете, что она собирается рожать от вашего урода? Да ни за что на свете! Ваш сынок понимал, что никаких надежд у него нет, и решил таким образом своего добиться… Нет, нет и нет! Не будет этого! Вон из моего дома!
– Вот примерно такой состоялся разговор, – Генрих перевел дыхание. – Потом мне все-таки удалось встретиться со Стеллкой. Я и умолял, и убеждал ее не делать аборта. Рисовал фантастические картины нашей будущей счастливой семейной жизни. Ответ был один: «Не хватало еще нищету плодить. Если ты дурак, то я должна о своем будущем подумать».
Скоро все это свершилось. А потом мне совсем перекрыли все входы, все двери, и ей – все выходы. Я вроде как обезумел. Никакая учеба, ничто меня не интересовало, никого я не хотел видеть. Писал сумасшедшие письма, подстерегал… Пока Софья Модестовна не пригрозила, что заявит в милицию. Я только не понял, о чем… Перестал ходить в институт, нахватал двоек и незачетов. Вызвали в деканат – не пошел. Кто-то из преподавателей меня встретил, вида моего испугался… Поговорил. Посоветовал взять академ. Я как раз в эти дни от безысходности написал Ирке в Москву. Крик души какой-то. А кому еще? С родителями о таком не говорят. Она сразу ответила. Посоветовала действительно взять академ, приехать в Москву, может быть, перевестись в МАРХИ. У нее (скорее, у ее родственников) кто-то там был знакомый. Врач, к которому я пошел за справкой, разговаривал со мной, как с тяжелобольным. Диагноз поставил «невроз», но, боюсь, про себя считал шизофреником. И уехал я в Москву. Чуть меньше, чем на год. Никто меня в МАРХИ не взял. Зато помогли устроиться в реставрационные мастерские Троице-Сергиевой лавры.
– Странная жизнь была, – рассказывал Генрих. – Оказывается, есть какие-то крючки, за которые тонущий может цепляться. Спасательные круги. В этих реставрационных мастерских все удачно для меня сплелось, сошлось. Ну, во-первых, все новое: место, люди, обстановка. Во-вторых, работа. Я, пожалуй, впервые почувствовал, как правильно выбрал… Архитектуру… Никогда не надоедало думать над решениями… Выполнять задания… Причем не только архитектурные… Чисто подсобные – раствор готовить, что-то обтесывать, прилаживать. Даже на работу каменщиков, маляров смотрел с удовольствием… И многому в эти месяцы у них научился. Когда пришлось сдавать зачеты по производственной практике, я среди ребят, стыдно хвастать, всегда на самый высокий разряд бывал аттестован. Нас в институте тогда всем строительным специальностям обучали…
– Ну и первейшее, конечно, наслаждение – все эти фрески разглядывать. Из храма в храм переходить… В каждом мне какая-то своя загадка чудилась. Будто архитектор и художник чтото мне о смысле жизни шепнуть хотят. Я там много рисовал, но получалось плохо. Видимо, чтоб разгадать чужую загадку, надо ее со своей соединить. А у меня еще никаких мыслей архитектурных, тем более догадок – не было. Так – восторженный провинциальный недоросль. Но во всяком случае – масштаб мира, его горизонт почувствовал. И свое крошечное в нем место. И горе мое уже не воспринималось как мировая трагедия. Вот только ребеночка этого моего первого все равно до слез…
Генрих встал со скамейки, отошел в сторону, в тень кинотеатра, чиркнул спичкой и минут пять курил там. Вот теперь я догадалась, почему «Разговор» Кедрина его так задел. Вернулся, сел рядом, взял на секунду мою ладонь в свои, потом отложил ее бережно мне на колени, как хрупкую, драгоценную вещь, и продолжал:
– Ирка, конечно, меня поддерживала, вытаскивала. И дома я у них был как родной. И в театры она меня таскала. И по музеям, по городу. Но главное – разговоры… Ни о чем… А то – обо всем… Я ей самое страшное, стыдное мог сказать… Нет, все-таки вру, не все. Объяснить, почему ее предал… Нет, объяснить мог бы, да не посмел. Язык не поворачивался сказать, что не было у меня в юности к ней этого влечения, страсти. А главное – и там, в Москве, не возникало. Ведь уже промелькнуло несколько месяцев, когда первая горечь улеглась, мысль – может, начнем все сначала. Она такая замечательная! Такая родная!
Генрих замолчал. Опять потрогал мою руку.
– Ну, не чувствовал я в ней женщину. Загадка какая-то. А вот как про Стеллку, бывало, подумаю – все равно жжет.
Он легко поставил меня на ноги:
– Ну, скоро конец моей истории. Да и пора вести вас домой. Валентина Акимовна, поди, волнуется. – Опять взял меня под руку. – Да, мы, ведь кажется, с «выканьем» покончили?
– Вопрос не обсуждался, – заметила я. – Но как вам удобнее.
– Ну, раз я эту черту переступил, назад возвращаться неохота. Все-таки какая-то высотка или укрепление взято.
Мы шли по направлению к дому, но опять каким-то кружным путем.
– Вернулся я в Новосибирск, восстановился на втором курсе. И с нервной системой у меня стало получше. Еще следующим летом отец достал мне на службе путевку в санаторий на берегу Черного моря. Там такая отличная компания подобралась, как раз из Новосибирска. Молодая пара, она – медичка, он – тоже из НИСИ, только – пэгээсник. Прогулки, настольный теннис, плаванье… Нет, не все так розово. Еще до этого санатория я пробовал со Стеллкой встретиться, поговорить. Бесполезно. Она меня гнала, гадости говорила. И про нее мне говорили… Нет, не буду… Нехорошо это. В общем, постепенно заросло. Работы на архитектурном много: математика, начерталка, строительная практика, история архитектуры, история искусств, рисунок… И друзья появились на факультете настоящие.
Но вот на четвертом курсе где-то мы с ней пересеклись. Случайно… Мимолетно… И она сама подошла. А у нас разница в курсах отпала – из-за моего академа. Больше того, Стелла в пятьдесят первом уже заканчивала свой пед. Там срок обучения – четыре года. А мне еще предстояло учиться. Архитекторов, как и врачей, готовят шесть лет. И так все быстро закрутилось снова. Причем не только между нами, но и ее родители не возражали. Софья Модестовна при встрече и через Стеллку в гости приглашала. И принимали очень мило. Конечно, я был уже не тот вахлак. Но все равно – дистанция никуда не делась. Только иной раз ее старались сократить, замазать. А то вдруг в порыве какого-то раздражения подчеркивали, носом в нее тыкали. Но огонек моей чувственности уже разгорелся с новой силой. Да и свой долг я, по тогдашним понятиям, знал. Короче, перед окончанием Стеллой института мы поженились. Родители мои опять жили в деревне. Я – в общежитии. Жена – в отчем доме. Назначение в сельскую школу ее миновало. И стала она преподавать немецкий в институте. Папины, а может, мамины связи помогли. Жизнь же наша интимная, которая была главной целью, смыслом моей женитьбы, носила какой-то виртуальный характер. Она ко мне в общежитие брезговала приходить. Хотя с ребятами я мог всегда договориться. А в ее доме тоже все получалось боком.
Но, так или иначе, через полгода после регистрации жена моя опять забеременела. И снова – аборт. Резон «незачем нищету плодить» присутствовал по-прежнему. Но еще прибавилась боязнь испортить свою безупречную фигуру. «Ты посмотри на маму, – говорила Стеллка. – Она ведь на старых фотографиях как тростинка. А теперь и живот торчит, и бока. И никакие курорты, диеты, массажи не спасают».
– Нет, нет, – Генрих оставил мою руку и опять достал сигарету, – не хочу даже вспоминать. В пятьдесят третьем я защитил диплом, получил назначение в «Томскжелдорпроект» и уехал. Она осталась в Новосибирске. Я должен был определиться с квартирой, обустроиться и прочее. Это года полтора-два тянулось. Я жил на съемных, в общежитии, потом получил комнату в коммуналке. Стелла ко мне приезжала. На неделю. На месяц. Но больше двух не выдерживала. Томск ей не нравился – дыра. Люди из моего окружения – тем более. Поговорить не с кем… Пойти – некуда… А я как-то сразу вписался. Архитекторов с хорошим, базовым образованием в «Желдорпроекте» – раз-два и обчелся. Меня хоть и приняли на самую маленькую должность, сразу включили в два проекта. Потом дали самостоятельную работу, повысили в чине, увеличили зарплату. Я, когда это произошло, помчался на несколько дней в Новосибирск (воскресенье плюс какие-то праздники), похвалиться. Обрадовать – на новое жалованье можно и в Томске неплохо жить. Без салатов оливье Софьи Модестовны. И связей Владислава Викентьевича. Как Стелла смеялась! «Именно что жалованье! От слова «жалкое»! Когда у тебя появятся представления о том, как должен жить интеллигентный человек?» Я сорвался чуть не в первый раз: «При чем здесь «интеллигентный человек»? У тебя идеалы жадной мещанки. Все внутрь, все на себя. И семья твоя на этом стоит. И ничего ты никому нести, отдавать не хочешь. Ни знания, ни ума, ни чувств. Ни ученикам своим, ни людям вокруг. Ни мне, тем более». Был жуткий скандал. К нему и Софья Модестовна подключилась. А я был прав в главном – она меня ни капельки не любила. И, конечно, не уважала. А в Новосибирске Стелла по-прежнему была в центре «избранного общества» нарядных подруг. И интересных мужчин. И их отношения даже не слишком маскировались. Может, это больше всего меня бесило. Ревность – тяжелое чувство…
Но все-таки через два года Стелла перебралась в Томск. Что ее подтолкнуло? То ли подружки повыходили замуж, то ли кавалеры переженились, но «бомонд» распался. А может, кто-нибудь из поклонников опять не оправдал «матримониальных» надежд?.. Как, видимо, ушел кто-то достойный с крючка перед окончанием пединститута и пришлось довольствоваться жалким пескарем вроде меня. Чтобы не загреметь в село.
Ну, вначале все как будто наладилось. Дважды приезжала в Томск моя мама, помогала наладить быт, все мела, стирала, уют организовывала. Но угодить Стелле было трудно. Все – не так. Все отвергалось, все раздражало. И денег всегда не хватало. Хотя к моей растущей зарплате прибавлялись приличные командировочные, которые я старался в поездках экономить. И какие-то левые у меня проекты завелись. И она сама устроилась на работу. И в том же Доме офицеров ей, как аккомпаниатору, платили. Правда, оказалось позже, что значительная сумма попадала в сберкнижку на ее имя. Чтобы потратить деньги должным образом, когда вернется в Новосибирск. Потому что оставаться в Томске жена не собиралась. Ни за что. А мне там нравилось. И проектные мои удачи. За эти годы я заложил стадион в центре города, жилые дома в Улан-Удэ, в Красноярске, и в Томске тоже. А еще – парк. И командировки по Восточной Сибири. Я побывал и в Иркутске, и в Туве, и на Байкале.
Уезжал иной раз с радостью, от скандалов, от ссор. Но в командировках соскучивался, спешил домой. А там – упреки, что вечно мотаюсь, бросаю ее одну, бездельник, бестолочь, никакой помощи от меня. Хотя я чувствовал – Стелла тоже временами ждет не дождется, чтоб я куда-нибудь свалил… Иногда я мечтал: появился бы ребенок, все бы вокруг него наладилось. И так обрадовался, когда это случилось. Но Стеллка тут же уехала в Новосибирск на известную операцию. Сохранять свою фигуру. И спасаться от нищеты… Больше потом уже не беременела. Когда-то в пылу ссоры, уже здесь, в Новосибирске, выкрикнула, что, слава Богу, теперь ей эта гадость не угрожает…
Мы уже подходили к Больничному городку. Я еле плелась, повиснув у спутника на руке. А он все рассказывал:
– Я хоть понимал, насколько мы не совпадаем, да уже и моя любовь, даже страсть испарились, но все не хватало духу из этого капкана вырваться. Да и никаких других вариантов не видел. И как за последнюю соломинку подумал ухватиться за возвращение в Новосибирск. Стеллка помимо абортов несколько раз уезжала со скандалом из Томска. Я – то махал рукой. То – мчался вслед. Короче, ни последовательностью, ни характером не отличался. И вот во время одной такой поездки пошел по проектным учреждениям. Что-то предлагали, но неподходящее. Зашел в родной институт. А там как раз открылась аспирантура. И я кстати подвернулся. И когда я об этом Стелле сказал, она загорелась сильнее меня. Конечно, кандидат архитектуры! Звучит! А потом – доктор! Даже мою непрезентабельную личность можно таким званием подштукатурить. Или загримировать? А за полтора года до этого мой отец получил двухкомнатную изолированную квартиру возле той самой трамвайной остановки. Я прямо как танк на родителей попер. И они тут же сдались. Сами перебрались в первую, проходную. Мамину мать устроили спать в большой прихожей, в нише. Кухня, правда, громадная. Обе старушки там весь день и проводят. А у нас – просторная спальня. С окном в тихий двор.
Но что толку? Хоть и работать Стеллка стала в том же институте связи. Ей обрадовались. Язык она знала хорошо. И я от нее многому научился. У меня в аспирантуре – никаких командировок, режим почти свободный, всегда готов к услугам. Но зато – сколько дополнительных поводов для стычек, обид, столкновений, раздражения. Собака, от которой куча грязной шерсти. Старая, деревенская, болтающаяся под ногами бабушка. Мама со своими услугами некстати. Отец с дешевыми сигаретами. Но главное, главное – ничего общего, никаких точек соприкосновения, никаких общих друзей. Мои приятели ей противны, мне ее фифы и кобели отвратительны. По любым вопросам – политики, морали, даже по житейским мелочам – схлестываемся. Жить неохота. Год, как мы переехали из Томска, а я уже последние месяцы чувствовал: подступает ко мне опять мой невроз, то ли психоз. Стелла стала частенько сбегать к Софье Модестовне под крыло. Там ее всегда ждали. Геля замуж так и не вышла. Был какой-то роман, но мать этого «простого инженера» прогнала поганой метлой, как меня в свое время. Тем более что старшей дочери село не грозило.
А я все больше думал: с какой бы крыши шагнуть? Или хоть в какой адюльтер кинуться, чтоб тут все рухнуло, с грохотом, со скандалом. Но чтоб разжались эти тиски вокруг моей шеи… Нет, вокруг моей души…
– А Ирина? – невпопад спросила я.
– Ну, я уже объяснял, что Ирка мне давно стала как сестра. А во-вторых, она, пока я тут дрова ломал, успела в Москве замуж выйти. Спасибо богу – он мне помог – Надю эту Полежаеву подсунул. Я тут на нее с полгода поглядывал – неглупая, славная и на ощупь годится. Может, отправиться с ней в какие-нибудь кустики? Только умоляю, ей не надо говорить. Не хочу ее обидеть… Я теперь, если бы не был атеистом, каждое утро и вечер за нее богу бы молился. Что она меня к моему счастью, к судьбе, можно сказать, за руку привела…
Мы уже подходили к моему дому. Я свалилась от усталости, даже не знаю на что. Вроде скамеек возле крыльца не водилось… Значит, на само крыльцо. Мой спутник только успел подстелить мне какую-то свою одежку и устроился рядом. Утомленная нескончаемым путешествием, всеми этими горками, кочками, выбоинами, спусками, подъемами, переулками извилистыми, а главное – свалившимся нежданно-негаданно грузом чужой жизни, – я уперлась в его грудь своим плечом. Потом пристроила куда-то отяжелевшую голову. Наверное, на ту же грудь. Произошло это, как все у нас – совершенно естественно. Через несколько минут я обнаружила, что Генрих сидит на ступеньку выше меня, а голова моя лежит у него на коленях. Я пребываю в полудреме, а он продолжает мне что-то рассказывать. И в то же время овевает неизвестно откуда взявшейся газетой (это я, наверное, принесла из редакции еще один экземпляр его статьи) мое лицо. И делает это так нежно, так ласково. А может, и целует одновременно. Но и поцелуи какие-то не страстные, не жаркие, а как бы витающие, порхающие вокруг моих волос, вокруг моих щек. Создающие эту восхитительную ауру добра, любви, нежности. В которой так сладостно дремать и ни о чем не думать. А вокруг нас – не то день, не то ночь, – прозрачная, мягкая дымка, серость летнего солнцестояния, которая не мешает нам видеть друг друга. Но поскольку полночь давно миновала, то все остальные люди спят. И мы наслаждаемся одиночеством вдвоем. Каким-то специально для нас существующим миром. Смутно помню, как мы поднимаемся на четвертый этаж. Как я отпираю дверь. Последние легкие прикосновения его губ к моим волосам, лицу. В квартире все спят. Я кое-как добредаю до нашей комнаты. Постель моя постелена бабушкой еще с вечера. Я полубессознательно сбрасываю одежду, падаю на тахту и мгновенно засыпаю.
Проснулась я, как ни странно, в полвосьмого. Пока завтракала, с пятого на десятое рассказала бабушке о вчерашней прогулке. Мне не хотелось никого пускать в себя. Надо было раньше разобраться – что же происходит в моей жизни? Нужно мне это? Хорошо это? Плохо? Или вообще не стоит серьезного внимания? Какие же чувства я испытываю к Генриху? Что-то прояснится, когда мы встретимся сейчас в трамвае?.. Но мой поклонник на остановку не пришел.
Рабочий день я прожила в тумане. Чисто механически правила какую-то статью, сидела на редакционном совещании. И все к себе прислушивалась… В конце концов решила, что произошедшее как-то сомнительно, слишком внезапно, чтобы заслуживать внимания. Перебирала буквально по слогам все, что рассказывал Генрих о своей жене, об их взаимоотношениях. Можно ли доверять подобным рассказам мужей, бросающих своих жен? Даже лучшим из них? Ведь они не только хотят предстать в удачном освещении перед новой возлюбленной. Они перед самими собой стремятся оправдаться. Хорошо бы в этом случае услышать вторую сторону. Но я должна была признать – Генрих старался быть объективным. О самом себе судил достаточно сурово. О жене не сказал ни одного грубого слова.
Но это все турусы на колесах. Суета вокруг дивана. А что мы имеем на сегодня? До отбытия Иванова в Алма-Ату остается дней десять-двенадцать, а я еще не разобралась – как же я к нему отношусь? И советоваться ни с кем не хочу.
Я, между прочим, уже успела познакомить Иванова с Чижами. Это – мои ростовские друзья. Нет, в Ростове мы были скорее приятелями. Но когда мы, одновременно окончив вуз, приехали, перефразируя Лермонтова, «с милого юга в сторону северную», то потянулись друг к другу со страшной силой. Теперь у нас, кроме внутреннего сходства (одинаковые интересы, вкусы, принципы, взгляды; знание Марком наизусть целых кусков из «Бравого солдата Швейка» приводило меня в восторг, а его – моя феерическая начитанность, при ближайшем рассмотрении, весьма поверхностная; но кто же в молодости ищет глубины? блеск и разнообразие прежде всего), так вот, кроме духовно-душевных совпадений, у нас появилась общность биографии, географии и образа жизни. Надо еще учесть, что Чижи тоже умудрились поучаствовать в нашем знакомстве с Генрихом. Еще тогда, когда никто не подозревал о его существовании. Началось с того, что по приезде моем в Бийск, а их – в Новосибирск мы затеяли бурную переписку. Потом я несколько раз приезжала к ним в гости на праздники. А ко мне – Чиж. Правда, один раз и в единственном числе. И наконец, свой переезд в Новосибирск я затеяла специально для того, чтобы жить с ними в одном городе. Казалось бы, цели я достигла. Но дальше – больше.
Когда мы с бабушкой окончательно постановили менять наш центр с туалетом во дворе и водоразборной колонкой за два квартала, то искали вариантов именно в Кривощеково. Нет, не совсем так. Цепочка была извилистой. Во-первых, переезд именно в окраинный, вновь построенный жилмассив совершали по жестокой необходимости. При первом же ознакомлении с квартирным рынком стало ясно, что наша однокомнатная хибара без удобств может привлечь только тех, кто живет у черта на куличках. А новые жилмассивы в пятьдесят седьмом году существовали только в двух противоположных концах Новосибирска – в Заельцовском районе и в Кировском (в смысле – Кривощеково). И первый обменщик подвернулся именно в Заельцовке. И мы с бабушкой даже затеяли с ним переговоры. Но тут вмешался еще один персонаж. Он еще поучаствует в этом приключении. Друг моего бийского друга. Впоследствии и мой друг. А тогда – только приятель. Тоже недавно переехавший в Новосибирск с молодой женой и получивший жилплощадь в том же Кривощеково. Он вдруг пришел к нам с бабушкой на дом. О, не просто пришел. Дело было зимой, а я как раз сильно болела, и Лерхе прискакал то ли дров нарубить, то ли угля натаскать. А может, и то и другое. И одновременно принес кусочек бумажки, который отодрал со столба как раз в своем Кривощеково. Люди хотели поменять на центр свою комнату в коммуналке. И как раз в Кировском районе. Где жил сам Лерхе. Где недавно поселился с семьей Сева Дуканич, о котором я уже упоминала. И, о счастье! Всего в трехстах метрах от Чижей! Конечно, мы сразу вцепились в этот вариант, послав к черту Заельцовку. И уже через два-три месяца, в мае пятьдесят восьмого года, переехали. И чуть ли не в эти же дни Генрих с женой прибыл из Томска именно на улицу имени Шестой пятилетки. Чтоб через год познакомиться со мной.
Так что Чижи не были единственными персонажами заключительных манипуляций судьбы. Но все же… Уж очень не только я, но и бабушка стремилась жить с ними по соседству. Прежде всего нас связывал Ростов. И вообще – за эти полтора года они стали не только главными моими друзьями, но и соучастниками нашей повседневной жизни. Как, впрочем, и мы – их. Тут и какой-то обмен услугами, помощь в житейских затруднениях, готовность разделить горе и радость. Верка приносила к бабушке заболевшего маленького сына, когда надо было отлучиться. Я покупала на их долю какую-то рыбу в военном городке. Чиж помогал мне отнести белье в прачечную. Верка подшивала длинноватое платье. И ходили мы всюду вместе. И на Давида Ойстраха. И на авторский концерт Кабалевского и Хачатуряна. И на тот самый фильм «Коммунист» в тот самый день, когда Надя забегала и сообщила Зое Гавриловне, что «рисунки принесет автор».
Короче, я просто уже обязана была сообщить Чижам о своем новом знакомстве. Ведь были же они в курсе моего длительного и неудачно завершившегося романа. И Верка очень радовалась его окончанию, потому что Рогов ей не нравился решительно и бесповоротно. До сих пор не могу понять причины такой яростной неприязни. Но именно поэтому она так обрадовалась переменам на моем личном горизонте. Ей, как большой любительнице всего определенного, хотелось, чтоб точка на моем прошлом была поставлена раз и навсегда. И в то же время, при ее закоренелой буржуазности, почему ее не смутило, не насторожило, что мой новый знакомый женат? Правда, много лет спустя Верка рассказывала, что после первого общения с Ивановым, которое и длилось всего час-полтора, они с Чижом решили: вот этот Инке подходит, не то что Рогов.
А знакомство состоялось какое-то тоже как бы подстроенное плохим кинорежиссером. Мы с Генрихом задержались в центре, то ли в кино, то ли загулялись. И он взял такси. И когда уже катили по Шестой пятилетке, мимо его дома к моему, я заметила идущих по тротуару Чижей (окна их дома прямо заглядывали в окна дома, в котором жили Ивановы). «Выйдем здесь!» – крикнула я. И мы вылезли. И я их познакомила. Лично. А по моим рассказам они были друг другу уже известны. Чижики все-таки уговорили заскочить к ним «на минуточку». Которая как раз и обернулась тем часом, когда обнаружилась наша подходящесть. Впрочем, тогда они ничего такого не сказали, что могло бы повлиять на меня, и все это уже оставалось позади. А вот сегодня? После ночной исповеди? Какое же я в конце концов принимаю решение?..
Я вернулась с работы и застала бабушку в неважном состоянии. Оказалось, что прошлой ночью она таки переволновалась. Не спала, ну не до полтретьего – время моего возвращения – но до полпервого. Решила днем прилечь, но замучила внезапно ударившая жара. А когда открыла окно – оглушил грохот панелевозов, таскавших целыми днями откуда-то с Затулинки строительные блоки. Где-то начинали строить первые панельные дома. Кажется, на той же «Башне».
– А что же будет летом? В июле? Я же погибну от жары, – жаловалась бабушка. И мы принялись обсуждать варианты. Первый – поехать нам в отпуск в Ростов. Но пока у меня не решилось с журналом, я была привязана к Новосибирску. Второй – попробовать взять для бабушки путевку у меня на работе в военный санаторий в Боровое, где-то в Казахстане. Наши офицеры-журналисты эти места очень хвалили. Но это далеко от меня. Страшновато. И наконец, третий: снять ей комнату где-нибудь в лесу под Новосибирском, куда я смогу приезжать раза два в неделю. Неплохая идея. Узнать бы еще – где и как?
Но главное, что-то реальное и удачное нарисовалось. И бабушка приободрилась, накормила меня ужином, потом пошла на кухню мыть посуду. А тут Зоя Гавриловна позвала ее смотреть телевизор (Господи! До собственного ящика нам оставалось целых пятнадцать лет!). А я, вымыв в коммунальной ванной лицо, шею и ноги (не мешало бы после вчерашних скитаний искупаться вообще, но втайне я все-таки ждала визита Генриха и не хотела бы в это время быть в ненадлежащем виде), надела любимое голубое ситцевое платье и улеглась на диване с книжкой. Прежде долго думала, что бы такое взять в шкафу. Взгляд упал на «451° по Фаренгейту». Любимая, почти наизусть знакомая книга. Кстати, подарок Рогова. Но читалось плохо. Мешало некое беспокойство, раздражение. Причем непонятного происхождения. То, что Генрих не появился ни утром, ни вечером и даже в редакцию не позвонил, скорее всего, объяснялось тем, что он одумался, спохватился. Или, разбередив свое прошлое, почувствовал, что какие-то нити, связи не сносились. Да и вообще – несносимы. Я ведь по книгам знала, что любовь во многом строится на чувственности. И догадывалась, что у нас с Роговым ничего не вышло именно из-за отсутствия влечения. Но ведь и в сегодняшней ситуации я, во всяком случае, ничего похожего не испытывала. Так что слава Богу. Что было, то было, было и прошло. И прекрасно!.. Не надо ничего решать, выбирать. Ни с чем соглашаться. Ничего отвергать… Каждый вернется на круги своя…
Это моя голова так рассуждала, так себя уговаривала. А чтото внутри… Нет, не в области либидо. Там все тихо спало. А в какой-то тонкой сфере, которая зовется душой. Как раз там это беспокойство гнездилось. Нет, скорее вакуум. Мне этого человека элементарно не хватало. Даже не знаю, чего именно: видеть, говорить, молчать, слушать? Да просто, чтоб он был в этой комнате. Дышать с ним одним воздухом… Сначала это были слабые импульсы, которые удавалось заглушить рассуждениями о бесперспективности ситуации. Размышлениями о моей вероятной фригидности. Вялым чтением Бредбери. Но постепенно мои эмоциональные, душевные страдания превратились в чисто физические. Я поняла, что если Генрих немедленно не предстанет «передо мной, как лист перед травой», что-то сейчас во мне разорвется. Может быть, сердце. Но не в переносном, возвышенном смысле. А вот эта туго набитая сумка в груди. Или легкие. Наверное, что-то похожее испытывает человек, которого пытают полиэтиленовым мешком. Конец мой приближался…
И тут завизжал звонок. Я вцепилась в спинку дивана, чтобы не броситься в коридор. Но когда Генрих открыл дверь, даже не постучав, я, положим, не встала, но мысленно так рванулась навстречу, так была счастлива, что все дневные рассуждения и постановления были отменены в одну секунду. Новых я, конечно, никаких принять не успела. Но готова была погрузиться в любые перипетии, любые неожиданности, в любые сложности… Лишь бы они были. Лишь бы был он…
Наверное, все это отразилось, написалось на моем лице. Или я эти эмоции излучала. Потому что Генрих впервые повел себя у нас в доме раскованно. По-свойски. Увидев на диване Бредбери – тут же схватил. Так обрадовался: «Ты уже много прочитала?»
– Это я перечитываю. Книга для постоянного чтения.
– Не может быть! – Он аж засветился весь. – Я ее всего раз получил в руки от приятеля. Прошлой осенью. Но прочел дважды. Только тогда вернул. И вот странно… Последний месяц постоянно о ней думаю. Об этой книге. Я тебя с Клариссой отождествляю. Только не смейся!
Ну, как же было не смеяться? Я-то считала себя книжной, беспочвенной фантазеркой, сплетающей нереальные сюжеты, высасывающей из пальца чувства. И вдруг сама попала в выдуманные персонажи. Но что общего у меня с этой семнадцатилетней, бесплотной как дух, светящейся, как лунный луч, героиней Бредбери? Только страсть к чтению. Вот как он меня позиционирует! А Милдред, наверное, ассоциируется у него с женой. В общем-то совпадений много. (Я не подозревала, что даже сюжет с говорящими стенками позже появится.) Но Генрих – навряд ли Монтег. Так что всех нас может постигнуть разочарование.
Нет, не так связно я думала. Мелькнула тень мысли. А скорее всего – всплеск интуиции. И мы бурно заговорили о Бредбери, об американской фантастике, которая только вырвалась первыми книжками на прилавки магазинов. «Я – робот» Азимова, несколько рассказов Каттнера о Хогбенах, «Случай на Меркурии» в каком-то журнале.
Генрих спросил:
– А тебе не хочется написать что-нибудь эдакое фантастическое, мистическое? Мне последнее время чудится, что мистика витает не только в мировом пространстве, но и в повседневной жизни.
Я взялась объяснять, что мои вкусы, читательские и творческие, абсолютно противоположны. Мечтаю делать маленькие, а потом, может быть, и большие, но точные слепки с действительности. Истории живых людей. Таких разных. И прежде всего этим интересных. Фантастически интересных. Но реальных. И тут же пообещала дать ему свой рассказ, напечатанный два года назад в центральной газете, и записную книжку с «гениальными» планами, заметками, набросками. Генрих пришел в восторг от моей щедрости.
Вернулась от соседей бабушка, и пришлось пить чай. По-моему, они друг другу нравились. За чаем бабушка вдруг спросила – не подскажет ли Генрих, как коренной новосибирец, где стоит поискать частное жилье за городом? На месяц. Для нее. Он загорелся:
– Давайте мы с Инной в воскресенье съездим в Мочище. Лучше места не найти. Обь там чистейшая. Лес сосновый. И автобус ходит от центра до самого поселка.
После чая мы отправились на свежий (загазованный панелевозами) воздух. Все-таки какая-то скамейка, может быть, на территории близлежащего детского сада, нашлась. Мы на ней устроились. Теперь настала моя очередь исповедоваться. Задавал ли Генрих мне какие-то вопросы? Или чутье мне подсказывало – раз я не собираюсь прерывать это знакомство, то должна отплатить ему той же мерой искренности. Но что такого интересного я могла рассказать? Мою прекрасную бийскую жизнь, мою нежную дружбу с киевскими ребятами я уже по кускам, по эпизодам, по поводу и без повода выложила в нашей ранешней сумбурной болтовне. Со смехом поделилась своими юношескими влюбленностями. Ведь я, в отличие от Генриха, попала уже на раздельное обучение. И на филфаке ребят почти не было. Так что влюбляться приходилось в незнакомцев. На расстоянии.
– Но что примечательно, – рассказывала я, – стоило нам познакомиться, тем более – пообщаться – все чувства пропадали. Исчезали куда-то. В них, в парнях, не оказывалось ничего, что я нафантазировала. А мною никто не интересовался. И ведь я не урод какой-нибудь, – нахально заявила я. – Дефект где-то внутри сидит. Каких-то женских флюидов не хватает. Мне это один раз прямо сказали…
– Тот, кто это сказал, – законченный болван. Это в тебе-то женских флюидов не хватает?.. Ты просто не знаешь себя…
– Да нет… Он не болван.
Вот тут-то я стала подробно описывать наши отношения с Роговым. Нашу взаимную духовную и душевную привязанность. И в то же время… Я не знала, не умела тогда объяснить, почему у нас ничего не вышло. Теперь-то я догадываюсь, что мешала моя фригидность. И когда на какой-то вечеринке я, поковыряв вилкой в тарелке, сказала: «Фу, котлета холодная», а Рогов зло буркнул: «Сама ты эта котлета», – он именно мою особенность имел в виду.
Теперь надо было сообщить последнее… Я этого не стеснялась. Но просто не могла подобрать слов. Мы с Роговым оба надеялись, что наша близость как-то прояснит, наладит, поможет сохранить, укрепить ту удивительную сердечную тягу. А вышло наоборот. Как-то обидно, оскорбительно. Антиэстетично. Во всяком случае, для меня. А для него, наверное, просто никак…
Меня опять удивило, как легко было все это Генриху рассказывать. Он даже иногда помогал мне словами. А потом совсем по-свойски, как-то по-домашнему, по-родному взял за руку.
– А ты и Рогов уверены, что разобрались в себе? – он говорил с высоты своих тридцати лет, несложившегося брака, случайных и неслучайных романов. – Первая близость часто бывает неудачной. Я, конечно, лицо заинтересованное. Я рад, что твоя любовь окончилась… Но окончилась ли? Я ведь прежде всего тебе счастья хочу…
Я сидела, съежившись, притихнув в этом коконе нежности, оберега. Потом тихо проговорила:
– Это все испарилось безвозвратно. То есть дружба осталась. Но никакого сексуального влечения нет. Да его и не было. Я тебе говорю – я для этих дел человек безнадежный. Даже хуже бесплотной Клариссы. Так что, если ты решил расстаться с женой, то на замену надо поискать кого-то другого.
– Глупая девочка, – сказал Генрих и погладил меня по волосам.
* * *
Поздно ночью я копаюсь в своих записных книжках. Выбираю, какую из них дать Генриху? Останавливаюсь на последней, в которой уже явственно присутствуют следы нашего с Роговым отплывания друг от друга. Есть даже сюжет рассказа с упоминанием «холодной котлеты». А вот стихи, написанные после роговских разговоров о том, что жениться все равно рано или поздно придется. Такие:
Радость бродячего щенка
И прихожу я в гости к вам,
И говорю вам: «Здрасте!»
Машу приветно хвостиком
Твоей супруге Насте.
Обнюхиваю выводок,
Притихший на диване,
И тонко льщу вам выводом,
Что дети сходны с вами.
Клыки улыбкой сжало
(Рычать в гостях некстати),
Выслушиваю жалобы
На мизерность зарплаты.
Я тявкаю сочувственно
(От скуки сводит скулы).
И над былыми чувствами
Мы умиленно скулим.
Вот ночь в окне очутится,
Луна плывет за дачей…
И жизнь твоя мне чудится
Решенною задачей…
Кассандра, как позже обнаружилось, из меня получилась неважная. В супруги Рогов себе подобрал не Настю, а Люду. И зарплату получал всю жизнь хорошую, а уж жаловаться вообще не имел привычки. Особенно при наших редких, но всегда теплых встречах. Детей завел двоих. На выводок, притихший на диване, не походили – крупные, шумные парни. Да и с родителями мало схожие. Совпало только наличие дачи. И бережно поддерживаемые нами обоими дружеские отношения. Как-то в них и Генрих умудрился забраться, затесаться, стать их частью. И даже другом Рогова.
«Супруга Настя», с которой у меня сложились хорошие отношения, никак к нашей юности не присоединилась. Не захотела? Или не смогла?
А еще через двадцать страниц вдруг обнаруживаю такое восьмистишие:
Начинается самое-самое.
Начинается жизнь настоящая.
Все вопросы решаются заново –
И прошедшие, и предстоящие.
И любовь начинается новая.
Начинается, чтобы не кончиться.
И событий вихрем снова я
Управляю, как мне захочется.
Это что же я, после знакомства с Ивановым сочинила, что ли? Пытаюсь определить по текстам, окружающим эти беспомощные строки. Предшествует им конспект рассказа «Недоразумение». Такой:
Героиня – Ниночка. Некрасивое, скуластое личико десятиклассницы, редкие зубы, вывернутые губы. Когда он увидел ее обнаженной, то удивился подарку судьбы: смуглое, нежное тело, маленькая, прекрасной формы грудь. Она не сопротивлялась, но и не льнула к нему. Она терпела. А все началось с любопытства – больно уж не похожа она была на других. Потом родилась чуть снисходительная, покровительственная с его стороны, но все же чистая дружба. Эта девочка не мыслилась ему женщиной. Она была слишком юной, забавной в своем дикарстве для этого. Мысль о близости пришла как шутка, как забавное искушение. Он был готов к отпору и принял бы его без обиды, даже с радостью. Ему нравились их отношения. Но отпора не было. Она все стерпела. Тоскливое недоумение им овладело. Это не было похоже на внезапное чувство подростка. Она была слишком холодна. И расчета тут никакого не было. Ее честность и гордость не вызывали сомнения. Он смотрел, как она одевается, как сдержанны, спокойны, полны достоинства движения ее юных женственных рук. Он должен был спросить – почему? Он не мог отпустить ее так. Но спросить не хватало духу. И все-таки он спросил, когда они уже вышли на улицу. Она ответила. О, вся его прошлая легкая жизнь, полная мимолетных связей, так хорошо сдобренная философией: «Им самим это больше нужно, чем мне», вдруг обернулась против него в чистом, правдивом ответе этой девочки. Нет, она не любила и не любит его. Но он так хорошо умел слушать и советовать. А ей так тяжело и одиноко. А на заводе ни для кого не секрет, чем кончаются все его отношения с женщинами. Она понимала, что он ждет платы за свое общество, и заплатила за доброе слово, за участие. Так, как он этого хотел. И ушла – спокойная, маленькая дикарка. Цветок, выросший в мире пьяных драк, мещанских предрассудков. И он не посмел сказать, что и ему от нее ничего не было нужно. Ведь он сам создал себе такую славу, и теперь тернии кололи его. Вместо того чтобы показать этому ребенку, что не все на свете грязь (и ведь он знал по ее рассказам, в каком окружении она живет и какие у нее формируются взгляды), он только лишний раз утвердил ее в этом мнении. Он, который считал себя умным, честным, справедливым. Скверное состояние…