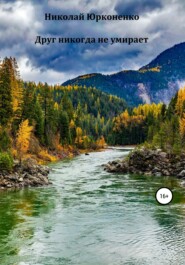скачать книгу бесплатно
…Тамара Николаевна Шавельская, главный редактор Читинского отделения Восточно-Сибирского книжного издательства. Ответственный, строгий, глубоко порядочный человек с блестящим филологическим образованием и с энциклопедическими знаниями. С ее именем будет связано очень многое в моей писательской жизни. Также огромное влияние она окажет и на творческий рост Димова.
– Это правда, Олег? – уже окончательно ошарашенный, я поворачиваюсь к нему.
– Истинная! – кивает он. – Мне не доверила, говорит, сама все сделаю как надо. Так что гордись! А я, с твоего разрешения, напишу рецензию, у меня уже черновой набросок текста имеется, вот послушайте начало: «Семеро десантников бегут по раскаленной от нестерпимого зноя земле…»
– Рецензию озвучите чуть позже, Олег Афанасьевич, – все так же напевно произносит хозяйка. – А сейчас всех прошу к столу.
Старик как-то озадаченно разводит своими громадными ручищами:
– Ну вот, опять нет повода не выпить!
Этот день я запомнил на всю жизнь.
***
Держу в руках свою самую первую книгу, любуюсь ей. Точно так же молодая мать, взволнованная, потрясенная и бесконечно счастливая, кохает на руках ребенка-первенца, принесенного на первое кормление грудью… Теплый, попискивающий, беспомощный, розовый комочек – это её тревожное девятимесячное ожидание, её кровь, плоть, боль и мука, её бесконечные мысли о настоящем и будущем крохотного существа…
Женщине, в общем, как-то даже проще: забеременев, она знает, что через девять месяцев, если все пройдет благополучно, она станет матерью. И это – незыблемо! Писатель же, особенно начинающий, понимает, что его «беременность» задумками, сюжетами, героями, фабулами, может длиться не девять месяцев, а все девять лет – и закончится абсолютно НИЧЕМ! Сочтя работу бесперспективной, худсовет, редактор, издатель, цензура и прочая литературная челядь, просто-напросто «зарубят» это еще не родившееся дитя. И поэтому, ощущения автора, чьё произведение все-таки увидело свет, трудно передать словами: вот в этой, небольшой по формату книжке, между двумя картонными обложками, сосредоточены упорядоченные, выстраданные, отшлифованные тобой самим, редактором и корректором мысли. И люди будут прочитывать эти самые мысли, оценивать уровень и качество твоего текста. Кто-то, пробежав глазами по десятку страниц, презрительно усмехнется и забросит книгу куда подальше, а кто-то прочтет от корки до корки, а потом перечтет и порекомендует книгу приятелю. Но всё это впереди, так как моя книга в продажу еще не поступила.
А пока я, уединившись, не выпускаю из рук свое первое детище, вдыхаю неповторимый аромат свежей типографской краски, внимательно и напряженно, как в снайперский прицел, всматриваюсь в рисунок на обложке. Несколько десантников, облаченных в пятнистый камуфляж-«песчанку», с ранцами «РД» за плечами, с короткими «АКМСами» в руках, бегут по скалистому склону. Чувствуется, что художник потрудился от души и вложил в работу часть своего сердца: еще не прикасаясь к тексту, читателю становится понятно, что этот бег – не каждодневная тренировка разведчиков на «кроссовую втянутость», а именно – погоня!
С благоговением раскрываю книгу. На титульном листе четкие строки: «Боевым друзьям, разведчикам Воздушно-десантных войск – посвящаю».
Пролистав несколько страниц, решительно прекращаю это занятие, читать просто нет сил, слишком много эмоций для одного дня… Лишь одно я обязан сделать немедленно, прямо сейчас. Беру шариковую ручку и вдруг ловлю себя на мысли, что сейчас буду писать свой первый в жизни автограф:
«Дорогому Учителю, Николаю Дмитриевичу Кузакову, ЧЕЛОВЕКУ, поверившему в меня, дарю мою первую книгу с великой благодарностью». Из пачки авторского тиража беру еще пару книг, подписываю Олегу Димову и Тамаре Николаевне Шавельской.
***
В издательстве «Росток» у Олега вышла вторая книга, довольно объемная повесть «На исходе тревожного лета». Тематика все та же: геология, ближнетаёжный забайкальский Север, романтика трудных странствий. По сравнению с «Маршрутами», «Исход», на мой взгляд, выше, как минимум на голову. Сочный, афористичный, образный язык, зримые, глубоко проработанные портреты героев и их характеров, яркими мазками выписана природа. Как автор, Олег вырос весьма значительно, это отмечает всё литературное сообщество Забайкалья. Не остается в стороне и Кузаков:
– Старик, ты только посмотри, что вытворяет Димов: какой язык, какая глубина! И, наконец-то, внял голосу разума и моему совету: научился строить сюжет. С переизбыточным описательством тоже разобрался – перестал «одевать» малозначащие события в «толстые» одежды… Молодец! Еще одна-две аналогичных публикации, и можно ставить вопрос о приеме в Союз Писателей России. А как дела у тебя, как твой «Белый Олень»?
– Дописываю, Николай Дмитриевич. Но времени нет совершенно, не поверите, в нарушение всех лётных инструкций – пишу в полёте, выгоняю штурмана из его «кибитки», сажусь за столик и работаю часами.
– А ежели, что… – Старик с опасливым недоумением смотрит на меня, – тогда как?
– Второй пилот на постоянном контроле. А чтобы занять командирское кресло, мне потребуется одна секунда.
– Ну ладно, раз так, а то ведь, не дрова возите…
Рукопись моей новой повести вычитывает Олег, он теперь старший редактор, растет не только в творческом плане, но и в производственном. Одним из первых Димов приобрел и освоил компьютер, экранная заставка: «Ну что, Олежка, поработаем?», постоянно светится на экране. Незыблемому правилу нашего Старика: «Ни дня без строки!», Димов следует неукоснительно – чуть свободная минута, и он уже стучит пальцами по электронной клавиатуре.
Как-то раз застаю его за редакторским столом. Работает, не поднимая головы. Пиджак и галстук канули в Лету, теперь Олег одевается проще и функциональнее. Вот и сейчас на нем серый свитер с вытканными оленями на груди, наверняка приобрел его именно из-за них. Север, во всем – Север, даже в облачении…
– Ну и как? – киваю я на разложенные вокруг страницы с моим машинописным текстом.
– Садись и полистай, а я пока чай греться поставлю да разомнусь малость, задница уже просто онемела.
Перебираю рукопись, и вдруг обнаруживаю, что многие листы перечеркнуты красной пастой крест-накрест, абзацы на других обведены той же авторучкой, «вожжи» от них ведут в другие абзацы и стрелками указывают на то место, где им, по мнению редактора, надлежит быть.
– Олег Афанасьевич, что всё это значит? – я возмущен до глубины души димовским произволом, но стараюсь не показать этого. – По какому праву ты разукрасил мое сочинение, будто тульский пряник?
– По праву редактора и, если хочешь, товарища по перу… – Олег невозмутимо разливает по чашкам свежезаваренный дымящийся чай. – Тебе сколько сахара положить: ложку, две, три?
– Сахар – белый враг российского писателя, предпочитаю обходиться без него! – злобно ёрничаю я. – Ты лучше объясни: за каким хреном повычеркивал чуть ли не половину пятой главы?
– А за таким, дружище, что глава эта – слаба и, более того, вторична!
– Это еще как – вторична?!
– Да вот сам посмотри, – Димов отодвигает чашку, неторопливо ворошит рукопись, находит то, что ему нужно и кладет передо мной несколько страниц. – Вчитайся и ответь: разная или одинаковая смысловая нагрузка прописана здесь? Только честно, без дураков!
Я пробегаю глазами по тексту, сравниваю зачеркнутое Димовым и им же нетронутое. Олег спокойно дышит за моим плечом:
– Ну, что можете сказать, дорогой товарищ? – в голосе редактора прослушивается лёгонькое ехидство. – Одно и то же поле засеямши дважды! Так?
– Нет, на так! Я сделал такой дубль сознательно, чтобы нагрузить ситуацию. Похожий прием часто использовал Алексей Толстой. Так что не надо, дорогуша, передергивать, справочники по теории литературы я тоже иногда почитываю…
Мы долго и основательно спорим, каждый отстаивая свою правоту. Я постепенно накаляюсь и почти готов поругаться. Димов корректно, но безуспешно пытается урезонить меня своими доводами и, наконец, сдается:
– Ладно, будем считать, что ты меня убедил. Но вот здесь-то возражать, надеюсь, не станешь: одно и то же предложение на девяносто седьмой странице, точно такое же на двести первой! – он тычет пальцем в текст. – И почти оно же – на трехсотой. Клише, да и только…
– Х-м, действительно… Как это я не заметил? Жевание жёванного получилось…
– Вот и я про то же толкую! Согласен, нет? – Димов победно смотрит на меня.
– Согласен, – удрученно киваю я. – Ты не обижайся, что наехал на тебя, Олег.
– Мне обижаться не положено, это моя работа. За качество выпущенной книги как ты понимаешь, отвечает не только автор, но и тот, кто ее редактировал. Литературного брака я допустить не имею права, на то и поставлен. А что касается того, что «не заметил», так это и немудрено: повестуха ведь в полетах сочинялась, так?
– Так! Жаль, что для московского графомана такого как ты редактора не нашлось…
– Конечно, жаль, – иронично усмехается Олег. – Снести за ночь бугор вечной мерзлоты я бы ему уж никак не позволил! Ну, ты давай читай дальше, только не забудь «включить» своего внутреннего редактора, а я еще раз чаёк подогрею. Этот-то уж замерз, поди…
Я бросил взгляд на стоявшие рядом чашки, обе они были не тронутыми.
– Заодно и перекусим, жена мне тут чего-то завернула… – шурша бумагой, Олег раскрывает сверток. – А то ведь: «Солнце спряталось за ели, время спать, а мы не ели!»
Наш обед состоит из бутербродов с докторской колбасой, печенья и каких-то дешевеньких конфет-леденцов. Это обычный рацион Олега, в еде он неприхотлив и малоразборчив. Приумолкнув на время, не спеша жуем, запивая горячим чайком. Мне всегда нравится наблюдать за тем, как ест Димов – без жадности, с милой моему сердцу деревенской учтивостью. Основательно и как-то даже по-домашнему, высится он за своим рабочим столом, заваленным бесчисленными рукописями, справочниками, блокнотами и прочим литературным антуражем. И если мое рабочее место, мой мир, это компактная, рационально-тесная пилотская кабина, усеянная сотнями самых разнообразных приборов, рукояток, рычагов, датчиков, тумблеров и переключателей, то мир Димова – этот неуютный, давно не ремонтированный, какой-то несуразно-длинный и узкий кабинет.
– Олег, а вот что для тебя есть – литература? – я отставляю пустую чашку и отодвигаюсь от стола, чтобы поудобнее вытянуть ноги. Димов какое-то время молчит, тщательно вытирает салфеткой губы и пальцы, затем философски скрещивает на груди руки:
– Литература, это форма и смысл моей жизни, если хочешь… Понятие «литература» я трактую значительно шире общепринятого. Моя главная задача быть не только приличным писателем, но и серьезным редактором. Я просто обязан, бороться за качество выпускаемых книг. Ведь что такое наша современная жизнь? Это, в основном, тупая радость биологического прозябания, вместо высокой духовности. Раскультуривание и расчеловечивание нации идет сейчас семимильными шагами и этому весьма способствуют низкопробные, дрянные, убогие книжицы-поделки, заполонившие все книготорги России. Именно поэтому я призвал сам себя по мере сил противостоять этому гибельному процессу.
– И как давно ты противостоишь?
– Да года уж три, пожалуй… С тех пор, как снял розовые очки и стал более пристально и критично всматриваться в наше российское житие-бытие… – Олег задумчиво прищуривается, долго глядит в какую-то точку. – Раньше литература была для меня некой запретной зоной, словно из-за забора я смотрел, как прогуливаются по этой недоступной обители велемудрые мэтры-писатели. Меня в ту обитель не пускали. И вот теперь, когда я все-таки прорвался туда, то вдруг узнал, что мир современной литературы, это блошиный рынок! Пестрое, разноголосое, разноязыкое торжище, где все, кому не лень, суетятся, творят на потребу дня или, в лучшем случае, на гонорар. Теперь ведь – все писатели, теперь нет читателей…
С тех пор, как Олег стал редактором, выпустил несколько книг и значительно вырос творчески, он вдруг стал способным изрекать такие вот эскапады, мудреные, заковыристые, но точные и обезоруживающе честные. Нечасто мне доводилось беседовать с Димовым на отвлеченные темы, но уж если это случалось, то слушал его, что называется, с упоением.
И еще одно качество открыл я в Олеге: способность управлять собой в любой ситуации. Мир творчества, это, прежде всего, мир страстей и эмоций. Прав был Кузаков, говоря, что не эмоциональный автор не способен ничего создать – жизнь доказала, насколько справедливы эти слова. Олег, создавший десятки талантливых произведений, был, разумеется, эмоциональным человеком, но этих проявлений лично я не видел ни разу. В поведении, в манере общаться с людьми Димов был сдержан и почти бесстрастен. Казалось, что вся его внутренняя динамическая энергия находится под постоянным контролем и направлена на то, чтобы подавлять в себе эту самую эмоциональность.
А Олег, тем временем, продолжал ровным голосом:
– В нынешней литературе, как это ни прискорбно признавать, сплошное засилье серости! – пренебрежительным взглядом он окинул свой огромный стол. – Вот посмотри: все завалено рукописями, но в этом море сочинительства нет ничего, на что можно было бы обратить серьезное внимание. Кстати, вот, специально для тебя отложил, – Димов безошибочно выдергивает из какой-то пачки всунутый поперек лист. – Повесть об агентурных разведчиках, твоя, между прочим, тематика, так что послушай:
«Товарищ генерал, получены важнейшие разведданные. Наш резидент в Берлине сообщает, что присутствовал на тайном совещании высших чинов вермахта, которое проводил сам Гитлер. Принято единогласное решение – воевать с русскими, чтобы не пустить их на территорию Германии».
– Супер! Эврика! Вот это, действительно, подвиг разведчика, – данной информации просто цены нет! – Димов швыряет страницу рукописи на стол, на его лице – отвращение. – Немцы будут воевать с русскими! А что они до этого делали три года, танцевали, что ли с русскими!? Уж добыл бы лучше тот агент чертежи ракеты «ФАУ», всё было бы пооригинальнее… – Олег переводит дыхание и продолжает. – Подобная бредятина меня уже достала: псевдогерои-менты, в одиночку громящие толпы бандитов, автомат Калашникова, пистолет Макарова, проститутки, рэкет, чемоданы долларов, ворюги-бизнесмены, бывшие десантники – нынешние телохранители и киллеры, далее, как говорится, по списку… Штамп на штампе, клише на клише, ничего нового, абсолютно ничего! Графоманы хреновы!
– Прошу без аналогий! – нарочито строго изрекаю я. – Ишь, как привыкли на бывших десантников наезжать! И потом: ведь на этом столе находится и мое сочинение?
– Твое, не в счет, ты умеешь писать, хотя учиться тебе надо еще очень долго, как, собственно, и мне самому… – Димов достает из пачки сигарету, щелкает зажигалкой, глубоко затягивается.
– Вот ты говоришь – засилье серости, – развиваю я тему. – Но согласись: серость имеет право на существование уже хотя бы потому, что на ее фоне легче заметить что-либо стоящее.
– Не спорю, – соглашается Димов. – Но существует другая опасность – опасность сплошной серости! В ее мутной воде можно проглядеть приличную вещь. Через меня весь этот поток бредятины, конечно, не проскочит, мой глаз – наметанный и низкопробное барахло я выявляю безошибочно! Как поется в песне про геологов: умею отличать руду золотую от породы пустой! Но есть слабые редакторы и с их легкой руки, на читателя обрушиваются Ниагары графомании, или как теперь принято называть «массовой культуры». Ты только вслушайся в это словосочетание – «массовая культура»! Культура, а уж тем более писательство, на мой взгляд, априори не может быть массовой – это удел избранных! Но есть еще одна беда – неначитанность современной российской молодежи, незнание собственной истории. И это куда страшнее, чем, например, расширение НАТО на восток. Необозримый поток массовой культуры дезориентирует читателя, ведь печатное слово он традиционно принимает на веру как настоящее искусство, наивно полагая: раз уж напечатано, то это – суть, правда. Не знаю, как кому, а мне до боли обидно, что мы, русские, носители великого славянского языка, высокодуховная нация ариев, стремительно скатываемся в пропасть невежества, уподобясь заокеанским гопникам в бейсбольных штанах, у которых вместо сердца – доллар, а душа набрана из центов.
– Да вы, националист, батенька… – опасливо качаю я головой.
– Никак нет-с, уважаемый, я не националист, я, скорее, русофил! Ортодоксальный, я бы сказал, русофил… – Димов крепко трет переносицу. – Я русский до мозга костей, я знаю русскую историю, люблю Россию, боготворю наш народ, следую русским традициям и вековым устоям…. А еще я знаю тех, кто сейчас грабит и убивает Россию! Смысл моей работы – рассказывать людям о том, что я сам знаю и помогать делать то же самое одаренным литераторам, умеющим говорить правду. Может быть, именно поэтому еще не оскотинился, не спился окончательно, не сошел с ума в эти грёбаные девяностые.
– Сейчас говорить правду – дело каверзное, устроители новой жизни и пришибить могут. «Вон сколько общественных деятелей и журналистов постреляли…» —говорю я как бы, между прочим. Димов за словом в карман не лезет:
– Я не боюсь умереть. Я боюсь чего-то не успеть, чего-то не узнать, чего-то не донести людям… Это и есть мой страх смерти (на слове «мой» он делает ударение).