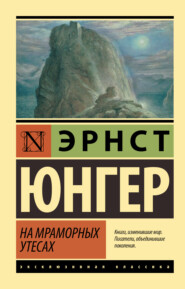скачать книгу бесплатно
На мраморных утесах
Эрнст Юнгер
Эксклюзивная классика (АСТ)
Книга, исключительная по значимости для европейской литературы – и как один из лучших образцов немецкоязычного модернизма, и как одна из самых ярких антиутопий ХХ века. Роман, в котором в полной мере отразилось критическое отношение автора к идеям национал-социализма.
Странное государство Большая Бухта, существующее словно бы вне пространств и времен и как бы застывшее в реалиях позднего Средневековья. Государство, существовавшее достаточно благополучно, пока к власти не пришел циничный, умный и жестокий Старший Лесничий, больше всего на свете ненавидящий красоту, поскольку именно в ней он видит эстетическое выражение свободы.
Теперь хода событий уже не остановить. Безымянный рассказчик и его брат, укрывшись на мраморных утесах, ведут сопротивление, пытаясь противостоять разрушению культуры для грядущего ее возрождения…
Эрнст Юнгер
На мраморных утесах
© Ernst J?nger, Auf den Marmorklippen. S?mtliche Werke (PB) vol. 18, Klett-Cotta, Stuttgart 2015
© Klett-Cotta – J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart, 1939, 1978
© Перевод. А. Анваер, 2022
© Перевод стихов, Н. Сидемон-Эристави, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
1
Всем вам знакома безмерная тоска, что охватывает нас при воспоминании о поре былого счастья. Оно миновало безвозвратно, и наш отрыв от него немилосерднее любой разлуки. Тогда нас манит еще сильнее эхо картин: мы думаем о них, как о теле умершей возлюбленной, которое покоится глубоко в земле и теперь словно мираж предстает перед нами во всем своем возвышенном и одухотворенном великолепии. Снова и снова мы страстно алчем в наших грезах коснуться всех моментов прошлого, проникнуть во все его складки. Нам кажется, что не исполнили мы до конца меру жизни и любви, но уже никакое раскаяние не вернет нам утраченного. О, пусть это чувство служит нам уроком в каждый миг счастья!
И еще сладостнее становятся воспоминания о наших лунных и солнечных годах, когда они заканчивались внезапными ужасами бедствий. Только тогда понимаем мы, какой счастливый жребий выпадает нам, людям, когда мы живем год за годом в наших маленьких общинах, под мирной крышей, проводя время за задушевными беседами и приветствуя друг друга утром и вечером пожеланиями добра. Ах, мы всегда запоздало осознаем, что именно тогда изливались на нас все успехи точно из бездонного рога изобилия.
Вот так думаю и я о тех временах, когда жили мы у Большой Бухты – лишь в воспоминании предстает передо мной их очарование. Разумеется, тогда мне казалось, что наши дни омрачало множество горестей и печалей, а пуще всего приходилось быть настороже перед Старшим Лесничим. Жили мы поэтому в известной строгости, одевались просто и скромно, хотя никакие обеты и клятвы нас не связывали. Но тем не менее дважды в год мы отдавали должное красной еде – один раз весной, один раз осенью.
Осенью мы пировали как мудрецы и совершали возлияния изысканным вином, благо на южных склонах Большой Бухты обильно произрастал виноград. Когда в вертоградах среди красной листвы и темных гроздей мы слышали шутливую перебранку виноградарей, когда по городкам и деревням начинали скрипеть виноградные прессы и дурманящий аромат свежих перебродивших выжимок стелился над дворами, мы шли к трактирщикам, бочарам и виноделам и пили с ними молодое вино из пузатых кружек. Всегда встречали мы там веселых сотрапезников, ибо земля та богата и прекрасна, в ней процветает ничем не омраченный досуг, а острое словечко и душевное настроение ценятся наравне со звонкой монетой.
Вечер за вечером проводили мы за веселыми пирушками. В эти недели закутанные для маскировки в тряпье сторожа с трещотками и ружьями обходили с рассвета до глубокой ночи виноградники, отпугивая и отстреливая жадных до ягод птиц. Поздно ночью сторожа возвращались с гирляндами нанизанных на бечевки перепелов, дроздов и мухоловок, и очень скоро их добыча, завернутая в виноградные листья и разложенная по блюдам, оказывалась на столе. С удовольствием ели мы и жареные каштаны, и молодые орехи, запивая их новым вином, но самым лакомым блюдом были отменные грибы, на которых местные охотятся в лесах с собаками – белые трюфели, изысканные сморчки и цезарские грибы.
Пока вино было еще сладким, медового цвета, мы дружно сидели за столами, занимая себя задушевными разговорами и панибратски приобнимая соседа за плечо. Однако как только вино начинало действовать и выделять земляные тона, неодолимо пробуждались духи жизни. Тогда случались блистательные поединки, исход которых решало главное оружие – смех; сходились в этих поединках бойцы, отличавшиеся свободомыслием, каковое приобретается только за долгую, не обремененную тяжкими трудами жизнь.
Но превыше этих часов, протекавших в искрящемся настроении, ценили мы тихое возвращение домой по садам и полям в глубоком омуте опьянения, когда на пестрых листьях уже начинала проступать утренняя роса. Пройдя через Петушиные ворота маленького городка, мы видели справа светящийся берег моря, а слева возвышались сиявшие в лунном свете мраморные утесы. Между скалами и морем тянулась цепь покрытых виноградниками холмов, в склонах которых терялась наша тропинка.
С этим путем связаны воспоминания о светлом и поразительном пробуждении, каковое одновременно внушало робость и вызывало светлую радость. Это было похоже на всплытие из глубин жизни на поверхность. Словно пробуждающий ото сна стук, из тьмы нашего пьяного сознания вдруг всплывала какая-нибудь картина – шест с бараньим рогом, который крестьянин втыкает в землю, или желтоглазый филин, усевшийся на конек амбара, или метеор, чиркнувший по своду небес. Мы всегда застывали на месте, словно окаменев, и внезапный холод леденил нам кровь. Потом нам начинало казаться, что мы обрели новое чувство, позволяющее нам обозревать страну; мы смотрели на мир, и глазам нашим была дана сила видеть светящиеся жилы золота и хрусталя под остекленевшей прозрачной землей. Потом случалось чудо – серые и призрачные, подступали к нам исконные духи страны, обитавшие здесь с незапамятных времен – до того, как впервые раздался звон колоколов монастырской церкви, до того, как плуг поднял здесь первый пласт земли. Они приближались к нам медленно, неторопливо, с грубыми одеревенелыми лицами, выражение которых было непостижимым образом одновременно веселым и непередаваемо страшным; и это зрелище одновременно пугало и глубоко трогало наши сердца. Порою нам казалось, будто духи хотят заговорить, но очень скоро они рассеивались словно дым.
Мы молча проходили короткий отрезок пути к Рутовой обители. Когда в Библиотеке загорался свет, мы смотрели друг на друга, и я замечал возвышенное свечение на лице брата Ото. Это зеркало говорило мне, что встреча наша – не плод иллюзии. Не проронив ни слова, мы пожимали друг другу руки, и я поднимался в Гербарий. Мы и потом не говорили об этом.
Наверху я еще долго сидел у открытого окна, радуясь и всем сердцем чувствуя, как материя жизни золотыми нитями разматывается с веретена. Потом над Плоскогорьем всходило солнце и ярко освещало страну до самой границы с Бургундией. Суровые обрывистые скалы и ледники искристо переливались оттенками белого и красного света и, дрожа, отражались в зеленом зеркале бухты.
На заостренном фронтоне крыши обители принимались хлопотать горихвостки – им надо было кормить второй выводок; птенцы тонко попискивали, словно кто-то невидимый точил крошечные ножички. Из прибрежных камышовых зарослей вереницами поднимались утки, а в винограднике зяблик и щегол склевывали последние ягоды. Потом я слышал, как открывалась дверь Библиотеки и брат Ото выходил в сад полюбоваться на лилии.
2
Однако весной мы кутили как последние дураки, так уж искони заведено в той стороне. Мы закутывались в пестрые балахоны, изорванная материя которых просвечивала, как птичье оперение, и вешали на лица твердые маски в виде птичьих клювов. Затем мы пускались в шутовской пляс, размахивая руками, словно крыльями, и продвигались к городку, где у Старого рынка было воздвигнуто высокое Дурацкое дерево. Там при свете факелов начиналось масочное шествие; мужчины шли, изображая птиц, а женщины блистали роскошными одеяниями прошлых столетий. Пронзительными, делано высокими голосами, напоминавшими звук часов с музыкальным боем, они выкрикивали нам сальные шуточки, а мы отвечали им пронзительным птичьим криком. Из шинков и кабачков, заманивая всю эту по-птичьи оперенную братию, звучала дикая какофония писка флейт, визжавших как щеглы, совиного жужжания цитр и ревущих как глухари на току скрипок, которыми вся эта хмельная корпорация сопровождала свои непристойные вирши. Мы с братом Ото присоединились к черным дятлам, которые отбивали ритм своего марша ударами поварешек по деревянным плошкам; мы вершили шутовской суд и расправу. Пить здесь надо было аккуратно, ибо вино нам приходилось всасывать через соломинку, пропущенную сквозь отверстия клюва. Когда у нас начинали болеть головы, мы освежались прогулкой по садам и могилам возле городского вала, восторгались танцплощадками или, уйдя в сень какого-нибудь трактира и скинув опостылевшие маски, уплетали в компании какой-нибудь разбитной девицы прямо со сковородки блюдо из приготовленных по-бургундски улиток.
Везде до рассвета звучал в ночи сплошной птичий гвалт – в темных переулках и на берегу Большой Бухты, в каштановых рощах и виноградниках, этот крик доносился с украшенных фонариками гондол, скользивших по водной глади; да что там, птицы орали даже на кладбищах, среди кипарисов. И все время, словно эхо этого гомона, был слышен панический крик, отвечавший птицам. Женщины нашего края невероятно красивы и исполнены расточительной силы, которую Старый Застрельщик называет бескорыстной добродетелью.
Знаете ли, не боль и горести этой жизни, но ее мужество и необузданная полнота, когда мы вспоминаем о ней, заставляют нас едва сдерживать слезы. Эта игра голосов до сих пор явственно звучит у меня в ушах, и прежде всего тот сдавленный крик, которым встретила меня на валу Лоретта. Несмотря на то, что ее тело скрывал белый, отороченный золотом кринолин, а лицо пряталось за перламутровой маской, я немедленно узнал ее по грациозным движениям бедер даже в темноте аллеи и притаился за деревом. Я напугал ее диким хохотом дятла и бросился преследовать ее, исступленно размахивая при этом черными рукавами драного балахона. Наверху, там, где в винограднике стоит римский межевой камень, я поймал выбившуюся из сил Лоретту и, трепеща, обнял ее руками, склонив к ней огненно-красную личину. Когда я, словно во сне и во власти какого-то волшебства, ощутил, как она притихла в моих объятиях, меня вдруг охватила жалость, и я, улыбаясь, сдвинул птичью маску на лоб.
Она тоже заулыбалась и нежно приложила ладонь к моим губам – так нежно, что я в тишине ощущал лишь свое дыхание, веявшее сквозь ее пальцы.
3
Впрочем, в нашей Рутовой обители мы жили – изо дня в день – довольно замкнуто. Обитель стояла на краю мраморного утеса, посередине одного из скалистых островов, которые там и сям попадаются на глаза наблюдателю, разрывая зеленый покров виноградников. Вертоград был обнесен невысокой каменной оградой, а края ветхой стены заросли дикой травой, которая обожает жирный чернозем горных виноградников. Ранней весной здесь цвели синие гроздья мускатного гиацинта, а осенью нас радовал своими яркими, как фонарики, красными плодами физалис. Однако все время, независимо от сезона, дом и сад были окружены серебристо-зеленым кустарником, листья которого в разгар солнечного дня источали замысловатый аромат.
В полдень, когда от жары сморщивались виноградины, в обители царила освежающая прохлада, и не только потому, что пол на южный манер был выложен мозаичной плиткой, но и потому, что некоторые помещения дома были вырублены в скале. Однако в такие дни я с большей охотой отдыхал, лежа на террасе, и сонно прислушивался к дребезжащему стрекотанию цикад. Потом на сад обрушивались мотыльки, облетавшие зонтики дикой моркови, а среди уступов скал грелись на горячих от солнца камнях перламутровые ящерицы. И, наконец, когда белый песок змеиной тропы вспыхивал раскаленным пламенем, на нее лениво выползали гадюки, и очень скоро вся тропа покрывалась их телами, словно иероглифической вязью. Мы не испытывали перед этими тварями, кои в великом множестве гнездились в расщелинах и трещинах скал, окружавших обитель, ни малейшего страха; скорее они днем доставляли нам наслаждение своим разноцветным блеском, а ночью услаждали наш слух тонким мелодичным свистом, которым обычно сопровождаются их любовные игры. Часто, подбирая полы одежды, мы просто перешагивали через них, а когда собирались принимать гостей, боявшихся змей, то просто отбрасывали их ногами с дороги. По змеиной тропе мы всегда ходили с гостями, взявшись за руки, и частенько я замечал, что ощущение свободы и поистине хореографической уверенности, испытываемое нами на этой дороге, передавалось и им.
Многое содействовало нашим доверительным отношениям со змеями, но, если бы не Лампуза, наша старая кухарка, мы едва ли познакомились бы с их повадками. Покуда длилось лето, Лампуза каждый вечер выставляла для них у входа на кухню серебряный котелок, полный молока, а потом негромким голосом подзывала этих тварей. Тогда из всех углов сада, в последних лучах заходящего солнца, выползали золотистые извивающиеся змеи, светившиеся на фоне чернозема лилейных клумб и подушек виноградного плюща, и выше, в кустах орешника и бузины. Потом эти существа огненным колесом укладывались вокруг котелка и питались дарами Лампузы.
Принося эту жертву, Лампуза неизменно держала на руках маленького Эрио, который поддерживал зов поварихи своим слабеньким голоском. Каково же было мое удивление, когда однажды вечером я увидел, как это едва научившееся ходить дитя волочило из кухни котелок. Вытащив его на лужайку, ребенок постучал по краю посудины деревянной ложкой, и тотчас из расщелин мраморных утесов со всех сторон поползли, блестя на солнце, красноватые змеи. Словно в кошмарном сне услышал я смех маленького Эрио, стоявшего среди змей на глинистой земле кухонного двора. Гады облепили его маленькое тельце и быстрыми движениями раскачивались своими тяжелыми треугольными головами над его макушкой. Я стоял на балконе, не осмеливаясь окликнуть моего Эрио, как не осмеливаемся мы окликать сомнамбулу, идущего по краю кровли. Но тут я увидел стоявшую в дверях кухни старуху – Лампузу, которая, скрестив руки на груди, улыбалась, и улыбка эта вселила в меня уверенность, что никакая опасность малышу не грозит.
С того достопамятного вечера и стал Эрио для нас звонарем к вечерне. Едва заслышав звон котелка, мы откладывали работу, чтобы засвидетельствовать его жертвоприношение. Брат Ото спешил из своей Библиотеки, а я из Гербария на внутренний балкон, да и Лампуза отрывалась от плиты и с нежной горделивостью взирала на дитя. Мы поистине наслаждались тем усердием, с каким он держал в повиновении этих тварей. Очень скоро Эрио мог назвать каждую змею по имени, семеня среди пресмыкающихся в своей голубой бархатной курточке с позолотой. Мальчик тщательно следил за тем, чтобы каждая змея получила свое молоко, для чего расчищал путь к котелку опоздавшим гадюкам. Для этого он отгонял насытившихся змей ударами деревянной ложки по головам или просто отталкивал их в сторону, если они не спешили освободить место. Эрио хватал их за верхнюю часть шеи и изо всей силы отшвыривал прочь. Как бы грубо ни обращался Эрио с гадюками, звери эти вели себя с ним ласково и смиренно, даже во время линьки, когда змеи становятся очень чувствительными. В это время пастухи не гоняли стада вдоль мраморных утесов на выгон, ибо от укусов гадюк, словно пораженные молнией, замертво валились наземь самые здоровенные быки.
Больше других Эрио любил самую крупную, самую красивую змею, которую мы с братом Ото окрестили Грифонихой, и которая, как можно было заключить из рассказов виноградарей, с давних пор жила в ущельях. Тело копьеголовых гадюк окрашено в металлический красноватый цвет, а поверх этой окраски, словно чешуйки, разбросаны пятна цвета светлой латуни. У нашей Грифонихи преобладал, однако, чистый золотистый оттенок, переходивший у головы в ювелирно-изумрудный цвет, становившийся наиболее сочным на самой голове. В гневе Грифониха раздувала шею в щиток, который угрожающе сверкал на солнце, как золоченое зеркало. Нам казалось, что остальные змеи выказывают ей известное почтение, ибо никто из гадюк не осмеливался приблизиться к котелку до тех пор, пока золотая змея не утоляла свою жажду. Потом мы заметили, что Эрио часто играл с нею, а змея терлась о его курточку своей острой головой.
Когда действо заканчивалось, Лампуза приносила нам к вечерне две чаши простого вина и два ломтя черного соленого хлеба.
4
С террасы в Библиотеку вела стеклянная дверь. В прекрасные утренние часы дверь эта была всегда широко распахнута, и брат Ото сидел за своим огромным столом, как будто в саду. Я всегда с удовольствием заглядывал в этот кабинет, на потолке которого играли зеленые тени листвы, а тишину лишь подчеркивали щебет молодых птиц и жужжание пчел.
У окна на мольберте покоилась большая чертежная доска, а вдоль стен до самого потолка высились ряды книг. Самый нижний помещался на высокой полке, сработанной специально для фолиантов – громадного «Hortus plantarum mundi»[1 - «Сад растений мира» (лат.). – Здесь и далее примечания редактора.] и красочно проиллюстрированных от руки сочинений; такого уже давно никто не печатает. Над этой нижней полкой выступали высокие репозитории, казавшиеся еще более широкими из-за выдвижных полок. Репозитории служили хранилищем пожелтевших листов гербариев. На досках помещалось также собрание окаменевших отпечатков растений, которые мы вырубали в известковых и угольных карьерах. Между этими окаменелостями красовались и великолепные кристаллы, служившие украшениями, которые можно было неторопливо разглядывать на ладони во время вдумчивых бесед. Над коллекцией стояли тома меньшего размера – не слишком обширное ботаническое собрание, но с исчерпывающей подборкой литературы о лилиях. Этот ряд книг делился на три раздела – на сочинения, посвященные форме, цвету и аромату цветов.
Ряды книг располагались также и в небольшом зале, на лестнице, ведущей наверх и дальше, до самого Гербария. Здесь располагались сочинения Отцов Церкви, мыслителей и классических авторов древнего и нового времени, а самое главное, собрание всякого рода словарей и энциклопедий. Вечерами мы встречались с братом Ото в маленьком зале, где в камине на сухих виноградных стеблях плясали веселые огоньки. Если за день работа удавалась, то мы предавались непринужденным праздным разговорам, ведя которые собеседники шагают проторенными путями, отдавая должное датам и признавая авторитеты. Мы шутили по поводу разных научных мелочей, играли с редкими или абсурдными цитатами. В этих забавах большим подспорьем для нас был легион немых, переплетенных в кожу или пергамент рабов.
По большей части я ранним утром поднимался в Гербарий, где работал до поздней ночи. Когда мы поселились в доме, мы обшили деревом пол, на который установили длинные ряды шкафов. На полках громоздились тысячи перевязанных листов с гербариями. Лишь малую их толику собрали мы; большую часть их собрали давно истлевшие руки. Иногда, в поисках какого-нибудь растения, я натыкался на порыжевший от древности лист, выцветшее наименование которого было начертано еще рукой великого Линнея. В эти ночные и предутренние часы я дополнял старые и заводил новые карточки к указателю объемистого каталога коллекции и к указателю «Малой Флоры», куда мы прилежно заносили все находки в районе Бухты. На следующий день брат Ото просматривал листочки, сверяясь с книгами, помечал находки более подробно и раскрашивал. Так продвигалась наша работа, каковая в самом своем начале уже приносила нам истинное наслаждение.
Когда мы удовлетворены, наш разум довольствуется даже малыми дарами этого мира. С давних пор испытываю я трепет перед царством растений и много лет посвятил путешествиям, во время которых выискивал его чудеса. Мне отлично знакомы мгновения, когда замирает сердце при виде раскрывающейся бездны, прячущейся в плодоносящем зерне. Именно поэтому роскошь растительной жизни нигде не была мне ближе, чем на этом дощатом полу, пропитанном запахом давно увядшей зелени.
Прежде чем улечься, я еще некоторое время расхаживал взад-вперед по узкому коридору, где растения часто казались мне светлее и великолепнее, чем где бы то ни было. Издалека ощущался аромат поросших белым шиповником долин, которым упивался я ранней весной в Arabia deserta[2 - Аравийская пустыня (лат.).], доносился и аромат ванили, столь великолепно освежающий путника в беспощадном зное лишенного тени канделябрового леса. Затем снова, словно страницы старой книги, раскрываются воспоминания о часах буйного изобилия – о горячих болотах, где цвела victoria regia[3 - Виктория амазонская (лат.).], о рощах, которые бледными пятнами горят в лучах полуденного солнца далеко за прибрежными пальмами. Но мне недоставало страха, охватывающего нас всякий раз, как оказываемся мы перед избытком растительности, как перед образом богини, влекущей нас мановением тысячи своих рук. Я чувствовал, всей душой ощущал, как по мере наших штудий росли и наши силы противостоять жаркой жизненной силе, укрощать ее и вести, как ведут под уздцы норовистого коня.
Часто уже начинал брезжить рассвет, когда я вытягивался на узкой походной кровати, разложенной в Гербарии.
5
Кухня Лампузы вдавалась в мраморную скалу. В древности такие пещеры служили защитой и убежищем пастухам, а в более поздние времена вокруг этих циклопических палат вырастали усадебные пристройки. Спозаранку можно было видеть старуху у горящей плиты – она варила утренний супчик для Эрио. К кухонному помещению с очагом примыкали другие сводчатые залы, где пахло молоком, фруктами и разлитым вином. Я редко бывал в этой части обители, ибо Лампуза вызывала во мне чувства, которые я предпочел бы никогда не испытывать. Зато Эрио знал здесь каждый закоулок.
Частенько видел я и брата Ото, стоявшего рядом со старухой у очага. Именно ему, брату Ото, обязан я тем счастьем, что выпало мне на долю в лице Эрио, плода любви Сильвии, дочери Лампузы. Служили мы тогда в Пурпурном рейтарском полку и участвовали в походе за свободный народ Плоскогорья – поход этот, правда, кончился неудачей. Часто, подъезжая к перевалам, видели мы Лампузу у дверей ее хижины, а рядом с ней стройную Сильвию в красном платке и красной юбке. Брат Ото был рядом, когда я подобрал в пыли гвоздику, вынутую Сильвией из волос и брошенную на дорогу; он и предостерег меня по пути, чтобы не путался я со старой и юной ведьмами, и вид у него был при этом хоть и насмешливый, но очень обеспокоенный. Но куда больше огорчал меня смех, с каким Лампуза мерила меня взглядом, взглядом бесстыдной сводницы. Но что поделать – очень скоро я вошел в эту хижину и вышел из нее.
Когда мы, отступая, вновь проезжали через Бухту и въехали в обитель, мы узнали о рождении ребенка, а еще о том, что Сильвия оставила его и ушла прочь с чужими людьми. Эта новость оказалась для меня очень некстати, и прежде всего потому, что дошла она до меня в самом начале того времени, какое – после всех горестей и мук войны – как нельзя более подходило для безмятежных штудий.
По этой причине поручил я брату Ото от моего имени навестить Лампузу, поговорить с ней и дать ей возмещение, какое он сочтет уместным. Как же сильно был я удивлен, узнав, что он немедленно взял дитя и ее самое на наше содержание; но, вопреки моим опасениям, шаг этот очень скоро оказался для нас сущим благословением. И поскольку, как это водится, правильное решение отличается, в частности, тем, что позволяет покончить с прошлым, постольку теперь любовь Сильвии представилась мне совершенно в ином свете. Я признал, что с предубеждением отнесся к ней и ее матери, и что я – как легко ее нашел, так легкомысленно с нею и обошелся, как обходятся с лежащим на дороге алмазом, принимая его за простую стекляшку. Но ведь все ценное и дорогое достается нам игрой случая, а самое лучшее – так просто даром. Для этого, правда, – и так уж оно сложилось само – потребовались непосредственность и естественная простота брата Ото, столь ему свойственные. Основной его принцип заключался в том, что всех людей, какие приближались к нашей обители, он считал редкими и драгоценными находками, подобными тем, какие делают в дальних экзотических странствиях. Он с удовольствием называл всех людей оптиматами, дабы подчеркнуть, что все они просто в силу рождения уже достойны права быть причисленными к мировой аристократии и что каждый из них может пожертвовать ради нас чем-то высшим. Он почитал их как конобы волшебства и чудес и признавал за ними высочайшее достоинство, за которым закреплены поистине княжеские права и привилегии. И в самом деле, примечал я, что все, кто к нему приближались, распускались, как просыпаются растения после зимнего сна, – нет, они не становились лучше, они просто становились самими собой.
Сразу после прибытия Лампуза взяла на себя наше хозяйство. Работа у нее спорилась, да и в посадках у нее была легкая рука. В то время как мы с братом Ото сажали растения со всем тщанием, она бросала семена неглубоко и позволяла сорнякам расти, как им заблагорассудится. Но, несмотря на это, она умудрялась, особо не утруждаясь, собирать урожай сам-три зерна и плодов. Часто я замечал, как она с насмешливой улыбкой поглядывала на наши грядки с овальными фарфоровыми табличками, на которых брат Ото каллиграфическим почерком выводил названия семейств и сортов высаженных нами растений. При этом она хищно обнажала огромный, как кабаний клык, резец – единственный, остававшийся у нее во рту зуб.
Я, подражая Эрио, называл ее «баба», но даже несмотря на это, она говорила со мной только о хозяйстве, да и то каким-то шутовским тоном, как это часто делают экономки. Имя Сильвии мы не упоминали никогда. Тем не менее мне было неловко, когда Лоретта, на следующий вечер после той ночи на валу, зашла меня навестить. Старуха не потеряла присутствия духа и, весело улыбаясь, быстро подала вино, жаркое и сладкий пирог.
В отношении Эрио я питал естественную любовь кровного отца и духовную привязанность отца приемного. Нам нравился его спокойный, внимательный ум. Как все дети, он старательно подражал занятиям взрослых, которых видел в своем мирке. Эрио с самых ранних лет обратился к растениям. Мы часто видели его подолгу сидящим на террасе и наблюдающим лилии, готовые вот-вот распуститься, и как только они раскрывались, он спешил в Библиотеку, к брату Ото, дабы порадовать его этой новостью. С той же охотой он поднимался рано поутру и становился перед мраморной чашей, где мы выращивали водяную розу из Зипангу, чьи чашелистики с нежным звуком лопались от первых лучей восходящего солнца. В Гербарии я тоже поставил для Эрио маленький стульчик – он часто сиживал там, глядя, как я работаю. Когда я ощущал его близость, я чувствовал необыкновенную бодрость, как если бы все вещи вокруг преображались под воздействием глубинного, радостного пламени жизни, горевшего в маленьком тельце. Казалось, будто даже животные искали его общества: встречая Эрио в саду, я часто видел, как вокруг него буквально вились красные жуки, которых местный народ называет петушками Фреи; они бегали по его рукам и облепляли волосы. Странно было и то, что копьеголовые гадюки, по зову Лампузы окружавшие котелок светящимися клубками, оказавшись рядом с Эрио, образовывали фигуру лучистого круга. Первым заметил это брат Ото.
Так и вышло, что наша жизнь немного отклонилась от задуманных нами планов. Но мы скоро заметили, что это отклонение пошло на пользу нашим трудам.
6
Согласно нашему плану, мы решили основательно, с чистого листа, заняться растениями и поэтому начали c испытанного веками метода – приведения духа в порядок через дыхание и питание. Как и все создания земные, растения тоже жаждут говорить с нами, но требуется очень ясный ум, чтобы понимать их язык. Хотя в вегетации, цветении и увядании кроется хитрость, избежать которой не в силах ни одна тварь, нетрудно все же догадаться, какое неизменное начало заключено в оболочку видимости. Искусство так изощрить свой взор брат Ото назвал «отсасыванием времени» – правда, он полагал, что чистая пустота по сию сторону смерти все равно остается недостижимой.
Втянувшись в работу, мы скоро заметили, что наша тема – почти вопреки нашей воле – расширилась. Может быть, все дело в чистом воздухе обители, задавшем новое направление нашим мыслям, подобно тому, как в атмосфере чистого кислорода пламя становится жарче и ярче. Всего через несколько недель нашего пребывания здесь у меня возникло такое впечатление, что изменились все предметы, и перемену эту воспринимал я почти как недостаток, поскольку не мог их описать, а язык, которым я владел, перестал меня удовлетворять.
Однажды утром, когда я смотрел с террасы на Бухту, воды ее показались мне глубже и светлее, словно я впервые обозрел ее незамутненным безмятежным взором. В то же мгновение я почувствовал, почти болезненно, как Слово отделилось от Явления – так отрывается тетива от слишком сильно натянутого лука. Я прозрел частичку радужной вуали этого мира, и с этого часа язык перестал повиноваться мне с прежней привычной легкостью. Но в те же мгновения мною овладело новое бодрствование. Как дети, выходя из темного помещения на свет, поначалу двигаются на ощупь, так и я пытался найти новые слова и образы, чтобы охватить разумом новый блеск вещей, блеск, ослеплявший меня. Никогда прежде не догадывался я, что язык может причинять такие неимоверные муки, но, несмотря на это, мне не хотелось возвращения прежней, естественной и беспристрастной жизни. Если мы вообразим, что в один прекрасный день сможем взлететь, то даже неуклюжий и опасный прыжок будет нам дороже, чем надежность проторенной дороги. Тем и объясняется головокружение, какое я испытывал от моих занятий.
На новом неизведанном пути легко утратить чувство меры, и это счастье, что на дороге этой сопутствовал мне брат Ото, что именно он осмотрительно шагал впереди. Нередко, когда удавалось мне проникнуть в суть какого-то слова, я с пером в руке спешил вниз, к брату Ото, а он часто поднимался ко мне в Гербарий с такой же вестью. Нашим любимым занятием было творить образы – мы называли их моделями. Мы легким размером записывали на клочках бумаги три-четыре предложения. В этих ритмичных фразах придавали мы форму осколкам мозаики мира, как оправляют камни в металл. В этих моделях отправной точкой были растения, но мы не останавливались на них и шли дальше. Таким способом описывали мы предметы и превращения – все, от песчинки до мраморного утеса и от неуловимой секунды до времени года. Вечером мы аккуратно складывали эти листочки, перечитывали, а затем сжигали их в камине.
Очень скоро ощутили мы, как жизнь стала нам опорой, придав нам новую, надежную устойчивость. Слово – царь и волшебник одновременно. Мы следовали возвышенному примеру Линнея, который вступил в хаос животного и растительного царств с маршальским жезлом слова. И куда чудеснее всех царств, когда-либо завоеванных мечом, его сохранившееся в веках царство и власть над луговыми цветами и легионами некогда безымянных червей.
Так явилось и нам понимание, что и в стихиях господствует порядок. И человек ощущает влечение подражать своим слабым духом творению, как испытывают птицы инстинктивное влечение к строительству гнезд. Высшим вознаграждением наших усилий стало понимание того, что мера и правило навечно вкраплены в случайности и сумятицу этого земного мира. В нашем восхождении приближаемся мы к тайне, погребенной в мировой пыли. Так с каждым отвоеванным у горной высоты шагом убывает и съеживается случайный рисунок горизонта, и когда мы поднимаемся достаточно высоко, то вдруг обнаруживаем, что там, где мы стоим, нас окружает чистейшее кольцо, венчающее нас с вечностью.
То, что мы делали, оставалось, конечно, ученичеством и копированием. Но тем не менее мы ощущали радость, как ощущает ее каждый, кто не позволяет взять себя в плен обыденности. Земля Бухты перестала ослеплять нас и выступала теперь перед нами more geometrico[4 - Геометрическим способом (лат.).]. Дни неслись все быстрее, как несутся воды, падающие с высоты плотин. Иногда, когда задувал западный ветер, мы ощущали прилив наслаждения чистой, незамутненной радостью.
Но, самое главное, мы понемногу избавлялись от ужасавшего нас страха, который, словно смрадные болотные испарения, затуманивает разум. Мы не оставляли свой труд и продолжали работать, когда в нашей области властью завладел Старший Лесничий и по всей стране стал расползаться страх.
7
Старшего Лесничего мы давно знали как Старого Властителя Мавритании. Мы часто видели его на сходках, а порой проводили с ним вечера за картами и кутежом. Он принадлежал к числу тех персонажей, которых мавританцы считают важными господами и одновременно забавными фигурами – так смотрят в кавалерийском полку на старого полковника запаса, который временами наезжает в часть из своего поместья. Он запечатлелся в памяти, пожалуй, лишь потому, что его зеленый, украшенный золотыми листьями падуба фрак невольно привлекал всеобщее внимание.
Он был чудовищно, неправдоподобно богат, и на празднествах, которые он устраивал в ратуше, царили непомерное изобилие и роскошь. По старинному обыкновению, на этих пирах плотно ели и неумеренно пили, а дубовая столешница игрового стола прогибалась под тяжестью золота. Славились также и азиатские игрища, которые устраивал он для ревностных приверженцев на своих укромных виллах. Я часто находил возможность наблюдать его вблизи, и тогда меня касалось дыхание древней власти, веяние его лесов. В те времена и косность всего его существа не воспринималась мною как помеха, ибо все мавританцы с течением времени проникаются таким же автоматическим характером. Эта черта особенно ярко проступала в его взгляде. В глазах Старшего Лесничего, особенно когда он смеялся, появлялся блеск внушающей неописуемый ужас благосклонности. Глаза его, как у многих старых пьяниц, были подернуты красноватым налетом, но одновременно в них читалась хитрость и несокрушимая сила – да, сила державной независимости. В то время близость его была нам приятна – мы были исполнены мужества и нас числили среди могущественных мира сего.
Позднее я слышал, как брат Ото говорил о наших мавританских временах, что заблуждение только тогда превращается в порок, когда упорно продолжают держаться этого заблуждения. Эти слова представлялись мне еще более правдивыми, когда я думал о положении, в каком мы находились, когда этот орден привлек нас к себе. Существуют гибельные эпохи, когда стирается форма, предписанная сокровенному устроению жизни. Оказавшись в такой эпохе, мы начинаем шататься из стороны в сторону, как существа, утратившие чувство равновесия. Из смутных радостей впадаем мы в столь же смутные горести, а в зеркале осознания потерь, которое всегда нас оживляет, будущее и прошлое кажутся более манящими, чем настоящее. Так и парим мы в ушедших временах или в отдаленных утопиях, пока настоящий миг утекает как песок.
Как только осознали мы этот порок, мы исполнились стремления избавиться от него. Мы ощутили томление по настоящей, действенной жизни и были готовы ринуться в лед, огонь и эфир, лишь бы освободиться от мертвящей тоски. Как всегда, когда сомнение сочетается с избыточностью, мы обратились к насилию – и разве оно не есть вечный маятник, движущий вперед стрелки, будь то днем или среди ночи? Так и мы начали грезить о власти и превосходстве, равно как и о формах, которые сходятся в смертельной схватке жизни – будь то на погибель или на торжество. И мы с мрачной радостью учились травлению, когда кислоту льют на темное зеркало отшлифованного металла. При таких наклонностях наше сближение с мавританцами стало неизбежным. Мы были вовлечены в это дело Капитаном, который покончил с крупным восстанием в Иберийских провинциях.
Тот, кто знаком с историей тайных орденов, знает, как трудно оценить их истинную численность и влияние. Равным образом известна и плодотворность, с какой они организовывали свои ответвления и колонии; решавшие проследить за ними очень скоро терялись в запутанном лабиринте. То же касалось и мавританцев. Новичку особенно странным казалось то, что в помещениях ордена представители смертельно ненавидевших друг друга групп могли мирно беседовать друг с другом. К целям мавританцев можно причислить и искусное ведение мирских дел. Они требовали, чтобы власть осуществлялась бесстрастно, на божественный манер, и, соответственно, их школы выпускали ясные, вольные и неизменно грозные умы. Неважно, занимались ли они подстрекательством к мятежу или установлением порядка, – там, где они побеждали, они побеждали как мавританцы, и гордый девиз этого ордена «Semper victrix»[5 - «Всегда одерживающий победу» (лат.).] относился не к его членам, а к его главе и доктрине. В гуще времени и его безостановочного течения орден стоял несокрушимо, и в его резиденциях и дворцах царили основательность и величественная простота.
Но не наслаждение покоем заставило нас примкнуть к ним. Когда человек теряет точку опоры, им начинает править страх, вихрь которого ослепляет. Среди мавританцев, однако, царило безмятежное спокойствие, как в центре циклона. Падая в пропасть, человек видит окружающее с предельной степенью отчетливости, как в увеличительном стекле. Именно такой взгляд, только без примеси страха, приобретался в атмосфере Мавритании, которая в основе своей была напоена злом. Именно тогда, когда начинал преобладать страх, прибывала способность к холодному мышлению и духовному отчуждению. На фоне катастроф царило приподнятое настроение; люди шутили над собой, как шутят арендаторы игорного дома по поводу разорившихся клиентов.
Тогда стало мне отчетливо ясно, что паника, чья тень всегда ложилась на наши большие города, находит противовес в отважном мужестве немногих, которые, словно орлы, парят над ничтожными земными страданиями. Однажды, когда мы выпивали с Капитаном, он задумчиво посмотрел в запотевший бокал как в стекло, раскрывающее прошлое, и мечтательно произнес: «Самым сладостным был для меня тот бокал зекта, что поднесли нам к стенобитным машинам в ту ночь, когда мы сожгли до тла Сагунт». И мы подумали: лучше погибнуть вот с этим, нежели жить с теми, кто от страха зарывается в пыль.
Но я отвлекся. У мавританцев можно было научиться игре, которая могла взбодрить ничем уже не связанный дух, смертельно уставший от самоиронии. У них же мир переплавился в карту, в том виде, в каком ее рисуют для любителей – с помощью циркулей и прочих блестящих инструментов; брать их в руки – одно удовольствие. Отсюда странным казалось, что и в этом светлом, лишенном тени и абстрактнейшем из пространств можно вдруг наткнуться на такие фигуры, как Старший Лесничий. Однако всякий раз, когда свободный дух завоевывает господство, то и аборигены тянутся к нему, как тянутся змеи к открытому огню. Они – старые знатоки власти, они чуют приближение новой эры, воздвигающей тирана, который с начала времен живет в их сердцах. Так возникают в великом ордене тайные ходы и подземелья, где неминуемо заблудится любой историк. Так начинается тайная борьба, разгорающаяся в самом средоточии власти. Борьба между образами и мыслями, борьба между идолами и духом.
В таких раздорах лишь немногим дано понять, откуда берет начало земное коварство. Это озарение снизошло и на меня, когда меня в поисках без вести пропавшего Фортунио занесло в охотничьи угодья Старшего Лесничего. С той поры я познал границы, положенные мужеству, и стал избегать темной опушки лесов, которые один древний муж любил называть своим «Тевтобургским лесом»; он вообще был великим мастером хитроумно разыгрывать честность и порядочность.
8
В поисках Фортунио проник я на северную опушку этих лесов, в то время как наша обитель находилась неподалеку от их южной оконечности, граничащей с Бургундией. По нашем возвращении обнаружили мы, что от старых порядков в Бухте осталась лишь призрачная тень. До того, начиная почти со времен Карла Великого, они всегда оставались в неприкосновенности – чужеземные владыки приходили и уходили, но всегда оставался народ, растивший виноградную лозу, повинуясь обычаю и закону. Богатство и поистине изысканная красота тамошней земли очень скоро оказывали смягчающее влияние на любую власть, какой бы крутой она ни была поначалу. Так действует красота на власть.
Однако война у Плоскогорья, которую вели так, словно воевали с турками, ударила глубже. Ударила, как мороз, разрушающий сердцевину ствола, после чего дерево начинает медленно умирать. Так и жизнь у Бухты сначала продолжала свой бег по привычному кругу. Она шла по-старому, но прежней уже не была. Когда мы стояли на террасе и глядели на цветущий венок садов, до нас временами доносилось дыхание глубоко скрытой усталости и анархии. И именно тогда до боли тронула нас красота этой земли. Так перед заходом солнца краски жизни начинают сверкать ярче и прекраснее.
В эти первые времена мы почти ничего не слышали о Старшем Лесничем. Но странно было ощущать его приближение к нам в той же мере, в какой нарастало ослабление привычного порядка, а реальность понемногу отступала. Сначала стали появляться неясные слухи, как появляются темные толки об эпидемиях, разразившихся в дальних гаванях. Потом распространились сообщения о нашествиях и насилиях – эти сведения передавались из уст в уста, и в конце концов творившиеся злодеяния стали неприкрытыми и очевидными. Как в горах густой туман предвещает непогоду, приходу Старшего Лесничего предшествовало густое облако страха. Страх скрывал его, как дымовая завеса, и я убежден, что его силу стоило искать в этом страхе, а не в нем самом. Он мог действовать только там, где дела уже и так шли вкривь и вкось – да и леса благоприятствовали нападению на страну.
Забравшись на вершины мраморных утесов, можно было от края до края обозреть область, на каковую он стремился распространить свою власть. Для того чтобы достичь зубцов, нам приходилось взбираться по узкой лестнице, прорубленной в скале возле хижины Лампузы. Омытые дождями ступени вели на выступающую вперед площадку, откуда открывался вид на всю округу. Здесь проводили мы многие солнечные часы, когда утесы лучились пестрым многоцветьем, ибо там, где сквозь расщелины ослепительно белых скал просачивалась вода, виднелись красные и блекло-светлые вкрапления. Исполинским гобеленом с тяжелых глыб свешивался темный плющ, а во влажных трещинах сверкали серебристые листья многолетнего лунника.
Поднимаясь, мы задевали ногами усики ежевики и пугали жемчужных ящериц, которые, поблескивая зелеными чешуйками, убегали на зубцы. Там, где густо нависал травянистый покров, изобиловавший синей горечавкой, из скалы вырастали друзы, окаймленные горным хрусталем, а в самой пещере сонно моргали сычи. Там же гнездились и быстрые ржаво-красные соколы; мы проходили так близко от их выводков, что отчетливо видели отверстия в их клювах, подернутых, словно голубым воском, нежной кожицей.
Здесь, на окруженной зубцами вершине, воздух был свежее, чем внизу, в котловине, где в знойном мареве подрагивали виноградники. Временами жара поднимала вверх потоки воздуха, которые мелодично, словно орган, звучали в расселинах, неся с собой едва уловимые ароматы роз, миндаля и мелиссы. Со скалы глубоко внизу мы видели крышу нашей обители. На юге, по ту сторону Бухты, защищенная ледниковым поясом, высилась свободная горная страна Плоскогорья. Частенько ее пики и вершины скрывались в тумане, поднимавшемся от воды, но, когда воздух очищался, мы могли различить высокие кедры, которые высоко вздымались над обточенной ветрами крупной галькой. В такие дни ощущали мы приближение фёна и на ночь тушили огонь в печи.
Иногда задерживали мы взгляд на островах Бухты, которые в шутку называли Гесперидами; на их берегах темнели стройные кипарисы. На этих островах в самые жестокие зимы не бывает ни мороза, ни снега; фиги и апельсины зреют на вольном воздухе, а розы цветут круглый год. Во время цветения миндаля и абрикосов люди Бухты плавают по ней на весельных лодках, которые скользят по синей глади, как светлые древесные листья. Напротив, осенью в Бухту выходят на солидных судах, чтобы полакомиться рыбой святого Петра, которая в лунные ночи выныривает из глубины на поверхность и в изобилии наполняет сети. Рыбаки ловят эту рыбу в полном молчании, ибо верят, что даже тихое слово спугнет ее, а ругательство и подавно испортит весь лов. На лов жители островов выходят, веселясь, запасаясь вином и хлебом, виноградники же на островах скудны. Там нет осенних прохладных ночей, когда на винограде выпадает роса, а его огонь возвышает дух предчувствием гибели.
Стоит посмотреть на Бухту во время этого празднества, чтобы почувствовать, что такое жизнь. Ранним утром оттуда доносится шум – отчетливый и изящный, как видят предметы при взгляде с обратной стороны подзорной трубы. Мы слышали звон колоколов и гром мортир, которым встречали украшенные венками суда; потом раздавалось пение благочестивых толп, стремившихся поглазеть на чудесные картины, слышали тонкий писк флейт свадебного поезда. Слышали мы и гомон галок, круживших вокруг флюгеров, крики петухов, кукованье кукушек, звуки рожков, на которых играли охотники – они раздавались от охотничьей процессии, выходившей из городских ворот. Так чудесно все это звучало, так шутовски, что казалось, будто весь мир соткан из лоскутов дурацкого наряда – но пьянило это зрелище не хуже доброго вина по утрам.
Глубоко внизу Бухту окаймлял венец маленьких городков со стенами и башнями римских времен; над городками возвышались серые от древности соборы и меровингские замки. Между городками лежали богатые деревни, над коньками крыш их домов кружили стаи голубей, виднелись там и позеленевшие от мха мельницы, куда местные жители осенью водили ослов, нагруженных мешками с солодом. И снова крепости, гнездящиеся на вершинах скал, и монастыри, огни на стенах которых ярко отражались в поверхности прудов с зеркальными карпами.
Когда мы смотрели с высоты на города и видели, как заботится человек о крове, о радости, о хлебе насущном и молитве, время свертывалось и съеживалось перед нашим взором. И словно из разверстых гробниц невидимо выходили мертвецы. Они всегда близки нам, когда направляем мы свой исполненный любви взор на издревле возделанный край; мы видим, как в камне и бороздах пашен живет их наследие, как властвует верный дух предков над полями и лугами.
За спиной у нас, на севере, пролегала граница Кампании; она отделялась от Бухты мраморными утесами, словно крепостным валом. Весной этот луговой пояс раскидывался, словно возвышенный цветочный ковер, по которому привольно и широко бродили стада коров, словно плывя по пестрой пене. В полдень они отдыхали в болотистых тенистых низинах с ольховыми рощами и зарослями дрожащих осин, которые виднелись на обширном пространстве, как лиственные острова, из которых часто поднимался к небу дым пастушеских костров. Видны были также многочисленные дворы с хлевами и ригами, высокими журавлями колодцев, откуда брали воду для скота.
Летом здесь было очень жарко и туманно, а осенью, во время спаривания змей, эта полоса земли представляла собой выжженную солнцем полупустынную степь. Противоположным краем эта земля соприкасалась с заболоченной местностью, в глуши которой не было никаких признаков человеческого жилья. Там и сям виднелись лишь грубые хижины из тростника – убежища охотников на уток, а на ольхах укрывались в листве охотничьи засады, выглядевшие как вороньи гнезда. Здесь уже господствовал и правил Старший Лесничий, и очень скоро на этих землях начал подниматься корабельный лес. От его опушек длинными дугами протягивалась в луга новая лесная поросль, которую в народе прозвали рогами.
Таково было пространство, видимое вокруг мраморных утесов. С их высоты мы взирали на жизнь, складную и связную, как виноградники, приносившие драгоценные плоды. Видели мы и ее границы: горы, в которых нашла приют высокая, но скудная свобода варварских народов, на севере же простирались болота и темные земли, откуда угрожал кровавый тиран.
Очень часто, стоя вдвоем на гребне скал, раздумывали мы над тем, сколько всего нужно для того, что вырастить зерно и испечь хлеб, и сколько всего надо, чтобы дух в безопасности расправил крылья.
9
В хорошие времена никто не обращал особого внимания на распри, время от времени случавшиеся в Кампании, так как подобное происходит во всех степных странах, населенных пастухами. Каждую весну происходили стычки из-за еще не клейменного скота, а потом драки за водопои, когда наступал сезон засухи. Огромные быки с кольцами в носу, снившиеся в страшных снах женщинам Бухты, вторгались в чужие стада и гнали их к мраморным утесам, у подножья которых часто находили побелевшие от солнца рога и ребра.
Но, самое главное, был этот пастушеский народ диким и необузданным. Свое положение наследовали они с незапамятных времен от отца к сыну, и когда эти оборванцы садились в круг около своих костров, сжимая в руках оружие, то при виде этих детей природы становилось отчетливо ясно, как отличаются они от народа, растившего виноград на склонах. Эти люди жили, как во времена, не знавшие ни жилища, ни плуга, ни ткацкого станка, когда устраивали временные пристанища на путях выпаса стад. Этому же соответствовали их обычаи и чувство чести и справедливости, покоившееся на праве мести. Каждый смертельный удар зажигал долгое пламя мщения, и бывали случаи клановых и семейных распрей, причина которых давно изгладилась в памяти враждующих, но распри эти, год за годом, собирали свою кровавую дань. Преступления, совершавшиеся в Кампании, юристы Бухты называли грубыми, бессмысленными деяниями, подрывавшими самое понятие о праве; пастухов не призывали на форум, наоборот, комиссии посылали к ним. В других округах правосудие вершили на своих обширных дворах арендаторы магнатов и владельцы ленов. Помимо этого, были еще и вольные пастухи, очень состоятельные – такие как батаки и беловары.