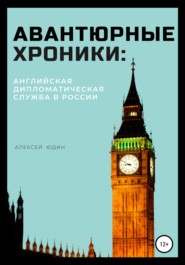скачать книгу бесплатно
Вторая миссии Ченслора
Несмотря на то, что Ченслор вернулся из Московии с пустыми руками, его рассказы о богатствах русской земли вызвали всеобщий ажиотаж. В апреле 1555 года королева Мария Тюдор подписала грамоту с большой государственной печатью, адресованную царю Ивану IV. Передать ее в руки Ивану Васильевичу предстояло снова Ричарду Ченслеру, а также Джорджу Киллингворту и Ричарду Грею, которые на этот раз были наделены официальными посольскими полномочиями. В мае участники экспедиции получили верительные грамоты и детальную инструкцию, которой Ченслору и его спутникам поручалось добиться для компании исключительных торговых привилегий, выведать дорогу в Китай и выяснить судьбу Хью Уиллоуби и его кораблей.
Следует подчеркнуть, что задача обосновать требование исключительных торговых привилегий была не из легких, и спутники Ченслора это хорошо понимали. Добравшись до устья Двины Ченслор и его товарищи с досадой заметили в ней голландские корабли. Тем не менее переговоры в Москве прошли весьма успешно. Английских гостей принимали чрезвычайно пышно и подчеркнуто гостеприимно. Обществу была пожалована царская грамота на беспошлинную торговлю всякими товарами по всей Руси. Споры между гостями и русскими купцами подлежали решению самого царя; в случае обвинения гостя, товары и его личное имущество не могли быть конфискованы в казну, а подлежали передаче агенту. Взаимные споры гостей между собою разбирались агентом, по требованию которого «царские приказные люди должны были сажать виновных в тюрьму или доставлять агенту орудия для наказания». Это были действительно исключительные условия, которыми не пользовались купцы других государств.
Как утверждают, удивительная сговорчивость русского царя объяснялась просто. В одном из заливов Печерского моря незадолго до прибытия английской миссии были обнаружены два корабля сэра Хью. Вся команда, включая Уиллоуби была убита самоедами. Якобы опасаясь дипломатических осложнений, Иван Васильевич постарался скрыть факт убийства, утверждая, что английские путешественники просто замерзли. Ченслора, которому якобы стали известны истинные причины смерти товарищей, уговорили не придавать происшедшее огласке, пошли ему навстречу по всем вопросам, возвратили англичанам корабли и все товары, найденные на них. Впрочем, утверждать подлинность этой информации однозначно невозможно. На обратном пути в Англию во время кораблекрушения Ченслор погиб, а в грамоте Ивана Васильевича, которая сохранилась и в которой, как писал Хаклит, значилось, что судьба англичан во главе с Уиллоуби неизвестна[48 - Таймасова Л.Ю., там же.]. Дипломатического скандала не получилось. Нельзя исключать, что для него и не было оснований, а тем более утверждать, как это делают некоторые историки, что убийство Хью Уиллоуби было заранее «срежиссировано» английскими купцами еще в Лондоне до отплытия экспедиции. Якобы, хорошо знавшие вздорный характер Уиллоуби, его жадность и желание во что бы то ни стало поправить свое материальное положение, английские купцы сознательно поставили его во главе экспедиции в явном расчете на какое-нибудь чрезвычайное происшествие[49 - Таймасова Л.Ю., там же.]. Как бы то ни было, английские купцы получили важные привилегии и на долгие годы поставили под свой контроль русскую северную торговлю. Успех пришел к англичанам не случайно и отнюдь не благодаря «военной хитрости» – Москва была сама крайне заинтересована в выходе из блокады, в которой она оказалась к тому времени и лишилась возможности закупать в Европе столь необходимое железо и другие «металлы войны».
Миссия Дженкинсона
Весной 1556 года, вновь направляя в Россию купцов, руководство Московской компании составило инструкцию, девятый пункт которой строго предписывал: «По прибытии в страну, вам следует высматривать и выведывать, настолько тайно, насколько это возможно, с целью узнать, что дешево, какие товары покупаются и продаются, используя для этого моряков и русских или агентов компании, находящихся там; и то что вы узнаете, вам следует записать в книгу и хранить ее в секретном месте; сведения из книги вы можете сообщить по возвращении домой только губернаторам и ассистентам компании с тем, чтобы правда о их тайных сделках стала известна. Вам следует всегда держать открытыми глаза, чтобы проследить за подпольной упаковкой и скрытной транспортировкой как по суше, так и по воде, таких товаров как пушнина и других, которые они ежегодно скупают, упаковывают и переправляют к нам. Если вы все время будете бдительны и если вы будете неуклонно соблюдать осторожность, в соответствии с этим пунктом, вы разведаете тайну подмены одного товара другим, либо на суше, либо на кораблях. Поступайте при этом мудро, и вы заслужите благодарность от имени всей компании»[50 - Hakluyt, Richard. The Principal Navigations. Vol. II, р. 320–321.]. Следует признать, что английские купцы трудились на славу. Все важные события и наблюдения заносились в секретный журнал для последующей передачи его лондонскому руководству компании и при необходимости правительству. После того, как в результате кораблекрушения журнал был подпорчен, порядок пересылки информации был изменен. Купцам компании было рекомендовано направлять важную информацию в Москву агенту компании в зашифрованном виде. Для этого из Лондона было прислано несколько шифровальных книг, а также средства тайнописи. Агенту в Москве предписывалось обобщенную и зашифрованную информацию отправлять в Лондон не морем, а сушей минимум один раз в год, как правило к Рождеству.
Осенью того же года королева Мария Тюдор[51 - Король Эдуард умер в 1553 году в возрасте 15 лет.] направила в Москву Энтони Дженкинсона в качестве официального посла. Он был радушно принят в Кремле и ему удалось получить согласие русского царя создать собственное представительство компании в русской столице. Англичанам выказали высокое доверие – им была предоставлена относительная свобода передвижения по стране в отличие от других иноземных купцов. Московская компания получила право открыть фактории также в Холмогорах и Вологде. Иван Васильевич выдал англичанам грамоту, по которой они имели право свободно и беспошлинно оптом и в розницу торговать во всех русских городах. Таможенникам, воеводам и наместникам было запрещено вмешиваться в торговые дела Московской компании.
Ежегодно из Англии стали прибывать торговые караваны, на которых везли главным образом английское сукно, а также полосовое железо, медь, порох, золотые и серебряные монеты. Из России вывозили меха, воск, мед, сало, лён, пеньку, корабельный лес, ворвань. В Холмогорах англичане создали рангоутное и канатное производства, организовали заготовку мачтового леса. Несколько столетий после этого оснастка и рангоут английских кораблей были в основном российского происхождения. Агенты компании появились в Вологде, Нижнем Новгороде, Ярославле и ряде других городов. Англичане развернули торговлю в России широко и с большой выгодой. Среди привилегий, полученных англичанами, было право добывать железную руду и построить в Вычегде железоделательный завод. В Россию потянулись также английские медики, аптекари, металлурги, архитекторы и инженеры, оценившие русские возможности и ресурсы.
Однако свою главную задачу Дженкинсон видел в том, чтобы получить охранные грамоты и право на беспрепятственный путь по Волге до Каспийского моря. В 1558 году ему удалось отправиться в путешествие. Экспедиция Дженкинсона прошла на ладьях по Волге до Каспийского моря и достигла Бухары. Как оказалось пути в Индию и Китай местные купцы давно знали, но пути были непроходимы из-за постоянных войн и разбойных нападений на торговые караваны. В ходе путешествия Дженкинсон составил самую подробную на тот момент карту Русского царства, Каспийского моря и Средней Азии, которая была издана в Лондоне в 1562 году под названием «Описание Московии, России и Тартарии». Из Бухары он вывез множество товаров. Для их перевозки понадобился караван в тысячу верблюдов, а для их транспортировки по Каспию и Волге пришлось купить судно, грузоподъемностью в 200 тонн.
В 1562 году Дженкинсон совершил вторую экспедицию. На этот раз ему удалось достичь Персии и шахского двора в Казвине. Здесь он заключил выгодные торговые соглашения от имени Московской компании, но главная задача осталась невыполненной. Оказалось, что португальские аванпосты заблокировали выход в Индийский океан из Персидского залива через Ормузский пролив. Кроме того, английские товары не могли конкурировать с товарами венецианских купцов, которые доставлялись более коротким путем через Средиземное море и Сирию. Утешением для Дженкинсона стал новый уровень отношений с русским царем. Путешествия англичанина произвели глубокое впечатление на Ивана Васильевича. Кроме того, они были взаимовыгодны: царь снабжал Дженкинсона охранительными грамотами, которые после завоевания Казани и Астрахани везде принимались с большим уважением, а английский купец выполнял царские заказы на восточные товары. Царь даровал Московской компании новые привилегии.
С восшествием на английский престол в 1558 году королевы Елизаветы переписка русского царя и английской королевы стала особенно интенсивной. Как минимум одно-два, а иногда три письма в год доставлялись английскими купцами в Лондон и Москву. Письма королевы Елизаветы касались главным образом деятельности Московской компании, королева просила московского «царя и брата» о предоставлении все новых привилегий купцам компании. Королева и Московская компания попытались получить от московского царя грамоту на монопольную торговлю с Московией и добивалась высылки из страны купцов других иностранных государств, а также английских купцов, действовавших независимо и в обход Компании. Положение осложнялось тем, что в Москву пробрался итальянец Барберини, который утверждал, что английские товары, прежде всего железо, на самом деле не английского происхождения и их можно дешевле купить в Италии. Заявления Барберини были встречены с определенным недоверием и не нанесли ущерба позициям английских купцов в России.
В 1566 году Дженкинсон снова отправился в Москву. Ему удалось получить все то, чего добивалась Елизавета. Иван Васильевич охотно принял английские требования о новых торговых привилегиях для Московской компании. Со своей стороны, отправляя Дженкинсона обратно в Лондон в ноябре 1567 года он на словах передал Елизавете предложение заключить тайный союз. Дженкинсон следующим образом изложил предложение русского царя: «Далее царь требует, чтобы ея корол. вел-во и он были за одно соединены (против всех своих врагов); то есть, чтобы ея вел-во была другом его друзей и врагом его врагов, и также наоборот, и чтобы Англия и Россия были во всех делах за одно»[52 - Толстой Ю.В. «Первые сорок лет сношений между Россией и Англией. 1553-1593., С.-П. 1685, с. 145.]. Царь предлагал также взять на себя обязательство о взаимном предоставлении убежища на случай кому-либо их них придется покинуть свое государство[53 - Russia at the Close of the Sixteenth Century: Comprising, the Treatise "Of Russe Common Wealth» by Giles Fletcher and «The Travels of Sir Gerome Horsey, Knt.», NY, 1856, p. xix]. Россия вела непростую войну за Ливонию, внутри страны было неспокойно, опричнина пыталась искоренить боярскую смуту, и русский царь весьма нуждался в таком союзе. Он полагал, что английская королева, конфликтовавшая с Ватиканом и Габсбургами, будет заинтересована в подобном союзе. Москва же, по его расчетам, могла таким образом попытаться ослабить поддержку Габсбургами притязаний Польши и Литвы на русские территории. Кроме того, он просил прислать опытных мастеров для постройки флота, крепостей, башен, дворцов, а также наладить снабжение русской армии пушками, порохом, металлами и другим военным снаряжением. Иван Васильевич просил дать ответ до петрова дня, то есть до конца июня следующего года.
Тайный совет королевы в то время предпринимал попытки примирить французских протестантов с католиками и на этой основе заключить союз с Францией, направленный против Испании. Тайный союз с Россией, который вряд ли можно было надолго сохранить в тайне, на тот момент противоречил осторожной политике Елизаветы, которая стремилась максимально оттянуть неизбежный военный конфликт с Испанией. К войне с Испанией Англия была еще не готова, а участвовать в войнах на стороне России не собиралась.
Миссия Рэндольфа
Весной 1568 года Елизавета направила в Москву посла Томаса Рэндольфа, которому было поручено вести переговоры в основном по торговым делам. Относительно предложений, переданных через Дженкинсона, королева поручила Рэндольфу заявить, что Елизавета, «зная могущество и мудрость царя, усумнилась в достоверности слов, переданных Дженкинсоном; что, впрочем, в случае непредвиденного бедствия, царь будет дружески принят ею в Англии; с своей же стороны она, уповая на милость Божию, вполне уверена в своей безопасности как от своих подданных, так и от внешних врагов»[54 - Толстой Ю.В., там же, с. 146.]. Относительно военного союза Рэндольфу было рекомендовано уклониться от обсуждения этого вопроса, а если царь все же пожелает обсудить вопрос союза, то посол должен был дать понять, что подобный союз не приемлем для Англии, ибо Россия воюет с Польшей и Швецией. В подобных условиях речь может идти только о взаимной торговле.
Рэндольф прибыл в бухту св. Николая в мае того же года, но до Москвы добрался только к октябрю: пришлось долго ждать царского приглашения. Он отказался предоставить письма королевы в посольский приказ до личного приема в Кремле и его продержали практически под арестом до февраля 1569 года. Царь согласился принять его ранним утром, но заставил ждать более двух часов, выслушал молча и не пригласил к царскому столу. Через несколько дней его вызвали ночью на совещание, а потом Иван Васильевич уехал в Александровскую слободу и вновь принял Рэндольфа только в апреле.
На этот раз прием был вполне милостивым. Царь даровал англичанам новые привилегии, разрешив им вести через Россию торговлю с Персией, искать железную руду в окрестностях Вычегды и переплавлять монету в Москве, в Новгороде и во Пскове. Англичанам, торговавшим через Нарву в обход Московской компании, было запрещено продолжать торговлю, а один из купцов был выдан Рэндольфу головой. Английскому послу Иван Васильевич приказал немедленно отправляться в Англию в компании с русским послом Андреем Совиным, который вез с собой текст тайного договора: «стоять заодно против обоюдных врагов; помогать друг другу войском, казною и всеми военными потребностями». В Лондоне переговоры продолжались более года и ни к чему не привели. Совин настаивал на подписание привезенного им текста договора на русском языке в неизменном виде и при крестном целовании. Елизавета доказывала, что может вступить в войну на стороне России, только убедившись в ее справедливости и после попытки своим посредничеством решить предмет спора мирным путем. Отпуская Совина в Россию без Дженкинсона, на чем настаивал Иван Грозный, Елизавета вручила ему две грамоты. В одной она, сославшись на незнание русского языка, сообщала о том, что изучила документ по его копиям на латыни и на итальянском языке, и пришла к выводу, что это проект или образец договора «о вечной дружбе между Россией и Англией». Елизавета выразила готовность заключить такой договор в той мере, в какой позволят сделать уже имеющиеся у Англии договора с другими государствами. Она предложила свою формулу договора: «Мы вступаем в дружеский и сестринский союз, которому продолжаться на вечные времена… Союз этот мы будем соблюдать и содержать на веки так, что обязуемся нашими обоюдными и общими силами противостоять против и нападать на всех, которые будут общими врагами нам обоим; и защищать обоюдно нашу государскую честь, благосостояние наших государств и стран и помогать, пособлять и благоприятствовать один другому нашими взаимными помощью и пособием против наших общих недругов в той мере, как это устанавливается сею нашей грамотой…»[55 - Толстой Ю.В., там же, с. 94]. Андрею Совину было, кроме того, сообщено, что московские купцы также могут приезжать в Англию и приобретать товары, однако только для исполнения личных заказов царя.
Во второй – секретной грамоте – она обещала предоставить московскому царю убежище в Англии для проживания «за его счет», в случае возникновения такой необходимости, а также не чинить препятствий в случае, если он захочет вернуться в Россию или выехать в любое другое государство. Вторая грамота была заверена подписями членов тайного совета.
Гнев царя был беспримерным, его особое раздражение вызвало требование англичан подтвердить законность русских территориальных притязаний на Ливонию. Слова, в которых было составлено ответное послание, были просто оскорбительными (… Но мы видим, что твоим государством правят помимо тебя люди, да не то что люди, «но мужики торговые», а ты как есть девица, так по девичью и ведешь себя («а ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая девица»)). Царь заявил о прекращении всяческих отношений с английской королевой и отозвал все грамоты, жалованные Московской компании. Ответ был отправлен королеве в октябре 1570 года через Дэниела Сильвестра, переводчика, который помогал вести переговоры с Андреем Совиным в Лондоне. Еще до его приезда в Лондоне было получено известие о том, что царь не только отнял привилегии у Московской компании, но велел конфисковать все ее товары, запретить все ее операция, не принимать никаких жалоб англичан на неплатежи по обязательствам перед Компанией.
Последняя миссия Дженкинсона
Королева встревожилась и направила ответное послание с нарочным, выразив непонимание причин гнева русского царя. Не дожидаясь ответа, вслед за первым курьером в Москву отправился Дженкинсон. В августе 1571 года он был уже в Холмогорах и отправил Сильвестра в Москву, прося о царской аудиенции. Ему пришлось ждать почти 9 месяцев, снося множество унижений, пока Иван Васильевич не согласился принять его в Александровской слободе, ибо Москва была сожжена крымским ханом Девлет Гиреем. Дженкинсону удалось, пользуясь прежними отношениями с русским царем, восстановить привилегии Московской компании и заручиться обещанием предоставлять английским кораблям охрану при плавании по Волге для налаживания торговли с закаспийскими странами. Успех Дженкинсона в значительной мере объяснялся тем, что планы Ивана Васильевича изменились, в Ливонской войне наступило затишье, России удалось установить контроль почти над всей северной Прибалтикой. Впрочем, в возмещении убытков английских купцов было отказано, да и отношение царя к Дженкинсону было уже не прежним. Сразу же после аудиенции он был отослан в Тверь, где ожидал официальных посланий, но потом был вынужден отправиться в Вологду. Только в конце июля 1572 года он смог отправиться в обратное плавание. В Москву его не допустили.
В переписке между русским царем и английской королевой наступил перерыв. Только в 1574 году Иван Васильевич снова написал в Лондон. В его письме вновь зазвучали упреки. На этот раз он упрекал Елизавету в том, что английские купцы в России ведут себя недобросовестно, больше занимаются «лазутчеством», чем торговлей, поддерживают контакты с противниками царя, прячут их на Английском подворье, но больше всего его возмущало то, что англичане воевали против России в составе армии шведского короля[56 - Толстой Ю.В. «Россия-Англия. Первые сорок лет», с.148]. Кроме того, царь вернулся к вопросу о закреплении союза между двумя государствами крестным целованием и клятвой.
Миссии Сильвестра
В этот период времени основным курьером между Лондоном и Москвой выступал уже упоминавшийся Дэниел Сильвестр. В ответном послании и в наставлениях Сильвестру Елизавета ответила на выдвинутые обвинения. Она заверила царя в том, что всем английским купцам Московской компании даны строгие указания вести торговлю честно, не вывозить из России запрещенные товары, не выдавать иностранные товары за английские, чтобы не платить пошлин, не вести торговлю в розницу, с врагами русского государя не знаться. Относительно англичан в войске шведского короля она допустила, что это могли быть изменники, бежавшие из Англии от наказания, но по большей вероятности это могли быть шотландцы, которые не являются поддаными английской королевы, хотя и говорят на английском языке. Относительно крестного целования и клятвы Елизавета поручила Сильвестру постараться уговорить царя отказаться от этой затеи, допустив, однако, возможность своего согласия, если царь Иван будет слишком сильно гневаться и откажется слушать аргументы посла. В таком случае она просила прислать в Лондон русского посла для свидетельствования крестного целования и кляты. Елизавета просила не придавать посольству официального характера и приглашала русского посла в качестве частного лица, чтобы не возбуждать подозрений послов других иностранных держав относительно содержания тайного договора между Россией и Англией.
Пребывание Сильвестра в России на этот раз было непродолжительным. Отправившись из Лондона в мае, уже в ноябре он был принят Иваном Васильевичем. Разговор получился жестким. Русский царь припомнил все уклончивые ответы Елизаветы на его предложения союза, прямо обвинил королеву в высокомерии и желании пользоваться исключительно торговыми возможностями в России, особенно разрешением создать канатное производство в Холмогорах, что не было позволено купцам ни одной другой державы. В конце января 1575 года Иван Васильевич провожал Сильвестра в обратный путь следующими словами: «Мы хорошо понимаем сколь полезны для Англии товары наших стран; в особенности же позволение нами, чтобы англичане строили дома для делания канатов (что воспрещено всем другим народам), не только выгодно для купцов, но и весьма выгодно для всего английского государства. Если мы не встретим в будущем в сестре нашей более готовности чем ныне, то все это, а также остальные повольности будут у них отняты, и мы эту торговлю передадим венецианцам и германцам, от которых они (англичане) получают большую часть тех товаров, которые нам доставляют»[57 - Толстой Ю.В., там же, с. 187].
Уклоняться далее было нельзя, и Елизавета поспешила отправить Сильвестра обратно в Москву со своим ответом. Однако послания английской королевы Иван Васильевич так и не получил. По дороге Сильвестра убило молнией, а дом и все имущество сгорели. Правда, историки не установили, где это произошло, поскольку вынуждены опираться на малодостоверные рассказы Джерома Горсея и других английских путешественников. Нельзя исключать, что Сильвестр благополучно вернулся в Англию и возвратил королеве ее послание: уж очень некстати был для Елизаветы союз с Московией.
Горсей и его миссии
С этого времени новым представителем в России стал уже упомянутый Джером Горсей. Он объявился в Москве в 1573 году как сотрудник Московский компании, правда сотрудник он был непростой. Он был не высокого происхождения, его дед и отец занимались торговлей, однако благодаря своему родственнику сэру Эдуарду Горсею жизнь его круто изменилась. Дядя познакомил его с уже упоминавшимся Фрэнсисом Уолсингемом, главным государственным секретарем ее величества, королевы Елизаветы I. Официально Уолсингем выполнял различные дипломатические миссии, однако его основным занятием стало предотвращение заговоров против королевы, то есть разведкой и контрразведкой. Знакомство с Уолсингемом стало для Горсея знаковым событием.
Купцы Московской компании занимались сбором всяческой информации, что было прямо записано в хартии компании, но Джером Горсей занимал в замыслах Уолсингема особое место. Около трех лет ушло у Горсея на изучение русского языка. Параллельно, пользуясь своим положением сотрудника Московской компании, он завязывал знакомства среди русских бояр и дворянства. Достаточно скоро ему удалось через свои связи добиться разрешения на увеличение площади участка на Варварке, на котором располагалось Английской подворье, а заодно построить свой собственный дом, в котором было удобно устраивать официальные приемы, а также частные встречи. Среди его знакомых скоро оказались все основные любимцы Ивана Васильевича, включая Богдана Бельского, Бориса Годунова, Петра Головина, царского казначея, Шуйских, многочисленных Романовых (при царе Иване IV их было 16 человек), Мстиславских, Трубецких и многих других. Не сложились у Горсея отношения только с Андреем Щелкаловым, думным дьяком посольского приказа, и его братом Василием, которые отдавали предпочтение голландским купцам. Впрочем, это утверждение самого Горсея. Возможно, из-за братьев ему долгое время не удавалось стать своим человеком непосредственно в Кремле. Только в 1576 году, когда молния убила Дэниела Сильвества, посольского курьера английской королевы, услуги Горсея оказались востребованы: нужно было срочно доставить в Лондон послание Ивана Васильевича. Русская армия остро нуждалась в пушках, порохе и другом военном снаряжении для продолжения затянувшейся Ливонской войны. Наступила зима, обычный путь морем через Архангельск был закрыт, и Горсею предстояло проехать посуху, через территорию воюющих с Россией государств. Иван Васильевич, по словам Горсея, «послал за мной и сказал, что окажет мне честь, доверив значительное и секретное послание к ее величеству королеве Англии, ибо он слыхал, что я умею говорить по-русски, по-польски и по-голландски. [Он] задал мне много разных вопросов и был доволен моими быстрыми ответами»[58 - Джером Горсей, «Путешествия сэра Джером Горсея. Рассказ или Воспоминания сэра Джерома Горсея, извлеченные из его путешествий, занятий, служб и переговоров, в которых он провел большую часть из восемнадцати лет, собранный и записанный его собственной рукой», с 16.].
Послание было спрятано в потайном отделении деревянной фляги с водкой. Путь через Европу был не простым, но Горсею удалось, правда не без приключений, добраться до Англии. Фрэнсис Уолсингем передал послание королеве, которую настолько заинтересовала информация Горсея, что Елизавета приглашала его к себе четыре раза. Весной, перед возращением в Россию королева, как писал в мемуарах Горсей, «приказала зачислить меня в число своих телохранителей, подарила мне свой портрет и удостоила поцеловать ее руку». В бухту св. Николая он привел 13 больших торговых судов, груженных железом, медью, свинцом, порохом, селитрой, серой и другими товарами на общую сумму в 9 тысяч фунтов. На одном из кораблей прибыл новый кремлевский лекарь Роберт Джейкоб, прозванный в России Романом Якобием. Иван Васильевич принял Горсея в Александровской слободе. Горсей передал ему послание Елизаветы, а также на словах какое-то секретное поручение[59 - Возможно, речь могла идти о поставках в Англию русского «ямчуга», амиачной селитры для преобразования ее в калийную селитру, основной компонент в производстве пороха. Видимо, к тому времени производство ямчуга было в России освоено. Такое предположение можно сделать на основании уже упоминавшегося исследования историка Л.Ю. Таймасовой.]. «Царь похвалил мою быстроту и деловитость, назначил мне содержание и обещал великую милость по возвращении в Москву», – записал он позже в мемуарах.
С этого времени Горсей действительно занял место в окружении Ивана Васильевича, но его положение нельзя было назвать прочным: все зависело от настроений государя. Впрочем, у него были некоторые каналы получения информации из окружения царя.
Англи
йские врачи при особе русского государя
В России еще не было самостоятельной медицинской школы, поэтому по традиции лекарей выписывали из-за границы. Английские врачи, прошедшие обстоятельное обучение в Кембридже или Оксфорде, славились по всей Европе. У Ивана Грозного было поочередно как минимум семь иностранных врачей[60 - Как правило, в Россию отправлялись те, кто не смог получить лицензию на врачебную практику в Англии.], пятеро из них были англичане или по крайней мере их присылали из Англии. Так, в 1568 году по личной просьбе русского царя королева Елизавета отправила в Московию фламандца доктора Арнульфа Линдсея. Как писал Курбский, царь к нему «великую любовь всегда показывавше, обаче лекарства от него никакого приймаше». Был среди посланцев королевы и выходец из Вестфалии Елисей Бомелий. Он получил медицинское образование в Кембридже, правда не полное, и за занятия медицинской практикой без лицензии был отправлен в королевскую тюрьму. Только согласившись отправиться в Россию ко двору Ивана Грозного, он получил свободу. В России ему удалось войти в ближайшее окружение Ивана Васильевича, но его основным занятием стала астрология[61 - По мнению Л.Ю. Таймасовой Бомелий занимался главным образом поисками противоядия от ядов, которыми отравили членов семьи царя, а затем и его самого.]. Русский царь любил сверять свои решения со звездным небом, поэтому совершенно неудивительно, что в Лондоне многое знали о России и ее политике. Бомелий прослужил русскому царю десять лет, но все же в конце 1570-х годов его уличили в государственной измене, пытали и бросили в темницу, где он и скончался[62 - По мнению Л.Ю. Таймасовой, причиной его ареста и пыток послужили перехваченные письма, в которых он сообщал Уолсингему «политическую информацию» о положении в окружении Ивана IV. Когда положение стало угрожающим, он переодевшись в русское платье пытался бежать, но был опознан и схвачен в Пскове.].
Последним врачом Ивана Грозного, по сложившейся традиции считается голландец, Иоганн Эйлоф, но на самом деле был еще один врач, уже упоминавшийся Роберт Джейкоб, которого как уже отмечалось привез в Россию Горсей. Елизавета прислала его ко двору Ивана Васильевича в 1581 году по личной просьбе царя. Джейкоб получил хорошее образование в Кембридже, еще три года обучался в Базельском университете. По возвращении в Англию его постигла неудача. Медицинская коллегия не утвердила его аттестацию. Два года Джейкоб пытался как-то выйти из положения, но все было тщетно. Совершенно неожиданно он получил предложение от королевы отправиться в Россию. Отсутствие у него лицензии на врачебную практику не помешало Елизавете дать ему самую положительную характеристику «как придворному врачу». Впоследствии в своих посланиях она не раз интересовалась его службой при дворе Ивана Васильевича. Эйлоф оставался главным медиком при дворе, но советы и лекарства, привезенные новым доктором, оказали благотворное действие на организм и настроение царя. Как утверждает историк Л.Ю. Таймасова, Якоби удалось также вылечить от бесплодия молодую царицу, Марию Нагую. Впрочем, заслуги доктора вряд ли стоит преувеличивать: о беременности царицы было объявлено в январе 1582 года, всего через четыре месяца после свадьбы.
В том, что служба доктора Якоби не ограничивалась врачебной практикой можно не сомневаться. Непричастный к разведывательной деятельности английский историк медицины Уильям Джон Бишоп с удивлением установил, что «за карьерой англичан-эмигрантов, королева Елизавета и ее министры похоже следили с неослабевающим интересом. Бишоп пришел даже к выводу, что многие присылаемые из Англии врачи действовали в качестве политических агентов, и им были поручены секретные миссии»[63 - https://zen.yandex.ru/media/alexmuseum/kto-lechil-ivana-groznogo-5dea00ad79c26e00b1d4aa69]. Нельзя исключать, что такая миссия была и у Роберта Джейкоба. Он, например, навел Ивана Васильевича на мысль о том, что военный союз с Англией будет проще заключить, если породниться с Тюдорами. Именно он предложил в качестве подходящей невесты дальнюю родственницу королевы из древней фамилии – Марию Гастингс[64 - Сборник императорского русского исторического общества (СИРИО), runivers.ru, т. 38, с. 3.]. Как известно, у Елизаветы I собственных детей не было. Идея породнится с представительницей старинной английской аристократии показалась русскому царю привлекательной и он, как утверждают, даже не возражал против выдвинутого условия закрепить за наследниками брака царя с Марией Гастингс право наследования русской короны. Если бы брак состоялся то, нужно полагать, что судьба русской монархии имела шансы сложиться совершенно иным образом.
Миссия Боуса
В 1582 году Иван Васильевич отправил в Лондон русское посольство Федора Писемского и подьячего Епифана Ховралева, «способного к их языкам». Иван Грозный хотел получить подтверждение достоинств Марии Гастингс. На тот случай, если королева заметит, что у государя уже есть супруга, велено было ответствовать: «… правда, но она не царевна, не княгиня владетельная, не угодна ему и будет оставлена для племянницы королевиной». Надо сказать, что перспектива увидеть на русском троне представителя английского королевского дома обсуждалась в Лондоне. Писемскому даже предоставили возможность увидеть Марию в неофициальной обстановке, в саду королевского дворца. После Писемский доносил: «Мария Гастингс ростом высока, стройна, тонка, лицом белая, глаза у неё серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках долгие».
Писемскому и Ховралеву был дан также подробный наказ по торговым и союзным делам. По торговым делам было велено сказать в Лондоне, что английские купцы более не пользуются исключительными привилегиями и платят пошлины в царскую казну как все остальные иностранцы, а голландский купец Ян де Валь получил право торговать в местностях, где торгуют англичане «к великой их помехе». По делам оборонительного и наступательного союза Писемский привез с собой текст статей договора. С правой стороны каждого листа было оставлены широкие поля, куда предполагалось записать «ответы» лордов, которым королева поручила бы вести переговоры. Обсуждение статей договора затянулось на год, конкретных результатов не принесло, и в июне 1583 года русские послы вместе с посланником английской королевы, представлявшим также интересы Московской компании, Джеромом Боусом отправились в обратный путь.
Джером Боус получил от королевы детальные инструкции по всем вопросам, которые предстояло обсуждать в Москве. Относительно оборонительного и наступательного союза Боусу было велено заявить, что вступать в военные действия с каким-либо иностранным государством без предварительных переговоров, которые могли бы устранить повод к войне, ни по-христиански, ни по международному праву, ни по здравому рассудку Англия не может согласиться. Королева поручила Боусу, предварительно выяснив отношение Ивана Васильевича к шведскому королю, предложить от имени королевы услуги посредника в заключении мира и в окончании войны со Швецией.
По торговым вопросам королева указала Боусу обратить внимание царя на то, что она не просит невозможного, а желает только восстановления тех привилегий, которые уже однажды были дарованы английским купцам Московской компании. Кроме того, она просила возвратить английским купцам те пошлины, которые были ими уплачены в предшествующие годы.
Относительно Марии Гастингс Боусу было предложено сообщить царю, что здоровье девушки крайне подорвано и она вряд ли вынесет длительное морское путешествие. Кроме того, ей было бы тяжко расстаться с родными, а принуждать ее королева не имеет никакого права[65 - Толстой Ю.В., там же, с.206-211https://runivers.ru/bookreader/book578418/#page/313/mode/1up (https://runivers.ru/bookreader/book578418/)или https://drevlit.ru/docs/england/XVI/1540-1560/Russ_England_40_let/text4cbf2.php].
В исторической литературе распространено мнение о том, что такие жесткие инструкции и вздорный характер англичанина обрекали миссию Джерома Боуса на заведомую неудачу. Некоторые историки высказывают предположения, что он сам был не очень заинтересован в успехе. Как полагал, в частности, Я.С. Лурье, Боус сознательно срывал переговоры между Англией и Русским государством, так как являлся сторонником осторожной линии во внешней политике и считал этот союз попросту вредным[66 - Лурье Я.С. Английская политика на Руси в концеХУ1 в. // ЛГПИ им. Герцена. Ученые записки. – Т. 61.-Л., 1947.-С. 135.]. Надо сразу заметить, что утверждение о неудачи миссии Боуса не более чем легенда, он сам способствовал созданию такого представления об итогах поездки в Московию. Сначала он сделал это в отчете о своей миссии для королевы, а через несколько лет – в опубликованных мемуарах[67 - http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Bauth/text.phtml?id=85].
Сразу же по возвращении в Лондон Боус подал королеве Елизавете записку, в которой сообщил, что подвергался постоянным унижениям и не раз был вынужден опасаться за свою жизнь, но желая выполнить наказы королевы, претерпел все и добился всего, что требовалось для восстановления привилегий английских купцов. Вот как он описывал прием, оказанный ему в Москве: «В первый раз как я пришел в присутствие царя, царь, подав мне руки, чтобы я их поцеловал, приказал, чтобы меня отвели шагов на десять назад, прежде чем я начну говорить, и на этом разстоянии велел мне громко объявить мое поручение, как будто я провозглашал какую-нибудь прокламацию. Потом когда он спросил мою грамоту, и я подходил к нему чтобы ее вручить, его канцлер Щелкалов подошел, чтобы взять ее от меня, считая повидимому, что я (хотя и посланник ея вел-ва) не достоин сам их вручить. Равным образом царю не угодно было удостоить дотронуться до подарка ея вел-ва, но по его приказанию, тот же Щелкалов взял его от меня с места, где я стоял.
В тот же день на обеде в присутствии царя, будучи посажен за боковой стол, когда я шел верхним концом стола, чтобы сесть на свое место, царь мне выговорил за это и велел пройти на место за нижним концом стола. Он хотел также заставить всех моих слуг сесть обедать за одним столом со мною: когда я решительно воспротивился этому и отказался обедать на таких условиях, то он приказал посадить за стол ничтожных дворян»[68 - Толстой Ю.В., там же, с. 206–211].
Переговоры, которые вел дьяк Андрей Щелкалов, бравший, по словам посла, взятки от голландских купцов, проходили в обстановке придирок, претензий и обид. Щелкалов, как указывалось в записке, постоянно намекал Боусу, что посол он «ненастоящий» и не имеет «необходимых полномочий». (На отсутствие полномочий следует обратить внимание.) Вопреки всем этим унижениям Боус, как он утверждал, выполнил все наказы королевы, избежал заключения союза, добился восстановления старых привилегий английских купцов и даже договорился о новых, но неожиданная смерть Ивана Васильевича все сорвала. Дъяк Щелкалов и его сторонники разорвали все подписанные и ожидавшие подписи грамоты царя, а самого Боуса арестовали и держали под стражей больше двух месяцев в собственном доме прежде, чем отправить его обратно в Англию.
В мемуарах, которые были написаны много позднее, уже после того, как были изданы воспоминания Горсея, он был вынужден несколько изменить версию событий. Он повторил рассказ об унижениях, которым он подвергался в Московии и которые нанесли невероятный ущерб престижу королевы, но только частично. По его утверждениям, по приезде в Холмогоры ему пришлось больше месяца дожидаться приглашения в Москву, а Писемский тем временем немедленно уехал. В путешествии по русским рекам его сопровождал пристав от посольского приказа, который без конца унижал посланника королевы и явно хотел потопить его ладью. Ладья английского посланника следовала в самом конце каравана, пристав заставлял его оплачивать все малосъедобные припасы, которые доставлялись посольству. В довершение, как записал Боус, пристав даже называл его «нехристем», но… неожиданно в Москве его ожидал торжественный прием, хотя некоторые из придворных старались оскорбить и унизить посла. Аудиенция в царском дворце, как оказалось, была весьма почетной. «Посол был подведен для целования Царской руки; после любезных расспросов о здоровье Ее Величества, Царь указал ему сесть на приготовленное для него место, в 10 шагах от себя, откуда посол, по желанию Царя, должен был передать ему грамоты и подарки Ее Величества, посол, не считая это удобным, сделал несколько шагов по направлению к Царю; Думный дьяк подскочил к нему и хотел было взять у него грамоту, но посол сказал ему, что не к нему послана грамота Ее Величества, и, подошедши, передал ее в руки Царю». За обедом его посадили за боковой стол близко от царя. «Во время обеда Царь оказывал послу большое внимание и посреди обеда, поднявшись, выпил большой кубок за здоровье Королевы, своей доброй сестры и пожаловал послу большой кубок рейнского вина с сахаром выпить за свое здоровье»[69 - Известия англичан о России XVI в. // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. № 4. М. 1884, с. 96–105.].
Дальнейшие события Боус описывает еще более противоречиво. По словам Боуса, переговоры в Москве проходили в сложной обстановке: «Наконец после разных совещаний Царь, видя, что его желания не удовлетворены, (потому что посол не имел права, по данному ему наказу, принимать все, что Царь считал нужным), как человек, не привыкший, чтоб отвергали его желание, дал волю своему гневу и сказал сурово и досадливо послу, что он не считает Английскую Королеву своим другом, «те, которые у меня есть, – сказал он, – лучше ее». Боус решил «не позволять Царю нарушать приличие по отношению к чести Ее Величества и, полагая, что, «подчиняясь его дурному расположению, не получишь от него должного, отвечал ему смело и выразительно, что Королева, его повелительница, величайшая в христианском мире государыня, равна ему, считающему себя сильнейшим, что она легко защитится от его злобы, не имеет она ни в чем недостатка, чтобы напасть на всякого, кого она или имеет врагом или будет иметь». Дерзкие речи Боуса якобы еще больше разозлили Ивана Васильевича, и он «сказал послу, что тот не посол и что он выгонит его …» Боус, по его словам, немедленно покинул царские покои, но уже через час царь прислал к нему думного дьяка, который дал понять, что гнев царя, вызванный болезнью, прошел и он даст ответы на все поставленные королевой Елизаветой вопросы, а также пообещал направить в Лондон высокого посла и богатые подарки королеве и самому послу. Иван Васильевич кроме того «приказал давать теперь же новое, более щедрое жалованье на корм послу, чем то, что полагалось прежде… Корм этот был так обилен, что посол несколько раз просил отменить его, но Царь ни за что не соглашался на это»[70 - Там же, с. 96–105].
После этого Иван Васильевич резко смягчил отношение к английскому послу. Щелкалов был отстранен от ведения переговоров, которые были поручены Богдану Бельскому. Как пишет Боус, «посол приобрел такое сильное расположение Царя, он употребил все усилия не только для скорейшего окончания порученного ему дела, но и всячески старался к пользе своей родины и соотечественников; и немного спустя он добился от Царя не только всего, что ему велено было просить инструкциями, но и сверх того много полезного и важного для выгоды купцов… На все это последовало согласие, нечто было уже уплачено до отъезда посла из Москвы, старые привилегии были подписаны, новые – написаны, подписаны и скреплены печатью и оставалось только передать их послу в ближайший его приезд ко двору. Как вдруг Царь заболел от пресыщения и помер».
После его смерти положение посла, по его собственным воспоминаниям, резко изменилось. Никита Романович Захарьин-Юрьев и дьяк Андрей Щелкалов, главные противники Боуса, снова взяли дело в свои руки. Все достижения Боуса на переговорах были потеряны. Более того, Боус был по сути посажен под домашний арест, под которым находился более двух месяцев. «В продолжение всего этого времени я хлопотал о моем отпуске, который должен был получить еще до смерти царя, но Никите и Щелкалову не угодно было дать мне его…»[71 - Толстой Ю.В., там же.]. Затем Боусу объявили, что он может возвращаться в Англию и сообщили, что новый царь Федор Иоаннович не «желает вести с Королевой, государыней посла, большую дружбу, чем та, которая была между его покойным отцом и ею до приезда посла сюда…»[72 - Середонин С.М., Известия англичан о России XVI в., с. 95-106. https://archive.org/details/libgen_00296637/page/n1/mode/2up?view=theater] На эту фразу следует обратить внимание. Боус, судя по всему, хотел этим сказать, что новый царь не будет добиваться заключения договора о союзе и в восстановлении торговых привилегий английским купцам было отказано. Боусу также передали послание Федора Иоанновича для королевы Елизаветы, но поскольку, «как он думал», оно не содержало ничего важного, он отказывался его брать и только, уступая давлению, принял послание, а также царские подарки.
На этом злоключения Боуса на закончились. Дорога к Архангельску представлялась послу крайне опасной, он попытался заставить английских купцов сопровождать его, однако они не согласились. Только вступив на палубу корабля, Боус почувствовал себя в относительной безопасности и отослал на берег послание Федора Иоанновича и его «жалкие» подарки дворянину, который сопровождал его из Москвы. По другой версии, Боус в злобе изорвал послание и изрезал подарки. По прибытии в Лондон посол проинформировал Уолсингема и королеву о неудаче своей миссии, но так получилось, что вскоре в Лондон прибыл и Горсей. В своих мемуарах Горсей посчитал нужным упомянуть, что перед аудиенцией у королевы к нему на дом пришел Боус. О цели этого визита Горсей не сообщил, ограничившись упоминанием о том, что Боус хвалил его знание русского языка. Во время аудиенции королева якобы попросила рассказать о деятельности Боуса в Москве, на что Горсей отвечал очень кратко и сдержанно. Затем его попросили перевести послание полученное из Москвы о миссии Боуса, и Горсей несколько смягчил критические замечания по адресу посла. Уолсингем обратил на это внимание, выразил неудовольствие и попросил скорректировать перевод для королевы. На этом дипломатическая карьера Боуса завершилась. Он пытался мстить Горсею, подал на него в суд, но судьи оправдали Горсея[73 - Джером Горсей, «Путешествия сэра Джером Горсея. Рассказ или Воспоминания сэра Джерома Горсея, извлеченные из его путешествий, занятий, служб и переговоров, в которых он провел большую часть из восемнадцати лет, собранный и записанный его собственной рукой»,https://www.litmir.me/br/?b=585644&p=24]. Следует подчеркнуть, что Горсей, несмотря на требование Уолсингем, не сообщил о том, что царь Федор Иоаннович отнюдь не ограничился сухим подтверждением прежнего статуса русско-английских связей: новый русский царь не «желает вести с Королевой, государыней посла, большую дружбу, чем та, которая была между его покойным отцом и ею до приезда посла сюда…» На самом деле в архивных записях Посольского приказа[74 - Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год). Часть первая. С. 93.], имеется указание на то, что в мае 1584 года царь Федор Иоаннович предоставил английским купцам именной жалованной грамотой право повсеместной оптовой торговли за исключением Казани и Астрахани с уплатой половинной пошлины. Причины, по которым и Боус, и Горсей предпочли утаить это важное обстоятельство, заслуживают внимательного разбора.
Версия Горсея
Горсей скрыл факт получения Боусом именной жалованной грамоты от Федора Иоанновича, хотя был вынужден выслушать упрек королевы. Королева прямо указала на то, что «мы упустили время и случай, которые могли бы принести ей и подданным большие богатства»[75 - Джером Горсей, там же, с. 24.]. По сути, он продолжал защищать Боуса, утверждая, что миссия английского посла завершилась неудачей из-за его «вздорного характера, заносчивости и несговорчивости».
Вместе с тем Горсей, хотя и «скороговоркой» был вынужден все же раскрыть обстоятельства и ход переговоров. Он, в частности, записал: «… состоялось несколько секретных и несколько торжественных встреч и бесед. Король (the Kinge) чествовал посла; большие пожалования делались ему ежедневно продовольствием; все ему позволялось, но, однако, ничто его не удовлетворяло, и это вызывало большое недовольство. Между тем было достигнуто согласие относительно счетов между чиновниками царя и Компанией купцов; все их жалобы были услышаны, обиды возмещены, им были пожалованы привилегии и подарки, и царь принял решение отправить к королеве одного из своих бояр послом. Если бы сэр Джером Баус знал меру и умел воспользоваться моментом, король (Kinge), захваченный сильным стремлением к своей цели, пошел бы навстречу всему, что бы ни было предложено, даже обещал, если эта его женитьба с родственницей королевы устроится, закрепить за ее потомством наследование короны. Князья и бояре, особенно ближайшее окружение жены царевича – семья Годуновых (the Godonoves), были сильно обижены и оскорблены этим, изыскивали секретные средства и устраивали заговоры с целью уничтожить эти намерения и опровергнуть все подписанные соглашения»[76 - Джером Горсей, там же, с. 20.]. Следует обратить внимание на эти «подписанные соглашения». Привилегии английским купцам по традиции предоставлялись царской жалованной грамотой, следовательно речь могла идти о каком-то двустороннем акте, а исходя из инструкций, полученных Боусом, это мог быть только союзный договор. Иными словами Боус в нарушение инструкций королевы подписал союзный договор, а когда осознал возможные последствия для своей карьеры, стал искать способы поправить столь грубую ошибку. Неожиданная смерть Ивана Васильевича давала ему возможность не упоминать больше о «подписанных соглашениях», но о них могло быть сказано в послании Федора Иоанновича королеве. Именно поэтому, надо полагать, Боус совершил дерзкую выходку – изорвал царское послание, хотя к нему была приложена жалованная грамота английским купцам.
При таком допущении неожиданная смерть царя Ивана Васильевича становится подозрительной, хотя нельзя полностью отказаться от версии кончины царя по вполне естественным причинам. Сразу же после смерти Ивана Грозного стали распространяться слухи о том, что он долго и серьезно болел. Эти слухи были многократно исследованы и в общем с достаточной степенью достоверности установлено, что у царя были серьезные проблемы с суставами, на которых образовались наросты, мешавшие ему ходить. Других заметных проблем со здоровьем у него не было. Он собирался жениться в седьмой раз и вероятно был в силах это сделать. Всего за два года до смерти у него родился сын, царевич Дмитрий. В его возрасте у него могли, конечно, случаться периоды ухудшения здоровья, но в целом современники признавали его кипучую энергию. Сохранился рассказ ученого книжника, диакона из Каменец-Подольского Исайи, который приводит в своем исследовании историк Б. Фроля, о том, как в марте 1584 года он беседовал с царем о вере «перед… царским синклитом»; царь с ним «из уст в уста говорил крепце и сильне»[77 - Фроля Б.Н. «Иван Грозный», глава «Последние годы».]. Современные исследования показывают, что содержание мышьяка и ртути в костях не превышало допустимых пределов и не создавало угрозы здоровью, поэтому нельзя исключать использования яда на другой основе.
Горсей в своих описаниях обстоятельств смерти царя, свидетелем которой он оказался, подтверждает, что в тот день ничто не предвещало скоропостижной кончины царя. С утра Горсей присутствовал на «лекции» о свойствах и пользе различных драгоценных камней, которую Иван Васильевич устроил в своей сокровищнице в Кремле, и куда англичанин был приглашен. В ходе лекции он пожаловался, что враги навели на него порчу, но Горсею было ясно, что он выкрутится, как уже не раз бывало в прошлом. Потом он пересмотрел свое завещание, но по нему было видно, что умирать он не собирается. Царь приказал истопить баню. Дальнейшее следует читать предельно внимательно. «Около третьего часа дня царь пошел в нее, развлекаясь любимыми песнями, как он привык это делать, вышел около семи, хорошо освеженный. Его перенесли в другую комнату, посадили на постель, он позвал Родиона Биркина (Rodovone Boerken), дворянина, своего любимца, и приказал принести шахматы. Он разместил около себя своих слуг, своего главного любимца и Бориса Федоровича Годунова (Boris Fedorowich Goddonove), а также других. Царь был одет в распахнутый халат, полотняную рубаху и чулки; он вдруг ослабел (faints) и повалился навзничь»[78 - Джером Горсей, там же, с. 21.]. Возможность отравления Горсей тут же попытался исключить, указав без всякого перехода: «Произошло большое замешательство и крик, одни посылали за водкой, другие – в аптеку за ноготковой и розовой водой, а также за его духовником и лекарями. Тем временем он был удушен (he was strangled) и окоченел». Возможность удушения представлялась всем настолько невероятной, что до конца XIX века переводчики, несмотря на очевидное искажение, предпочитали писать «царь испустил дух». Как бы то ни было, давая такую версию, а Горсей, явно пытался создать впечатление, что убийство царя стало делом рук бояр, прежде всего Бориса Годунова, недовольных планами царя жениться на англичанке и распространить на ее детей право наследования русского трона. Аргумент мог бы быть достаточно серьезным, если бы не отказ королевы Елизаветы выдать Марию Гастингс за русского царя. Понимали это и Горсей, и Боус. Думается, что совершенно не случайно Боус в своих мемуарах упомянул о намерении «царя, забрав с собой казну, ехать в Англию и там жениться на какой-нибудь родственнице королевы», которых Боус насчитал царю больше десятка[79 - Джером Боус «Посольство Ер. Бауса», http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Bauth/text.phtml?id=85].
Полностью исключать вариант «боярской мести», конечно, нельзя, хотя отравить царя на глазах у всех его придворных, а тем более задушить было бы делом непростым. Подобные слухи тем не менее по Москве ходили. При этом вину за отравление царя возлагали на любимца царя, главу аптекарского приказа Богдана Яковлевича Бельского. Именно из его рук царь принимал лекарства. Голландец Исаак Масса, находившийся в России в годы Смуты, записал такой рассказ о смерти Ивана IV: «Говорят, один из вельмож Богдан Бельский, бывший у него в милости, подал ему прописанное доктором Иоганном Эйлофом питье, бросив в него яд, в то время, когда подносил царю, отчего он вскорости умер». Рассказ этот исходил от человека, хорошо знакомого с жизнью русского двора в последние годы правления Ивана IV. Фламандец Иоганн Эйлоф действительно был одним из врачей, лечивших Ивана IV в последние годы его жизни. Горсей поддержал эту версию в своих мемуарах, утверждая что «…даже Бельский, самое доверенный человек Ивана Васильевича, «негодовал на царя» в связи с его планами жениться на англичанке. Утверждение Горсея нельзя признать основательным. Бельский был действительно едва ли не самый доверенный человека царя и вряд ли мог злоумышлять против царя. По своему происхождению он был «худородным дворянином», всем был обязан расположению царя и рисковал все потерять с его смертью. Более всех мог выиграть Борис Годунов, поскольку наследник престола, Федор Иоаннович, был женат на Ирине Годуновой, сестре Бориса, и находился под ее сильным влиянием. Риск, однако, был слишком велик, а Годунов был осторожен и расчетлив.
Иными словами, Горсей, настаивая на версии о «боярской мести», направлял европейское общественное мнение по ложному следу, прикрывая кого-то другого. Скорее всего он хотел выгородить другого медика царя – Романа Якобия, соотечественника Горсея. Предположение вполне правдоподобное. Многие обратили внимание на то, что английский посол постоянно общался с врачом-соотечественником. И это обстоятельство Борис Флоря особо подчеркнул в своем исследовании. Нельзя исключать, что Боус, размышляя о своей дальнейшей незавидной участи после предстоящего доклада королеве о своем «двойном успехе» в Москве – и союзный договор, и привилегии английским купцам – вполне мог обратиться к услугам английского доктора. Тогда понятным становится завершающий этап миссии Боуса в России. Вот как описал его сам Боус: «… они заперли посла, как пленника в его доме в продолжение 9 недель; лица, приставленные к нему, так строго держали его и так дурно обращались с ним, что он ежедневно подозревал дальнейших несчастий …»[80 - Джером Боус, там же.]. Впечатление о незавидной участи Боуса усилил Горсей. «Посол, сэр Джером Баус, – пишет Горсей, – дрожал, ежечасно ожидая смерти и конфискации имущества; его ворота, окна и слуги были заперты, он был лишен всего того изобилия, которое ему доставалось ранее… За мною прислали, чтобы узнать мое мнение о том, что следует делать с сэром Джеромом Баусом, его посольство было завершено. Я сказал лордам (the lordes), что к чести короля (Kinge) и государства его нужно отпустить живым и невредимым, следуя правилу всех народов, иначе это будет плохо воспринято и, возможно, вызовет такое недовольство, которое удастся не скоро ликвидировать… свое мнение я предлагал на их более мудрое и достойное рассмотрение. Все они обругали его, упомянув, что он достоин смерти… Лорд Борис Федорович (the lord Boris Fedorowich) послал за мной как-то вечером. Я застал его игравшим в шахматы с князем [царской] крови Иваном Глинским (а prince of the bloud, Knez Ivan Glinscoie). Он отозвал меня в сторону [и сказал]: «Я советую тебе меньше говорить в защиту Бауса, лордам (the lords) это не нравится. Иди, покажись им и успокой того-то и того-то. Твой ответ был внимательно рассмотрен, многие требовали расплаты за его поведение. Я делаю все, что могу, чтобы все сошло хорошо, передай ему это от меня»[81 - Джером Горсей, там же, с. 21.]. Борис Годунов сдержал слово. В конце мая 1584 года Боусу было приказано в три дня покинуть Москву, но жизнь его все еще находилась в опасности. И снова послу помог Горсей.
По словам Горсея, он проводил Боуса за пределы городских стен: «Отъехав десять миль, я натянул свой шатер и устроил проводы ему и его компании из моих запасов и продуктов, он умолял меня позаботиться о дальнейшей безопасности его пути, и я хотя не давал обещаний, но выполнил [эту] его просьбу»[82 - Джером Горсей, там же, с. 22.]. Последняя фраза звучит весьма многозначительно. Каким образом Горсей мог защитить посла на длинном пути от Москвы до Архангельска? Для этого существовал один способ ?— предоставить Боусу вооруженную охрану. И такой отряд в распоряжении Горсея, как оказалось, был. Он сам написал об этом в воспоминаниях. «В то время среди этих пленных иностранцев было 85 несчастных шотландских солдат, уцелевших от семисот человек, присланных из Стокгольма, а также трое англичан, которые были в самом жалком положении. Я употребил все свое старание, средства и положение, чтобы помочь им, а также, используя мой кошелек, добился разрешения разместить их у Болвановки (Bulvan), около Москвы, и хотя царь был очень сильно разгневан на них, приговорил многих шведских солдат к смерти, однако я отважился устроить так, чтобы царю рассказали о разнице между этими шотландцами, теперешними его пленниками, и шведами, поляками, ливонцами – его врагами. Они [шотландцы] представляли целую нацию странствующих искателей приключений, наемников на военную службу, готовых служить любому государю-христианину за содержание и жалованье…»[83 - Джером Горсей, там же, с. 15.]. В общей сложности численность этого отраяда достигала, по признанию Горсея, двенадцати сотен. Из них и могла быть составлена охрана Боуса. Таким образом, в распоряжении Горсея была сила, своего рода «частная армия», которую можно было бы использовать в случае необходимости для защиты английской колонии в Москве, а также для выполнения других боевых задач. Горсей в другом месте, рассказывая о дне смерти Ивана Васильевича и последовавших событиях, сам подтвердил это: «… Я со своей стороны, предложил <Годунову> людей[84 - Следует отметить, что во все времена беспорядков в Москве и гонений на иностранцев Английское подворье в Москве ни разу ни пострадало и в нем находили убежище голландские и немецкие купцы, и даже опальные придворные.], военные припасы в распоряжение князя-правителя (the prince protector)»[85 - Речь идет о Борисе Годунове].
Боус благополучно добрался до Архангельска, а затем и до Лондона. Остается добавить, что вместе с Боусом в Лондон возвращался и доктор Роман Якобий. В его услугах в Москве больше не нуждались. Впрочем, Иоганна Эйлофа тоже выслали из России. На всякий случай, вероятно, чтобы подозрение падало не на одного Роберта Джейкоба. Царь Федор Иоаннович направил с Боусом послание королеве Елизавете, которое посол, как уже отмечалось, вступив на палубу корабля изорвал, а царские подарки изрезал. Это была явно избыточная предосторожность. В послании про подписанный союзный договор ничего не говорилось. Борис Годунов, судя по всему, испытал благодарность по отношению к английскому послу – благодаря убийству Ивана Грозного ему открылась дорога к трону. Видимо, он согласился выгородить Боуса. В его более позднем послании, а также в послании Федора Иоанновича английской королеве, не было ни одного намека на союзный договор и «провал» миссии английского посла объяснялся его строптивостью и несговорчивостью в полном соответствии с версией Горсея и самого Боуса.
Если предположение о роли Боуса и доктора Джейкоба в отравлении Ивана Грозного имеет под собой основание, то следует признать, что записки Горсея стали первым примером «литературного прикрытия» специальной операции англичан за пределами национальной территории и заложили «добрую традицию» многих английских дипломатов и разведчиков «объяснять» читателям своих воспоминаний суть переворотов и революционных событий, свидетелями которых они стали, но в которых «отнюдь не участвовали».
Кстати, идея насильственной смерти Ивана Грозного отнюдь не нова. Этой теме посвящено исследование, написанное уже упоминавшимся крупнейшим советским и российским историком–славистом, членом-корреспондентом РАН Борисом Николаевичем Флорей[86 - Флоря Б.Н., «Иван Грозный», глава «Последние годы»]. В своей книге об Иване Грозном, он цитирует одну из псковских летописей: царь «на русских людей… возложи свирепство», а затем и вовсе собрался «бежати в Аглинскую землю и тамо женитися, а свои было бояре оставшии побити». Но «не даша ему тако сотворити, но самого смерти предаша, да не до конца будет Руское царство разорено и вера християнская». При этом вину за отравление царя возлагали на ближайшего вельможу царя, главу аптекарского приказа Богдана Яковлевича Бельского, что, как уже было показано, явно противоречило интересам и перспективам царского любимца.
Вместе с тем Флоря, ссылаясь на записи переговоров Бельского с Боусом, подтверждает версию о подписании Боусом союзного договора. Вот, в частности, что он пишет: «Переговоры о союзе не пошли гладко. Соглашаясь на заключение такого соглашения, королева устами своего представителя настаивала на том, что, прежде чем начинать войну с «недругом», следует вступить с ним в переговоры, предлагая, чтобы он «воздержался от дальнейших обид и согласился на честные условия мира». Лишь после неудачи таких переговоров Елизавета соглашалась оказать своему союзнику помощь войсками и вооружением. Такую процедуру царские советники нашли не только излишней, а прямо вредной («толко обсылатца с недругом и недруг в те поры изготовитца»), а царь с раздражением заметил, что Елизавета «хочет с нами быти в докончании (союзе. – Б.Ф.) словом, а не делом». Другая трудность состояла в высокой цене, которую требовалось уплатить за заключение союза. Елизавета соглашалась на заключение договора лишь в том случае, если объединению торгующих с Россией английских купцов – «Московской компании» – будет предоставлена монополия на торговлю во всех портах севера России, которые закроются для голландских, французских и других купцов. Царские советники дали ясно понять послу, что они хорошо представляют себе последствия такого шага, тот огромный ущерб, который это соглашение нанесет России («опроче аглинских людей торговати на Русь ходити не учнет нихто, и они станут свои товары дорожить и продавать дорогой ценой по своей мере, как захотят»), но Джером Боус, следуя инструкциям Елизаветы, упрямо стоял на своем.
… Царь оказался перед нелегким решением, но желание отомстить врагам оказалось у него столь сильным, что он решил пойти на жертвы, чтобы добиться заключения союза. Советники, возражавшие против уступок англичанам, были отстранены от ведения переговоров, а к английскому послу отправился Богдан Бельский, который поставил перед ним один единственный вопрос: если царь даст английским купцам монополию на торговлю с Россией, будет ли заключен союз против царских «недругов» – Стефана Батория и шведского короля Юхана III. Ответ посла был положительным: «королевна для тое дружбы станет с тобою, государем, заодин на литовского и на свейского». После этого по приказу царя Богдан Бельский подготовил новый проект русско-английского договора, включавший в себя обязательство сторон «стояти заодно… доставати Лифлянские земли».
Воодушевленный успехом, Боус обещал содействовать продолжению переговоров о новом браке царя, так как выяснилось, что помимо Мэри Гастингс у королевы есть и другие родственницы – «и ближе тое племянницы есть их до десяти девок». Боус обещал сам позаботиться о том, чтобы в Лондоне были написаны их портреты и отосланы в Москву с тем послом, который поедет к Елизавете для окончательного оформления договора о союзе[87 - Джером Боус «Посольство Ер. Бауса», http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Bauth/text.phtml?id=85].
Царь, несомненно, был доволен успехом переговоров. В его представлении новый посол, которого он намеревался отправить в Лондон, должен был доставить ему официально утвержденный текст договора, условия которого были согласованы с представителем Елизаветы. Но до Боуса начало доходить то, что он допустил непростительную дипломатическую и политическую ошибку. Далее Флоря пишет: «… Знакомство с инструкциями, которые Елизавета дала своему послу, показывает, что она стремилась и далее уклоняться от вмешательства в конфликты в Восточной Европе на стороне Ивана IV, и условия договора, подготовленные в Лондоне, существенно отличались от тех, которые стали итогом переговоров в Москве. Получение «Московской компанией» монополии на торговлю с Россией вряд ли повлияло бы на изменение этой позиции. Помимо того что главные цели, которых стремилось добиться в начале 80-х годов XVI века правительство Елизаветы, требовали от него активной политики совсем в другом регионе Европы – во Франции и Нидерландах, еще больше, чем в торговле на севере России, английское купечество было заинтересовано в торговле с Речью Посполитой (Англия была одним из главных потребителей польского хлеба) и никто не хотел ставить эти интересы под угрозу, ввязываясь в новую войну Ивана IV с Баторием»[88 - Флоря Б.Н, там же, глава «Последние годы»]. И это действительно так: в инструкциях королевы на переговоры в Москве нет ни слова о возможности размена – союзный договор против монополии английским купцам на северную торговлю[89 - Толстой Ю.В. «Первые сорок лет…», с. 206.]. Недаром Андрей Щелкалов высказывал в ходе переговоров сомнения в наличии у посла Боуса необходимых полномочий, и допускал, что «вообще посол он ненастоящий».
Вкупе с рассуждениями о других родственницах королевы, которых Боус взялся приискать Ивану IV, по возвращении на родину английского посла в лучшем случае могла ожидать позорная отставка. И далее Флоря пишет: «Когда 17 февраля 1584 года завершились переговоры Богдана Бельского с английским послом, оставался всего один месяц до смерти царя». В течение этого месяца Боус, надо полагать, все глубже осознавал всю опасность своего положения, в которое он поставил себя своей самонадеянностью и неосмотрительностью. Судя по всему, он пришел к выводу, что в случае смерти царя союзный договор превращался бы в никому ненужную бумагу и его промахи можно было бы скрыть. Исполнить задуманное было не просто но возможно: к его услугам был английский врач при царской особе, Роман Якобий. Складывается впечатление, что Боус действовал не очень аккуратно. Флоря прямо пишет об этом: «Боус находился в постоянном контакте с английским доктором». Стоит ли удивляться, что Боус после смерти Ивана Грозного был арестован и в ходе следствия «посол, сэр Джером Баус, дрожал, ежечасно ожидая смерти и конфискации имущества; его ворота, окна и слуги были заперты, он был лишен всего того изобилия, которое ему доставалось ранее»[90 - Флоря Б.Н., там же.].
Следует, вероятно, еще раз повторить, что от смерти Боуса спас только Борис Годунов, только благодаря его заступничеству английскому послу позволили безнаказанно возвратиться на родину. Это была благодарность за непрошенное содействие: скоропостижная кончина Ивана Грозного открыла ему путь к власти и в дальнейшем – к престолу. Маловероятно, чтобы Боус действовал в сговоре с Борисом Годуновым, хотя полностью исключать подобную вероятность не стоит. Можно, однако, с высокой степенью уверенности утверждать, что Борис Годунов понимал ситуацию в деталях. Именно поэтому Годунов пошел даже на то, чтобы скрыть факт подписания Боусом союзного договора. Под видом жалоб на английского посла он выгораживал Боуса в послании к королеве Елизавете, давая понять, что переговоры провалились и военный союз создать не удалось. Еще одним алиби для Боуса стало послание царя Федора Иоанновича, которой вслед за Боусом привез в Лондон Роман Бекман, толмач Московской компании. В послании Федор Иоаннович писал: «И посол твой будучи у отца нашего, в. г[осу]д[а]ря ц. и в. князя, многие непригожие слова перед отцом нашим говорил, чего никоторому послу говорить перед великим государем не пригоже; а на бояр наших докладывал ложь, будто они не с теми словы к отцу нашему приходили, что с ним говорят; а делу никотору толку не дал, толко искал своей беспутные чести да корысти, чтоб ему кормы многие давали, а дела никоторого не говорил»[91 - СИРИО, Т. 38, с. 148.]. Изложенные выше дополнения к версии Бориса Флори по поводу смерти Ивана Грозного и степени вовлеченности в них Бориса Годунова можно признать неубедительными только в одном случае – Борис Годунов был полностью отстранен от переговоров с Боусом и ничего не знал о подписании союзного договора.
Впрочем, нельзя исключать и еще одной версии, в соответствии с которой отравление царя Ивана IV было заранее спланированной операцией. С точки зрения интересов Лондона русский царь превратился в серьезный раздражитель, его настойчивые попытки подписать с Англий союзный договор создавали ненужные и даже опасные сложности для реализации замыслов английского правительства в Европе. Во-первых, начала вырисовываться перспектива союза Московии с Габсбургами, на чем настаивал думный дьяк Посольского приказа А. Щелкалов. С начала 1580-х годов в Москве заметно активизировалась деятельность иностранных дипломатов. С 1581 года в Москве находился папский нунций Антонио Поссевино, отметивший серьезность и тщательность, с которыми велись переговоры с ним об обращении русских в католическую веру с сохранением православной обрядности. Историки в большинстве своем склонны полагать, что Иван Грозный шел навстречу Поссевино только в расчете на его посредничество в мирных переговорах со Швецией, но никаких обещаний папскому иезуиту не давал, а если и давал, то выполнять их не собирался. Несомненно, для таких утверждений можно найти серьезные основания, но Габсбурги были весьма настойчивы, и им активно помогал Андрей Щелкалов. Проявляли активность император Священной римской империи, король Рудольф II и Филипп II Испанский, пытавшиеся создать союз против Оттоманской империи, что становилось все более важным и для русских. Более того, Филипп II намеревался добиваться изгнания английских купцов из русских портов и даже был готов захватывать английские корабли. Допустить союз Габсбургов с Россией означало для англичан не только получить против себя мощнейшую коалицию континентальных держав, но и лишиться основного источника стратегических товаров, необходимых для строительства английского флота.
Во-вторых, с окончанием Ливонской войны Иван Васильевич получал возможность вернуться к реформам молодости, заняться хозяйственными вопросами в масштабах централизованного государства, которое к тому времени по площади равнялось половине Европы. Для этого уже были созданы важнейшие предпосылки. Опричнина позволила ослабить сопротивление старинного боярства и конфисковать боярские вотчины, необходимые для создания нового дворянства на основе принципа «нет службы – нет земли»[92 - При этом, как утверждает историк А.В. Пыжиков, крайне важно уточнить, что отнюдь не все боярство было подвергнуто репрессиям. Традиционный подход историков вольно или невольно скрывает основных пострадавших. Историк С.Б. Веселовский провел анализ синодиков, в которые аккуратно заносились жертвы репрессий. Из его анализа следует, что около 30–40 процентов репрессированных – выходцы из Новгорода и Пскова, старые враги московского княжества. Из оставшихся почти половина, то есть ещё треть, – литовско-украинские выходцы и их слуги.]. В Московском царстве была создана довольно эффективная система государственного управления, включавшая систему приказов в Москве, а также местное самоуправление в лице наместников, волостелей, выборных губных и земских старост. Еще в первые годы царствования Ивана Васильевича была проведена денежная реформа, введена единая денежная единица – московский рубль. Были отменены «кормления», а сбор налогов и торговых пошлин были переданы в приказ Большого прихода. Удалось осуществить унификацию налоговой системы на базе «большой сохи»[93 - Большая соха – участок земли в 400-600 га, с которого в зависимости от плодородия почв взималось «тягло», т. е. натуральные и денежные повинности.], а также отменить налоговые льготы для монастырей, что позволило создать определенную финансовую базу для решения первоочередных задач. Среди этих задач, как показала Ливонская война, на первом месте стояла недопустимо высокая зависимость страны от привозных «орудий войны». Пушкарскому приказу предстояло без промедления заняться созданием мануфактур и заводов для производства современных пушек и мортир, пороха и прочего военного снаряжения, а это грозило запустить в Московии процессы хозяйственного развития, лишая английских купцов важного рынка сбыта произведений английской промышленности. Россия же получала шанс превратиться в мощную централизованную Российскую империю. В официальных бумагах английского правительства того времени, которые приводит в своих сборниках документов, известный историк английских завоеваний Ричард Хаклит, Ивана IV официально именуют «императором» России, царем и великим князем московским. Со смертью Ивана Грозного фактически пресекалась династия московских Рюриковичей. Его сын Иван погиб или был убит, второй сын Федор, по словам самого Ивана Васильевича, был «постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рождённый». Неизбежная в таком случае борьба за царский престол грозила неисчислимыми бедствиями и разорением государства. Таким образом, мотивы для устранения Ивана Васильевича у англичан были вполне основательные. Как известно, по венецианской традиции за создание угрозы государственным интересам виновный по приговору Совета десяти полагалась смерть.
Царь Федор Иоаннович и Борис Годунов
Еще одна миссия Горсея
После коронации Федора Иоанновича в мае 1584 года Годунов, еще только один из пяти членов опекунского совета, отправил Горсея в Лондон в качестве посла нового русского царя с известиями о происшедших в России событиях, а также с просьбой о поставках металлов, меди, олова и свинца, «что к ратному делу пригождаеца»[94 - Следует отметить, что поставки железа, меди, свинца, олова и различного оружия стали после сукна важнейшими товарами в английском экспорте в Россию. Как утверждает историк А.Н. Волынец, только в 1604 году английские и голландские корабли доставили в Архангельск различных металлов на 16088 рублей. Следует иметь в виду, что цены на европейское железо были весьма высоки. В начале XVII века один пуд (16 кг) русского железа стоил у производителя около 60 копеек, стоимость пуда импортного шведского железа достигала 1 рубля 30 копеек. Пуд импортной железной проволоки стоил еще дороже – от рубля до трех. При этом лошадь тогда оценивалась в 2 рубля, а купить холопа стоило от 3 до 5 рублей. Главным поставщиком железа в Россию в XVII веке стала Швеция. Только в 1629 году царская казна купила 25 тысяч пудов высококачественного железа из Швеции – то есть свыше трети всего железа, появившегося в России в том году. На протяжении XVII века свыше 90% стоимости всех закупок русских купцов в Швеции составляли медь и железо, в отдельные годы этот процент был еще выше – например, в 1697 году, буквально накануне начала Северной войны, 97% всех русских денег, потраченных в Стокгольме, ушло на покупку железа и меди. Мощная металлургическая база превратила к XVII столетию Швецию в ведущую сверхдержаву Балтийского региона, сделав эту страну могущественным и сложным противником России во время будущей Северной войны.]. Вез Горсей и специальное послание о посольстве Боуса. По дороге Горсей заехал в Ригу и выполнил весьма важное поручение Годунова. Ему удалось получить доступ к вдовствующей королеве Ливонии Марии Владимировне, дочери Владимира Старицкого, двоюродного брата Ивана Васильевича, убитого по его приказу еще в 1569 году. Мария Владимировна и ее малолетняя дочь в случае смерти бездетного царя Федора Иоанновича становились прямыми претендентками на царский престол. Горсею эти обстоятельства были хорошо известны. В Рижском замке Мария Владимировна и ее дочь содержались, по сути, на правах пленниц. Пользуясь расположением Юрия Радзивилла, ливонского наместника польского короля, Горсей получил разрешение встретиться с Марией Владимировной. Он передал ей приглашение Федора Иоанновича вернуться в Москву, чтобы не испытывать лишения на чужбине, и обещая ей все блага, соответствующие ее статусу. (Судьба Марии Владимировны оказалась предсказуемой – около 2 лет она пользовалась милостями нового русского царя, но затем по неизвестной причине ее постригли в монахини Подсосенского монастыря, где при невыясненных обстоятельствах скончалась ее малолетняя дочь.) Мария Владимировна несмотря на определенные сомнения приняла приглашение царя. Обстоятельства ее бегства до сих по не ясны. По одной версии Годунов, получив известие о согласии Марии Владимировны вернуться в Россию, организовал конные подставы на всем пути следования и обеспечил ее безопасность. Подобная операция представляется многосложной и отнюдь не безопасной. Более вероятно, что при содействии Горсея беглянка воспользовалась английским кораблем, стоявшем в Рижском заливе, который доставил ее к устью реки Невы. За оказанную услугу царский шурин обещал щедро наградить англичанина и добиться у государя особых привилегий для купцов Московской компании[95 - Таймасова Л.Ю. «Английский проект колонизации русского севера, или золото «земли Писид», «Исторический формат», №1, 2020 год, с.100.]. Правда, награды Горсею пришлось дожидаться очень долго. В июне 1604 года Борису Годунову было доставлено его послание, в котором он напоминал о данном обещании[96 - Бантыш-Каменский Н.Н. там же, с. 100.]. Послание было доложено Годунову только в январе 1605 года, а затем Годунов неожиданно скончался. Как утверждают историки[97 - Таймасова Л.Ю. там же, с. 110.], долг был погашен только в 1630 году при Анне Иоанновне. Настойчивость Горсея, а затем и английского правительства, вызывает удивление, но в этом есть своеобразная логика «суконщиков», как называл англичан царь Петр. В Лондоне якобы рассматривали действия Горсея при освобождении Марии Владимировны как миссию официального представителя Московской компании и лично королевы Елизаветы, и поэтому вопрос был вынесен на официальный дипломатический уровень. В рамках версии бегства Марии Владимировны на английском корабле официальное требование со стороны английского правительства возмещения понесенных затрат и вознаграждения выглядело вполне логично.
В Лондоне Горсей явился к сэру Фрэнсису Уолсингему, который устроил ему аудиенцию у королевы. «Ее величество, – писал об этой встрече Горсей, – приняла письма царя и мою речь очень благосклонно и с большими похвалами мне; [она сказала, что] рада иметь слугу столь верного и опытного в делах, что ему дает поручение такой великий иностранный государь»[98 - Джером Горсей, «Путешествия…», с 34.]. Про послание Годунова Горсей в мемуарах вспоминает вскользь, потому что при докладе королеве произошло досадное «недоразумение». Горсей, как уже отмечалось, по просьбе Боуса несколько смягчил в своем переводе смысл послания Годунова по поводу пребывания Боуса в Москве. Как утверждает Горсей, несколько позже он по настоянию своего шефа, лорда Уолсингема уточнил содержание послания и якобы Боуса от дел удалили, а Горсею пришлось отправиться обратно в Москву. Ему было поручено передать две грамоты. Одна была адресована царю Федору Иоанновичу, и в ней Елизавета сообщала о том, что конфликт улажен и «промеж нас будет вечная любовь»[99 - Там же, с. 170]. Вторая грамота по совету Горсея была адресована лично Годунову. Елизавета полагала, что в лице Годунова она нашла «защитника английских интересов», «ласкателя англичан» при царском троне, который мог бы сбалансировать влияние Андрея и Василия Щелкаловых.
Андрей Щелкалов, думный дьяк посольского приказа, как уже отмечалось не любил английских купцов, не считал нужным предоставлять им монополию на торговлю через русский север в ущерб голландцам и немцам. Союз с Англией Щелкалов считал невозможным в виду уже чисто географической разобщенности двух стран и указывал царю на Габсбургов как естественных союзников в борьбе с Оттоманской империей, которая угрожала обоим государствам. Горсей утверждал потом, что голландцы ежегодно платили Щелкалову пять тысяч рублей.
Горсей о ситуации в России
Возвращение Горсея в Россию было многообещающим. Все поручения Годунова были успешно выполнены, королева тоже осталась довольна. В Москве Горсея ожидало качественно новое положение фаворита русского неофициального правителя. «Я выехал из Англии, хорошо снаряженный, с девятью добрыми купеческими кораблями, и благополучно прибыл в бухту св. Николая, затем добрался до Москвы, проехав 1200 миль, и явился к лорду-правителю, теперь сделавшемуся князем провинции Вага. Он радостно встретил меня и после длинной беседы повел задним ходом к царю, который, казалось, был рад моему возвращению, потчевал (pochivated) меня, развлекал, а затем отпустил. На следующий день князь-правитель прислал за мной и рассказал мне много странных происшествий и перемен, случившихся за время моего отсутствия в Москве. Я был огорчен, услышав о заговорах родственников царицы, матери царевича Дмитрия (Charivwich Demetrius) и отдельных князей, объединенных с ним [Борисом Годуновым] в регентстве (comission)[100 - В состав опекунского совета вошли бояре князь Иван Федорович Мстиславский, боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев, князь Иван Петрович Шуйский, а также служилые люди Богдан Яковлевич Бельский и Борис Федорович Годунов, хотя в духовной Ивана Грозного имя Годунова не значилось.] по воле старого царя, которых он, зная теперь свою силу и власть, не мог признавать как соперников. «Ты услышишь многое, но верь только тому, что я скажу тебе» [сказал мне князь-правитель]. С другой стороны, я слышал большой ропот от многих знатных людей. Обе стороны скрывали свою вражду, с большой осторожностью, осмотрительностью и дипломатией взвешивая свои возможности, это, однако, не могло хорошо кончиться ни для одной из этих сторон». Как представляется, Уолсингем и королева были немедленно проинформированы о начинающемся соперничестве различных придворных группировок.
Переписка Елизаветы с Годуновым
Переписка Елизаветы и Годунова в этот период омрачилась в связи с тем, что главный агент Московской компании Роберт Пикок в своей деятельности выходил за рамки чисто торговых операций. В одном из писем Годунов жаловался на то, что Пикок без дозволения отправляет гонцов в Вильну и в Варшаву «как бы лазутчиками» в то время, как война с Польшей не окончена. Купцы Московской компании, пользуясь льготным положением, платят по сравнению с другими иностранными компаниями половинную пошлину и при этом требуют вообще запретить другим иностранным купцам пользоваться северным маршрутом, открытым англичанами, сами привозят на своих кораблях купцов, которых выдают за англичан, торгуют не английскими товарами, да еще в розницу. В январе 1586 года царь Федор Иоаннович урезал английские привилегии. По новой грамоте Московской компании было запрещено выдавать за английские товары иного происхождения, а также вести розничную торговлю на территории английских подворий в Москве и других русских городах. Федор Иоаннович и его опекун Годунов явно не собирались оставаться «ласкателями» англичан, у них были самостоятельные планы.
Годунову стали также известны «проделки» самого Горсея. В 1587 году Горсей был отправлен вновь послом в Лондон. В письмах, которые он вез с собой королеве, содержались серьезные претензии в отношении его недобросовестной «коммерческой» деятельности, а также просьба никогда больше не направлять его в Россию. Его присутствие в Москве стало обременительным. Горсея в открытую называли шпионом, а его влияние при дворе настолько ослабло, что вопреки его хвастливым утверждениям о том, что в 1587 году ему удалось добиться восстановления привилегий Московской компании, положение английских купцов напротив ухудшилось.
Горсей тем не менее в том же 1587 году попытался тайно вернуться в Москву. На этот раз его путь пролегал сушей через Европу, где он совершил несколько остановок, в том числе в Варшаве и Вильне. По его утверждениям, в Варшаве, где его пребывание затянулось, он передал письма Елизаветы королю Сигизмунду I и решал коммерческие споры с польскими купцами, которые задолжали своим английским контрагентам. В Вильне, как он сам признался, у него не было поручений от королевы, но тем не менее он встретился с великим князем Радзивиллом. «Он принял меня, – записал позднее Горсей, – с почетом и пышностью, говорил, что хотя мне ничего не поручено передать ему от королевы Англии, но он столь высоко ценит, почитает и восхищается ее добродетелями, заслугами, что примет меня как ее посланника…».
Чем конкретно занимался Горсей в Варшаве и Вильне доподлинно неизвестно, но следует иметь в виду, что в обеих столицах концентрировались оппозиционные русскому царю силы. Неудивительно, что в Смоленске его арестовали. Он попытался въехать в Россию под чужой фамилией, что само по себе было серьезным преступлением, однако его узнали, задержали и препроводили в Москву и поселили под надзором, а по сути, под арестом в доме суздальского епископа.
Снова о деятельности Горсея в России
Горсей в своих воспоминаниях о завершающем этапе своей деятельности в России очень схематичен и концентрируется главным образом на торговых операциях. Можно понять, что в этот период он действовал в обход Московской компании, что было явным нарушением корпоративных правил, и в итоге закончилось, затеянным против него судебным процессом в Лондоне. Но Горсей ничем не рисковал, он явно рассчитывал на поддержку лорда-казначея Уильяма Сесила и Френсиса Уолсингема. Он не обманулся в своих ожиданиях. Суд его оправдал. Следует полагать, что ему зачли его достижения на другом, неторговом поприще.
Судя по воспоминаниям Горсея, он подробно информировал Уолсингема о политической борьбе, развернувшейся в России после смерти Ивана Грозного. Он сообщал о том, что в Москве сложилась серьезная оппозиция князю-протектору, но Годунов, на которого он, по всей видимости, уже не рассчитывал, умело маневрировал и опережал своих соперников. По сообщениям Горсея, Борис Федорович действовал осторожно, но быстро. Богдан Бельский, любимец Ивана Грозного был отправлен в Казань в ссылку «как опасный человек, сеявший смуту среди знати». Князь Иван Васильевич Шуйский, первый князь царской крови, пользовавшийся большим уважением, властью и силой, был главным соперником Бориса и открыто враждовал с ним. В 1586 году он попытался при поддержке митрополита Дионисия и других бояр развести царя Фёдора с Ириной Годуновой, но их попытка оказалась неудачной. Шуйский был обвинен в грубых нарушениях обычаев местничества при вынесении судебного решения в пользу своего родственника и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь. По дороге с ним случилось несчастье – он угорел в ямской избе. Иван Федорович Мстиславский, один из царских опекунов за участие в заговоре Шуйских и других бояр был сослан тоже в Кирилло-Белозерский монастырь, где и умер в 1586 году. Никита Романович Захарьин-Юрьев в августе 1584 года тяжело заболел и уже больше не принимал участия в государственных делах. В 1585 или 1586 году он тихо скончался, взяв с Годунова клятву «соблюдать» его детей и вверил ему попечение о своём семействе. Казначей Петр Иванович Головин потерял свое положение уже в декабре 1584 года. В казначейство была назначена проверка, которая обнаружила столь крупные хищения, что боярский суд вынужден был приговорить Головина к смерти. Только в последний момент Годунов отменил казнь – излишняя жестокость была ему ни к чему. По дороге в ссылку любимец Годунова пристав И.В. Воейков умертвил Головина. Младший брат Головина Михаил, не стал дожидаться расправы и бежал в Литву.
К Андрею Васильевичу Щелкалову, человеку низкого происхождения, достигшего своего положения умом и талантами, Годунов был весьма расположен и видел в нем своего союзника. Хотя он известен в основном как дьяк посольского приказа, на самом деле под его началом действовало несколько важных приказов, включая, разрядный, который ведал назначениями. В государственных делах ничего не делалось без его ведома. После смерти Ивана Грозного он стал самовольничать. Вместе с братом Василием они «искажали росписи родословных людей и влияли на местнический распорядок, составляя списки административных назначений». Борис Годунов много лет смотрел сквозь пальцы на проделки братьев, но в 1794 году Андрей все же был отправлен в ссылку, Василий опале не подвергся, но стал осторожнее.
Подобная судьба постигла многих, еще больше бежали в Литву и Польшу. «Я был огорчен, – писал Горсей, – увидев, какую ненависть возбудил в сердцах и во мнении большинства князь-правитель, которым его жестокости и лицемерие казались чрезмерными»[101 - В других изданиях воспоминаний Горсей отзывается о Годунове в превосходных степенях.]. В своей книге Горсей не пишет, что гонениям подверглась главным образом «польско-литовская партия», которая при прежнем царе даже не пыталась поднять голову. Однако Горсей, несомненно, понял, что польско-литовские кланы могли стать важной силой в Московии. Он активизировал контракты с Федором Никитичем Романовым, негласным главой «польской партии». Необходимо было выяснить планы и намерения «выезжан», а также бежавших в Польшу и Литву дворян. Скорее всего, именно ради этого он и заезжал в Варшаву и в Вильну перед своим негласным возвращением в Россию и арестом. Этот период своей деятельности он освещает скупо и несколько сумбурно. Касаясь своих отношений с Федором Романовым[102 - Захарьины-Юрьевы сменили фамилию на Романовы в дань уважения заслуг Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, отца первой жены Ивана Грозного Анастасии.], Горсей писал: «Старший сын его, видный молодой князь, двоюродный брат царя Федор Микитович (Feodor Mekitawich), подававший большие надежды (для него я написал латинскую грамматику, как смог, славянскими буквами, она доставила ему много удовольствия), был принужден жениться на служанке своей сестры, жены князя Бориса Черкасского (Knez Boris Shercascoie), от нее он имел сына, о котором многое услышите впоследствии. Вскоре после смерти своего отца <Романа Никитича Захарьина-Юрьева> он, опасный своей популярностью и славой, был пострижен в монахи и сделался молодым архиепископом Ростовским (Archbishop of Rostove). Его младший брат, Александр Микитович (Alexander Mekitawich), не менее сильный духом, чем он, не мог долее скрывать свой гнев: воспользовавшись случаем, он ранил князя-правителя, но не опасно, как задумывал, и бежал в Польшу, где вместе с Богданом Бельским, главным любимцем прежнего царя и сказочно богатым человеком, и с другими недовольными лицами как там [в Польше], так и дома задумывал заговор с целью не просто свергнуть Бориса Федоровича и всю его семью, но разрушить и погубить все государство, как вы и прочтете на этих страницах позднее».
Написанное Горсеем изобилует неточностями и фактическими ошибками, но в данной цитате присутствуют два важных намека. Во-первых, любопытно брошенное вскользь замечание Горсея о том, что он написал для Федора Никитича Романова латинскую грамматику славянскими буквами. Как указывают некоторые историки, в частности Л.Ю. Таймасова, под грамматикой или алфавитом в те времена понимали шифровальные книги или таблицы. Можно, следовательно, предположить, что отношения между Горсеем и Федором Романовым как минимум были доверительными и они замышляли какое-то общее дело, раз появилась необходимость вести шифрованную переписку. Во-вторых, Горсей прямо указывает на существовавший заговор. Хотя он явно путает события и их очередность – Александр Никитич Романов в тот период времени был одним из приближенных Бориса Годунова, в ссылку был отправлен только в 1601 году – но борьба за власть, несомненно, велась. Трудно предполагать, что конкретно замышлял Горсей, но очевидно, одно – планы заговорщиков его интересовали самым серьезным образом, если отказаться от мысли, что он сам был организатором заговора. Если же принять данное предположение, то следует признать, что Горсей вместе с Федором Романовым стоял у истоков русской смуты, целью которой стало устранение неудобного Годунова и основание новой династии. Подобное предположение отодвигает нижнюю границу временного диапазона Смутного времени до середины 1580-х годов и более того – делает версию о планировавшемся физическом устранении Ивана Васильевича с целью спровоцировать борьбу за русский престол еще более обоснованной. Именно эти аспекты деятельности Горсея в Москве, как представляется, стали основанием для серьезных претензий к Горсею со стороны Бориса Годунова. Именно поэтому Горсей был арестован после посещения Варшавы и Вильны, где он без сомнений встречался с бежавшими из Москвы заговорщиками. Жизнь Горсея висела на волоске. В это время в Москву прибыл очередной английский посол, Джайлс Флетчер.
Джайлс Флетчер и его книга
Джайлс Флетчер прибыл в Москву в ноябре 1588 года. Хотя он выступал в качестве посланника королевы Елизаветы к царю Федору Иоанновичу политические задачи перед ним не стояли, по крайней мере королева ничего не писала русскому царю по этому поводу[103 - Толстой Ю.В., там же, с. 291.]. Ему было поручено урегулировать конфликт с московским правительством по поводу частных долгов одного из агентов английской Московской торговой компании, сделанных от имени компании, поддержать ходатайство этой компании о восстановлении монополии на торговлю через северные русские порты, а также вновь разрешить английским купцам торговать через Казань и Астрахань с Бухарой и Персией. Главная же задача, которую королева поставила перед Флетчером, и о которой она писала царю Федору, состояла в освобождении Горсея и отправке его в Англию, чтобы «наши думные люди, чего он доведетца, то б над ним и сделали; а то ся добре дивимъ, что онъ дуракъ так сделалъ, и в той брани нечаемся, что он вашего пресв-ва ближнимъ людемъ много докуки чинилъ».
По словам Горсея, миссия Флетчера сразу же оказалась под угрозой. На первой же аудиенции у царя Флетчер вступил в пререкания о царском титуле, не пожелав прочитать его полностью. Подарки, присланные с Флетчером от королевы Елизаветы царю Фёдору Иоанновичу и Борису Годунову, были найдены неудовлетворительными. Флетчера приняли сухо, не пригласили к царскому столу и поручили вести с ним переговоры дьяку посольского приказа Андрею Щелкалову, известному своим предвзятым отношением к англичанам.
Впрочем, жалобы Горсея на то, что Миссия Флетчера окончилась неудачей неосновательны. По имеющимся записям Посольского приказа[104 - Бантыш-Каменский Н.Н., там же, с. 93], Флетчер привез с собой из Лондона «18 статей, способствующих к удобнейшей англичанам в России коммерции», и просил включить их в жалованную грамоту Московской компании. Пожелания его были исполнены, 22 апреля ему была выдана новая жалованная грамота с включенными в неё 18 статьями. Среди указанных статей вновь значилось право английских купцов платить половинную пошлину. Более того, было восстановлено право на плавание купцов Московской компании по Волге под охраной стрельцов и вести торговлю с прикаспийскими странами[105 - Толстой Ю.В. там же, с. 394.]. Щелкалов отказался предоставить Московской компании монополию на северную торговлю. Частные долги английских купцов были признаны долгами Московской компании и ей были предъявлены претензии. Вместе с тем Горсей был выдан Флетчеру с пожеланием никогда не присылать в Москву этого «плута». В мае Флетчер получил отпускные грамоты и вместе с Горсеем покинул Москву. По некоторым данным, он был выслан из России.
Полугодовое пребывание Флетчера в Москве оказалось плодотворным также с точки зрения «науки о России». Он собрал множество материалов и записал много рассказов. Особенно полезными для него оказались беседы с арестованным Горсеем, который много рассказал Флетчеру о России, которую хорошо узнал за почти 17 лет жизни в стране. Собранная информация легла в основу небольшой, но весьма информативной книги, которую Флетчер опубликовал в Лондоне в 1591 году под названием «Of the Russe Common Wealth» («О Русском Государстве»). Несмотря на небольшой объем[106 - В книге порядка 150 страниц.], книга на несколько десятилетий стала едва ли не основным источником сведений о России.
Книга разделена на 28 глав[107 - Очень похожих по структуре на книгу З. Герберштейна], которые последовательно сообщают сведения о географии страны, ее климате, почвах, крупнейших городах, устройстве государственной власти и судопроизводстве, управлении на местах, царской династии, порядках при царском дворе, основных сословиях и взаимоотношениях между ними, структуре церковных чинов, богослужебной практике, таинстве чина миропомазания, составе армии, порядке ее формирования и снабжения. Последняя 28 глава посвящена характеристике русской нации и обычаям русской обыденной жизни.
Особенность книги Флетчера состояла в том, что в целом достоверные факты излагались с точки зрения жесткой идеологической установки – представить московское царство в образе дикой, варварской страны, врага всего подлинно христианского мира. «Тираническая власть царя, писал Флетчер, копирует худшие обычаи турецких султанов. Царь обирает своих подданых, поощряет воровство и взяточничество, натравливает все сословия друг на друга и не останавливается перед массовыми бессудными казнями, поскольку ни писанных законов, ни нормальной судебной системы у русских нет. Рабский народ ленив, беспутен, неграмотен, предается поголовному пьянству». При этом Флетчер не останавливается перед откровенными измышлениями. Вот как он доказывал жестокость Ивана Грозного: «Чтобы показать власть свою над жизнью подданных, покойный царь Иван Васильевич во время прогулок или поездок приказывал рубить головы тем, которые попадались ему навстречу, если их лица ему не нравились или когда кто-нибудь неосторожно на него смотрел. Приказ исполнялся немедленно, и головы падали к ногам его». Рабское состояние, по его оценкам, распространялось не только на крестьян, но на все общество. Он, в частности, записал: «… царь Иван Васильевич, отец нынешнего царя, человек высокого ума и тонкий политик, желая более усилить свое самодержавие, начал постепенно лишать их <дворян> прежнего величия и прежней власти, чтобы наконец сделать их не только своими подчиненными, но даже холопами, то есть настоящими рабами, или крепостными». При этом Флетчера совсем не смущало то, что он смешивал старинное родовое боярство с новым служилым дворянством, которое противопоставлялось царем старинному боярству и выступало как главная опора трона.
Уже в десятой главе Флетчер делает вполне практические выводы: «Из всего сказанного здесь видно, как трудно изменить образ правления в России в настоящем ее положении. … Что же касается князей, управляющих под ними областями, то это люди важные только по названию, как было сказано выше, без всякой власти, силы и доверия, за исключением того значения, которым пользуются по своей должности, пока ее занимают. Но и здесь приобретают они не любовь, а, напротив, ненависть народа, который видит, что они поставлены над ним не столько для того, чтобы оказывать ему справедливость и правосудие, сколько с тем, чтобы угнетать его самым жалким образом и снимать с него шерсть не один раз в год, как каждый владелец со своей овцы, а, напротив, стричь его в продолжение всего года. Кроме того, власть и права их раздроблены на множество мелких частей, потому что в каждой большой области их находится по нескольку человек, и притом время, на которое они назначаются, весьма ограничено. Таким образом, им невозможно сколько бы то ни было усилиться или привести в исполнение какое-либо предприятие в этом роде, если бы они даже возымели счастливое намерение сделать что-нибудь новое. Что касается простого народа, как будет видно лучше из описания его состояния и свойств, излагаемых ниже, то кроме недостатка в оружии и неопытности в ратном деле, от которого удаляют его намеренно, у него беспрестанно отнимают и бодрость духа, и деньги (кроме других способов) иногда под предлогом какого-нибудь предприятия для общественного благосостояния, а иногда вовсе даже не ссылаясь ни на какую потребность в пользу государства или царя. Итак, ни дворянство, ни простой народ не имеют возможности отважиться на какое-нибудь нововведение до тех пор, пока войско, которого число простирается, по крайней мере, до 80 000 человек, получающих постоянное жалованье, будет единодушно и беспрекословно подчинено царю и настоящему порядку вещей, а оно, очевидно, должно быть усердно к своей должности, как по самим свойствам солдат, так и потому, что они пользуются всюду полной свободой обижать и грабить простой народ по своему произволу, что им нарочно дозволено для того, чтобы им нравилось настоящее положение дел. Заговора между войском и простым народом опасаться также нельзя, потому что цели их слишком различны и противоположны. Это безнадежное состояние вещей внутри государства заставляет народ большей частью желать вторжения какой-нибудь внешней державы, которое, по мнению его, одно только может его избавить от тяжкого ига такого тиранского правления».
Написанного достаточно, чтобы прийти к выводу о том, что миссия Флетчера была отнюдь не так проста и безобидна, как могло бы показаться на основании его полномочий и официально заявленных целей. Он ехал в Москву с очевидной задачей: проверить на месте информацию Горсея о подготовке заговора с участием недовольных бояр во главе с Федором Романовым и бежавшими из России литовско-польскими шляхтичами, степени прочности положения царя и регента, надежности войска и его способности противостоять внутренней смуте и «вторжению какой-нибудь внешней державы». Как представляется, он хотел познакомиться и с Федором Никитичем Романовым и оценить его потенциал как политика, а также готовность учитывать интересы Англии. Следует заметить, что подобные «инспекционные поездки» стали нормой английского подхода к организации, выражаясь современным языком, «цветных революций». Можно лишь догадываться о том, каковы были оценки и выводы английского посла, которые он собирался представить королеве, В принципиальном плане все силы для выступления были налицо: внутренняя оппозиция, сильный отряд шотландцев в непосредственной близости от Москвы, внешняя сила, готовая к вторжению из Литвы и Польши. Готовность войска защищать трон оставалась фактором неопределенности, но в условиях наличия многочисленных кланов в среде боярства и дворянства, можно было рассчитывать на то, что власть не сможет удержать единоначалия над войском, оно тоже распадется на части, поддерживающие разные группы недовольных. По сути, в России назревал гражданский конфликт с возможностью распада централизованного государства. В подобных условиях в Лондоне следовало задуматься о том, чтобы силой оружия установить контроль над частью русской территории, представляющей особый интерес для английского купечества. Подобные догадки могут показаться необоснованными и даже фантастическими, однако через несколько лет в условиях начавшейся в России Смуты они найдут документальное подтверждение.
В мае 1589 года Флетчера, а вместе с ним Горсея, выслали из Москвы. Возможно, эта предосторожность предотвратила тогда выступление оппозиции, но Годунов не вырвал корень смуты. Россия всего лишь получила отсрочку.
Когда книга Флетчера увидела свет, руководство Московской компании всполошилось. Были весомые основания опасаться возможных последствий для всех английских купцов, торговавших с Россией, в случае появления провокационного сочинения в Москве. По просьбе английских купцов Уильям Сессил, лорд Бёрли, всесильный государственный секретарь королевы, запретил книгу и приказал изъять все ее экземпляры. В частные руки попали всего несколько книг, по которым впоследствии сочинение Флетчера о России многократно переиздавалось.
Книга английского посла, стала еще одним, но вероятно наиболее разработанным на тот момент идеологическим обоснованием права Англии на «исправление» русской династии, доказательством дикости и варварства русских и допустимости применения к ним как «нехристианскому» народу любых мер во имя процветания достойных наций, к которым, по оценке Флетчера, прежде всего следует отнести англичан. Судя по всему, именно в период совместного ожидания отправки в Англию у Флетчера и Горсея сложился тот подход, который на многие столетия определил характер англо-русских отношений. Более того, книга Флетчера стала ценным руководством для английских специальных служб – это был не первый, но весьма глубокий анализ внутренних слабостей русского государства и его общественного устройства, однако пока на троне оставался законный царь Федор Иоаннович, а при нем в роли лорда-хранителя, а по сути соправителя – Борис Федорович Годунов, все слабости теряли значение. У России оставался шанс на самостоятельное и поступательное развитие. Помимо субъективных причин для этого были и объективные предпосылки.