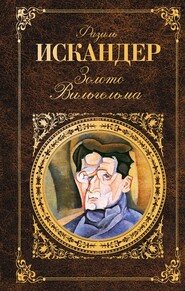скачать книгу бесплатно
Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.
– Будем вызывать по списку, – сказал Харлампий Диогенович, – потому что здесь сплошные герои.
Он раскрыл журнал.
– Авдеенко, – сказал Харлампий Диогенович и поднял голову.
Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.
Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол.
Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.
Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.
Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.
– Отвернись и не смотри, – говорил я ему.
– Я не могу отвернуться, – отвечал он затравленным шепотом.
– Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, – подготавливал я его.
– Я худой, – шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, – мне будет очень больно.
– Ничего, – отвечал я, – лишь бы в кость не попала иголка.
– У меня одни кости, – отчаянно шептал он, – обязательно попадут.
– А ты расслабься, – говорил я ему, похлопывая его по спине, – тогда не попадут.
Спина его от напряжения была твердая, как доска.
– Я и так слабый, – отвечал он, ничего не понимая, – я малокровный.
– Худые не бывают малокровными, – строго возразил я ему. – Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.
У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.
К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.
Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.
После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.
– «Скорую помощь»! – закричал я. – Побегу позвоню!
Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.
Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.
– Даже не почувствовал, – сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.
– Молодец, малярик, – сказала докторша.
Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».
– Еще потрите, – сказал я, – надо, чтобы лекарство разошлось.
Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.
Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный – лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.
– Откройте окно, – сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.
Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.
– Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, – сказал он и остановился. Щелк, щелк – перебрал он две бусины справа налево. – Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, – добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.
«Смотри, чего захотел», – подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалящую мифологию, может быть, и можно подправлять, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.
– Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, – продолжал Харлампий Диогенович, – и это ему отчасти удалось.
Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.
– Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости… – Харлампий Диогенович задумался и прибавил: – Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг…
Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.
Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.
– …Мне кажется, я догадываюсь, – проговорил он и посмотрел на меня.
Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху влепилось в спину.
– Прошу вас, – сказал он и жестом пригласил меня к доске.
– Меня? – переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.
– Да, именно вас, бесстрашный малярик, – сказал он.
Я поплелся к доске.
– Расскажите, как вы решили задачу, – спросил он спокойно, и – щелк, щелк – две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.
Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.
Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.
– Мы вас слушаем, – сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня.
– Артиллерийский снаряд, – сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.
– Дальше, – проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выждав.
– Артиллерийский снаряд, – повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.
– Артиллерийский снаряд, – повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.
В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.
– Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? – спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством.
Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.
– Да, – быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.
– Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, – сказал Харлампий Диогенович, но класс уже и так смеялся.
Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который, хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.
Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружились во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.
Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.
С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.
Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.
Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.
Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.
Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.
Время по часам
Теперь поговорим о времени.
Но прежде чем говорить о времени историческом, я должен сказать, что у меня со временем обычным сложились в свое время сложные, запутанные взаимоотношения. Вернее, не со временем, а с часами.
Как это ни стыдно (в сущности, сейчас это не стыдно, тогда было стыдно), должен признаться, что, научившись читать еще до школы, я уже в школьные годы ухитрился пронести, по крайней мере в течение трех лет, полное непонимание того, что происходит на циферблате.
Вернее, было понимание общего направления времени, то есть я догадывался, что если стрелка часов приближается к цифре двенадцать, то она неожиданно назад не пойдет, а будет пересекать эту цифру и идти дальше. Примерно я даже мог определить, насколько она приблизилась к такому-то часу, но точно сказать не мог.
Кроме того, я понимал, что если большая стрелка находится на правой половине циферблата, то будут говорить, что сейчас столько-то минут такого-то, а если на левой половине – то будут говорить без стольких-то минут столько-то. И еще я знал, что если обе стрелки сошлись на двенадцати, то, значит, так оно и есть – ровно двенадцать часов. В сущности, это последнее знание даже как-то мешало, тормозило угадывание механики общей картины жизни циферблата, было непонятно, почему такое исключение для двенадцати часов.
Могут подумать, что я кокетничаю тупостью. Но, во-первых, чтобы кокетничать тупостью, тоже немало смелости надо иметь, а во-вторых, признание в тупости есть все-таки хотя бы частичное ее одоление. Но дело в том, что я и в самом деле не мог определить время по часам, хотя по возрасту должен был это уметь, и некоторые терзания по этому поводу оставили след в моей памяти, который я теперь и воспроизвожу.
Просто так получилось, что вовремя мне никто не показал, как узнается время по часам, а потом все были уверены, что я это и так знаю, а мне уже было стыдно спросить.
В нашем дворе часов в доме ни у кого не было. Некоторые мужчины имели часы, но они носили их на руке или в кармане, как мой отец. И те и другие с утра уходили из дому со своими часами. Двор же, насколько я помню, со всеми своими обитателями, то есть женщинами, детьми, моим сумасшедшим дядей (отношение его ко времени так и не удалось установить), собаками, кошками, курами, не испытывал ни малейшей нужды иметь при себе свое точное время.
В хорошие дни женщины ориентировались по солнцу, а в остальное время по пароходным гудкам. Пароходы шли из Одессы в Батуми и обратно, попутно заходя в наш порт.
Пароходные гудки почему-то вызывали у Богатого Портного иногда добродушные, иногда ворчливые, иногда насмешливые, иногда раздраженные, но всегда осуждающие замечания.
– Этот пароход тоже так гудит, как будто мне золото привез, – говорил он с усмешкой, кивая в сторону порта, как бы обращая внимание на глупость самой идеи гудка. Что значит «тоже»? Частица эта казалась особенно бессмысленной и потому смешной.
В сущности говоря, сейчас анализ этой фразы мог бы раскрыть бесконечное богатство ее содержания. Опять же эта частица. Формально получается, что пароход тоже надоел, как надоели ему другие бессмысленно гудящие явления жизни. Но никаких других гудящих явлений жизни поблизости от Богатого Портного явно не было, следовательно, эта частица своей уместной неуместностью отсылает нас к более отдаленному смыслу. И мы его поймем, если снова прислушаемся к фразе в целом.
– Этот пароход, – стало быть, говорил Богатый Портной, – тоже так гудит, как будто бы мне золото привез.
Охватывая фразу в целом, мы нащупываем ее главную тему, а именно: «Я и пароход». Оказывается, эта тема внутри этой фразы в сжатом виде заключает в себе целый сюжет. По-видимому, кем-то было обещано, что однажды пароход, который гудком, чтобы Богатый Портной его услышал в любой точке города, известит о своем приходе, привезет ему золото. Но он уже давно знает, что никакого золота этот гудящий пароход не привезет. Более того, еще до парохода было немало других движущихся сооружений, которые тоже о своем приближении извещали гудками и тоже обещали привезти ему золото. Но оказалось, что все они морочили голову, и у него теперь нет ни малейшего желания слушать эти гудки и ждать это фантастическое золото. И конечный вывод: нечего надеяться на какой-то пароход, который якобы привезет тебе золото, а надо надеяться на самого себя, что он, Богатый Портной, и делает.
Другие его восклицания по поводу пароходного гудка были, можно сказать, дочерними предприятиями той же темы. Так, например, в ответ на гудок он иногда замечал:
– Сейчас, сейчас прибегу с чемоданом.
То есть не в том смысле, что он собирается уехать с чемоданом на прибывшем пароходе, а в том, что он якобы поспешит с чемоданом для получения причитающегося ему золота или бриллианта, как он иногда говорил.
С пароходными гудками по-настоящему был связан только дядя Алихан, потому что он продавал жареные каштаны пассажирам пароходов, идущих из Одессы. Они хорошо брали наши каштаны, может быть, потому, что Одесса богата несъедобными конскими каштанами, которые развивают в одесситах тоску по съедобным каштанам. Возможно, они набрасывались на наши каштаны из ревнивой любознательности – вот, мол, тоже каштаны, а дают съедобные плоды, не то что наши дармоеды.
Иногда пароход из-за штормовой погоды опаздывал, и Алихан, принарядившись, с готовой корзиной ждал гудка у своего порога. Ожидание его нередко сопровождалось шутками Богатого Портного в том духе, что, мол, пропал теперь Алихан, что, мол, по радио сообщили, что рейс отменяется, и тому подобное.
Алихан на эти шутки никогда не отвечал, а солидно стоял возле своей корзины, прикрывая ее, чтобы сохранить тепло, мешковиной, а то и старым одеялом. Как только раздавался гудок, он сбрасывал это тряпье и, бодро ухватив корзину, отправлялся в путь.
Женщины нашего двора в то время в основном все-таки ориентировались по солнцу.
– Где солнце, а я еще на базар не ходила! – вдруг спохватывалась какая-нибудь из них.
– Где солнце, а где ты?! – раздражалась другая, увидев во дворе свою запаздывающую подругу.
В четвертом классе, когда нас неожиданно перевели во вторую смену, у меня начался разлад со временем. Сначала я приспособился определять его по солнцу! Я заметил, что, когда тень от края крыши соседского дома, попавшая на стену, покрытую в верхней своей части двумя рядами листового железа, проходит первый ряд, самое время идти в школу. Так длилось с неделю, а потом с неделю была пасмурная погода, шли дожди и мне приходилось выглядывать из окна на улицу, пытаясь узнать время у прохожих, что было не всегда удобно. Потом погода опять улучшилась, и я, дождавшись, когда тень от солнца покрыла верхний пояс листового железа, отправился в школу и опоздал.
Я был не только огорчен, но и изумлен этим астрономическим коварством. Разумеется, я понимал, что солнце на небе в зависимости от времени года подымается выше или ниже и от этого тень может менять свою длину, но я был уверен, что все это происходит в течение нескольких месяцев. А тут всего неделя, ну, от силы дней десять прошло, но никак не больше.
Было впечатление чуда, словно я поймал природу за сменой вывески, словно зеленый летний лист на моих глазах слегка пожелтел по краям. Кстати, в ответ на мой рассказ об этом бабушка сказала, что точно так же она была поражена, когда однажды в девичестве у нее была бессонница и она заметила, что звездочка, светившая в ее окно, за ночь заметно переместилась. До этого она считала, что на небе днем движется солнце, а ночью луна, а то, что и звезды передвигаются, она и понятия не имела, как простая деревенская девушка. Правда, сказала она, это было давно, а то, что сейчас делается на небесах, она не знает. Я из этого ее замечания заключил, что бабушка со времен девичества не знала бессонницы.
Открытие мое (насчет солнца, а не бабушкиных звезд) хотя меня и поразило, но не обескуражило. Я стал приспосабливаться к длине тени, довольно правильно угадывая время, когда надо было идти в школу.
Глядя на этот пояс из листового железа, я мысленно набавлял чуть-чуть тени, и получалось довольно правильно. Кстати говоря, ржавчина на этих железных листах расползалась в самые причудливые рисунки, напоминающие то географическую карту, то сражения каких-то мифологических существ, то еще что-то.
Однажды на одном из квадратов, как в раме, я отчетливо увидел известный портрет Ленина, читающего газету «Правда». Ну, разумеется, в отличие от подлинника и его репродукции на этом творении природы нельзя было догадаться, что это именно газета «Правда», но в остальном было удивительное сходство, особенно этот лобастый, как бы таранящий наклон головы.
Интересно отметить, что потом с годами многие рисунки, которые я угадывал на этих железных листах, то ли под влиянием погоды, то ли возраста, а скорее всего и того и другого, менялись. Так, однажды, уже кончая школу, на одном из листов я заметил смутный, но совершенно прелестный силуэт уходящей девушки. Особенное удовольствие доставляла живая теплота и необыкновенная точность движения ноги, еще не шагнувшей (нельзя же сказать, задней ноги? или можно?), но уже расслабленно приподнятой, в мгновение отделения ее от земли. Мне кажется, впоследствии произведения живописи редко доставляли мне такое удовольствие. Я думаю, тут дело в сочетании точности с таинственностью, дело во включенности нашего воображения. Из хаоса каких-то цветовых пятен мы извлекли какой-то рисунок, то есть какой-то смысл. Прелесть его еще в том, что он не только вызван к жизни некоторыми усилиями воображения, но и удерживается за счет воображения и, главное, дорисовывается за счет того же воображения.
Здесь два главных момента следует отметить, скажем мы голосом лектора. Первое – это то, что, видимо, в самой природе человека заложена склонность извлекать смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати, отчасти в этом, вероятно, удовольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть отчасти как бы создать ее.