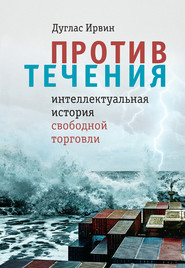скачать книгу бесплатно
Пуфендорф добавляет: «И все же, в отношении этого утверждения можно сделать множество оговорок». Страна не обязана вести торговлю предметами роскоши и другими товарами, не являющимися совершенно необходимыми для поддержания человеческой жизни, и она может запретить вывоз товаров первой необходимости, если в стране имеет место их нехватка или «если [местное] сообщество будет процветать, запретив вывоз этих товаров». Препятствия торговле правомерны, «если вследствие торговли наша страна может лишиться значительной выгоды или понести какой-либо косвенный ущерб». Согласно Пуфендорфу, страна вправе ограничивать вывоз лошадей элитных пород, с тем чтобы предотвратить их разведение за рубежом, а также вправе отдавать предпочтение собственным гражданам по сравнению с иностранцами, когда речь идет о налогообложении товаров. Ввоз товаров может быть не просто обложен налогом, но прямо запрещен – «либо потому, что государство может нести определенный убыток вследствие ввоза этих товаров, либо для того, чтобы поощрить наших собственных граждан к участию в растущих промышленных предприятиях, либо для того, чтобы предотвратить попадание наших богатств в руки иностранцев».
Сделав столько исключений, Пуфендорф почти полностью разрушил аргументацию в пользу свободы торговли, основанную на праве народов. С этого момента космополитизм, отличавший ранних теоретиков естественных прав, был по большей части отброшен, и на смену ему пришла поддержка правовых норм, утверждавших независимый суверенитет нации-государства в отношении его права ограничивать торговлю. Два знаменитых автора XVIII века, писавшие о естественных правах, сформулировали новые аргументы в поддержку точки зрения, согласно которой ограничения, накладываемые государством на торговые операции, не нарушают ни естественное право, ни право народов. Эмер (или Эммануэль) де Ваттель утверждает: «Когда правители хотят изменить торговые потоки, не желая, однако, прибегать к прямой силе, они облагают товары, которые они не хотели бы пускать в страну, такими пошлинами, которые отбивают охоту к их потреблению. <…> Эта мера является мудрой и справедливой… ведь любое Государство может решать, на каких условиях оно будет получать иностранные товары, и оно может даже решить не получать их вовсе» [Emmanuel de Vattel (1758), 1916, 43]. Христиан Вольф также указывал, что «поскольку никакая страна не имеет права продавать другой стране свои товары без ее согласия, то если какая-либо страна не хочет, чтобы определенные иностранные товары попадали на ее территорию, то в этом нет ничего незаконного в отношении страны, откуда ввозятся эти товары, следовательно, если ввоз иностранных товаров и их продажа будут запрещены, то жалобы со стороны иностранцев на такое запрещение будут не обоснованны (см. [Wolf (1764), 1934, 38])[35 - Вольф очевидно противоречит сам себе, когда ниже пишет: «Поскольку страны по своей природе должны торговать друг с другом, пока и если это в их власти, и поскольку ни одна страна не может запретить или помешать другой стране заниматься торговлей с любой другой страной, то согласно законам природы свобода торговли между странами должна оставаться нестесненной, насколько это возможно (см. [Wolf, 1934, p. 107]).].
Эти утверждения коренным образом противоречат более ранним доктринам естественного права, сформулированным Гроцием и другими авторами. Небольшое изменение состоит в том, что право любой страны заниматься торговлей было трансформировано в право всех стран регулировать свою собственную торговлю. Этот сдвиг привел к тому, что появилась возможность практически любую протекционистскую меру интерпретировать как оправданную на тех или иных основаниях. Космополитический характер доктрины вселенской экономики, выдвинутой ранними адептами теории естественного права, перестал играть заметную роль в системе воззрений на международную торговлю. Вне зависимости от причин, лежавших в основании этого интеллектуального сдвига (одним из факторов этого сдвига могло быть возникновение национализма), право народов оказалось слишком бесхребетной доктриной, неспособной выдвинуть набор последовательных аргументов в пользу свободы торговли.
* * *
Этот беглый очерк доктрин торговой политики, относящихся к эпохам, предшествовавшим меркантилизму, по необходимости получился несколько поверхностным, отчасти потому, что из всего написанного о политике, которую государство должно проводить в сфере международной торговли, ранее XVII в. написано очень мало работ, которые заслуживали бы внимания. По сравнению с этическими и другими подобными проблемами вопросы экономической теории считались периферийными. То, что было написано тогда об экономике, касалось прежде всего таких вопросов, как ценность, цена, ростовщичество, но не международная торговля. У древнегреческих и римских авторов мы находим фрагменты, посвященные разделению труда, но интерес этих авторов всегда был направлен на что-то иное. Схоластов интересовали преимущественно этические аспекты экономической деятельности и выведение кодексов рыночного поведения из божественных законов. Адепты теории естественного закона (natural law) пытались создать объективные моральные стандарты, которые были бы согласованы с законами природы. Некоторый интерес представляет использование Гроцием и другими авторами понятия естественного права (natural right) в качестве общей предпосылки, позволяющей обосновывать свободу торговли, однако с точки зрения экономической теории это понятие, как заметил Йозеф Шумпетер, «совершенно лишено научного значения» [Schumpeter, 1954, 371; Шумпетер, 2001, 488]). Несмотря на все перечисленное, космополитические доктрины некоторых схоластов и мыслителей, разрабатывавших доктрину естественного права, стали интеллектуальным наследством, полученным теми, кто писал о торговой политике позднее, так что от Аристотеля через Фому Аквинского, а от него к де Витория и к правоведам, работавшим с концепцией естественного права, а затем и к шотландским моральным философам, таким как Фрэнсис Хатчесон и Адам Смит, протянулась непрерывная нить интеллектуальной преемственности. Однако прежде чем мы перейдем к последнему из указанных узлов этой нити, мы должны критически разобрать работы множества меркантилистов, ускоряющийся поток работ которых был характерен для всего XVII столетия.
Глава 2
Английский меркантилизм
В те же годы, когда философы, сосредоточенные на доктрине естественного права, сочиняли свои объемистые трактаты, в Англии процветал такой литературный жанр, как памфлет (памфлетами называли журнальные статьи, а также статьи, публикуемые в виде отдельных брошюр), посвященные торговле. Несмотря на то что они касались самых разных вопросов торговой политики и проблем торговой практики, они получили общее название «меркантилистских» – поскольку соответствующие темы были характерные для этого огромного и разнородного потока литературы. Большинство авторов призывали к государственному регулированию торговли, имея в виду достижение тех или иных целей, таких как, например, «накопление денежного металла (золотых слитков), стимулирование развития национальной экономики (или, иначе, экономического роста), обеспечение благоприятного торгового баланса, максимизация занятости, защита определенных отраслей национальной промышленности или рост мощи государства»[36 - См. [Coats, 1992, 46], где разобраны многие стереотипы и недоразумения, которые во многих случаях ответственны за неверные оценки меркантилистской литературы.]. Выводы о необходимости государственного надзора за международной торговлей, а то и ее ограничения, во многих отношениях не отличались от аналогичных выводов, сформулированных в более ранние времена, в рамках античной и средневековой традиций. Однако аргументация, с помощью которой авторы-меркантилисты обосновывали свои умозаключения, отличалась от аргументации ранних эпох, будучи более развитой и продуманной. Более того, доктрины меркантилистов не только составили целую эпоху в истории экономической мысли, но и образовали ту среду, из которой выросли теории свободы торговли.
* * *
XVII столетие стало периодом публикации бесчисленных трактатов по широкому спектру экономических вопросов (в частности, по вопросам международной торговли), написанных английскими купцами, государственными чиновниками и другими авторами. Огромные успехи географических открытий и невероятное развитие торговли в этом столетии вызвали к жизни великое множество попыток, которые, несмотря на то что зачастую они были несовершенными и неполными, склоняли правительства к проведению той или иной экономической политики или ставили своей целью понять и объяснить суть внешней торговли и ее взаимосвязь с такими экономическими явлениями, как занятость, деньги и кредит, иммиграция, судоходство и колонии. Мы уделим здесь главное внимание тому, как именно описывали торговлю авторы XVII–XVIII вв., и тому, как эти описания влияли на их выводы относительно торговой политики, в частности на их рекомендации в области импортных пошлин[37 - Английская литература XVII в., посвященная экономическим вопросам, слишком обширна, чтобы ограничиться ее кратким обзором, который необходим для наших целей. Общие обзоры меркантилистской экономической литературы см. в [Appleby, 1978], [Hutchison, 1988], [Magnusson, 1994]. Обзоры литературы, посвященной торговле, см. в [Viner, 1936, 1—118], [Wu, 1993, 13–74] и в [Schumpeter, 1954, 335–376; Шумпетер, 2001, 440–494].]. Мы ограничимся здесь только английской литературой, хотя в ту эпоху аналогичные идеи высказывались в литературе и других стран Европы[38 - Различным аспектам европейской меркантилистской экономической мысли посвящены следующие работы: о французской литературе – [Cole, 1931], о шведской – [Magnusson, 1987], об испанской – [Grice-Hutchison, 1978].].
Упомянутый выше расцвет меркантилистской литературы был подготовлен теми немногими работами, опубликованными в Англии в XVI в., которые можно отнести к зарождавшейся литературе по экономической теории. Эти статьи и книги были написаны не теологами и не теми, кто занимался философией права, а людьми, проявлявшими интерес к общественно-политическим вопросам. Соответственно, когда в этих работах обсуждались экономика, то их авторы касались не моральных проблем, но фокусировались скорее на практических вопросах, нежели на этических или правовых. Впервые в истории предметом интереса стали экономические явления как таковые (в том числе и в их связи с экономической политикой), а не в качестве побочного продукта размышлений об этических, моральных или правовых проблемах. Немногочисленные работы XVI в., посвященные экономике, касались прежде всего таких явлений, как ростовщичество, распределение земли и процесс огораживания, хотя к концу этого столетия проблемы торговой политики начали приобретать все большую значимость.
Первым заслуживающим упоминания трактатом того периода стало «Рассуждение о Содружестве под владычеством Английского Королевства» («A Discourse of the Commonwealth of this Realm of England»), автором которого считается сэр Томас Смит. Оно было написано около 1549 г., но опубликовано лишь в 1581 г., и на протяжении следующего, XVII столетия несколько раз переиздавалось. Как и некоторые другие его предшественники, Томас Смит признавал, что обойтись без торговли невозможно: «И хотя Господь наш щедр к нам, ниспосылая нам множество прекрасных изделий, однако мы все же не можем существовать без изделий других» [Smith (1581), 1969, 62ff]. Доктрина вселенской экономики в новой интерпретации предстала в виде идеи руки Провидения, создающей условия для того, чтобы торговля стала возможной не только с тем чтобы потреблять широчайший спектр товаров, но и для того, чтобы поощрять торговую деятельность как способ распределения рисков: «Господь установил, что никакая страна не может иметь все товары, но что если у какой страны имеется их нехватка, то их производит другая страна, и если эта страна испытывает их нехватку в данном году, то в другой стране в том же самом году имеется их изобилие; и все это чтобы внимающие Господу люди могли понять, что они нуждаются в помощи друг друга». Несмотря на то что Томас Смит придерживался доктрины благоприятного торгового баланса («мы должны все время обращать внимание на то, чтобы покупать у иностранцев не больше, чем на ту сумму, на которую мы продаем им, поскольку иначе мы будем делать себя более бедными, а их обогащать»), он также понимал со всей ясностью, что экспорт и импорт взаимозависимы: «Если мы станем оставлять у себя значительную часть наших изделий, мы должны будем отказаться от приобретения многих иных вещей, которые в настоящее время мы получаем из-за рубежа». У него можно обнаружить также признание того, что мировые цены (т. е. цены, по которым ведется международная торговля) играют роль альтернативных издержек для отдельной страны: «Однако, поскольку мы должны нуждаться в других, а они в нас, мы должны изготавливать наши изделия не в соответствии с нашими фантазиями, но следуя тому, что указывает общий рынок в масштабах всего мира, и будучи не в состоянии устанавливать цену изделий по нашей прихоти, мы должны следовать цене вселенского рынка всего мира».
Хотя Томас Смит и признавал наличие выгод, доставляемых торговлей, он был сторонником протекционизма, т. е. политики защиты внутренних производителей, и ратовал за обложение импорта ввозимых из-за рубежа предметов роскоши. Особенно резко он критиковал практику вывоза материалов и сырья, их переработки за рубежом и последующего ввоза готовых изделий. «Они обрабатывают наши же продукты и присылают их нам обратно; тем самым они и обеспечивают занятость своим людям, и увозят из нашего королевства значительную часть наших денежных запасов». Томас Смит полагал, что «для нас было бы лучше платить больше нашим людям за изготовление этих же изделий, чем платить меньше, но чужестранцам», и предлагал либо запретить импорт таких товаров, либо поднять на них пошлины до такого уровня, при котором аналогичные товары, изготовленные в стране, станут дешевле импортных. По его мысли, в результате «наши люди будут обеспечены работой, получая то, что сейчас мы уплачиваем чужестранцам, таможня будет отчуждать в пользу короля все, полученное от них, так что все очевидные выгоды от этого будут оставаться в королевстве». Томас Смит также осуждал «безделушки… на которые мы либо ежегодно тратим часть наших денежных запасов, либо отдаем за них существенные количества товаров и предметов, действительно необходимых, за которые мы могли бы выручить много денег». Об этих импортных вещах, не являющихся необходимыми, он писал, что это – вещи, «которые привозят сюда из заморских стран и от которых мы могли бы либо спокойно отказаться либо производить их сами в пределах нашего королевства».
Как и в случае другого Смита, Адама, ставшего знаменитым в 1776 г., темы, обсуждавшиеся Томасом Смитом, и сформулированные им выводы задали тон экономической литературе на последующие двести лет. Так, двумя главными пунктами меркантилистской платформы стали поддержание благоприятного торгового баланса и промышленная переработка сырья внутри страны. Обязательными элементами меркантилистской программы стали также критика импорта предметов роскоши и повышенное внимание к проблеме занятости в отраслях, производящих товары, которые конкурируют с импортными. В некотором смысле в последующие два века меркантилистские авторы просто-напросто повторяли и уточняли темы, поднятые (но необязательно открытые) Томасом Смитом в середине XVI в.[39 - См., например, работу [Price, 1906] в которой следы озабоченности англичан проблемами торгового баланса прослеживаются вплоть до XIV столетия.]
В начале XVII в. английские авторы стали рассматривать торговлю в более широком контексте, который в нескольких фундаментальных аспектах отличался от идей схоластов и философов, разрабатывавших идею естественного права[40 - Сопоставление экономической мысли схоластов и меркантилистов проведено в [Roover, de, 1955].]. Меркантилистский подход к торговле сформировался под влиянием двух характерных особенностей того времени – грандиозного расширения мировой торговли и географических открытий, которые привели к возникновению новых регионов для организации колоний, во-первых, и формирования наций-государств в качестве новых политических образований, во-вторых. Первое явление открыло гигантские возможности, которые купеческий класс использовал в своих интересах и в интересах своих стран. В результате подозрительное отношение к купцам и презрение к коммерческой деятельности сменились признанием роли торговцев и торговли, а их вклад в богатство страны перестал недооцениваться. Меркантилисты восхваляли торговцев за то, что они служат процветанию страны, и превозносили торговлю, видя в ней средство, с помощью которого страна может обрести благоденствие и богатство. Купечество часто прославлялось как передовой отряд, ведущий страну по пути процветания и безопасности. Томас Мен говорил о «благородстве этой профессии» [Mun, 1664, 3], имея в виду купцов, а Томас Миллес писал, что «из всех людей именно купцам нужно оказывать содействие, заботливо выращивать и поощрять во всех общинах страны» [Milles, 1599, [19]].
Более благоприятное отношение к купцам возникло не просто оттого, что авторы сами часто были купцами, чьи убеждения диктовались их собственными интересами, но оттого, что расширение мировой торговли и географические открытия сулили увеличение богатства и процветание странам, где жили авторы, превозносившие торговцев и торговлю[41 - Хотя Джейкоб Вайнер и отмечал, что «меркантилистская литература состоит преимущественно из сочинений, являющихся полностью или частично, явно или скрыто, но оправданием особых экономических интересов» (см. [Viner, 1937, p. 59]), однако по здравому размышлению эти работы невозможно признавать априори непригодными по критерию качества содержащихся в них теорий.]. Вероятно, по мнению священников и моралистов, внимание к проблемам экономического богатства и экономического роста не было наиболее похвальной чертой этих работ, однако для светских авторов такая нацеленность была, естественно, весьма притягательной. В отличие от мыслителей древности, стремившихся отговорить читателя от занятий торговлей, меркантилисты выражали неподдельный энтузиазм по отношению к политике поощрения купцов и расширения торговли (либо, наоборот, они стремились не допустить спада торговли) – в направлениях, задаваемых государством. Ранние меркантилисты бывали настолько не сдержанны в своем желании лицезреть расцвет торговых операций, что, казалось, они преувеличивают их значимость для экономического процветания страны. О международной торговле писали, что она является «единственным средством сделать данное королевство богатым» и «краеугольным камнем процветания королевства»[42 - См. [Coke, 1670, 4] и [Mun, 1621, 1].]. Говорилось, что «величие нашего королевства зависит от внешней торговли», а экспорт полагался «краеугольным камнем, на котором покоится богатство Англии, и пульсом, по которому можно определить здоровье королевства»[43 - См. [Child, 1693, 135] и [Petty, 1690, 51].].
В отличие от этой, часто завышенной оценки внешней торговли, меркантилисты зачастую занижали важность той роли, которую для экономики играет торговля внутренняя. Томас Мен указывал, что «Если мы совершаем обмен между собой, общество не может от этого стать богаче, поскольку выгода одного есть убыток для другого» [Mun, 1664, 127]. Он продолжает: «А вот если мы осуществляем обмен с иностранцами, тогда наша прибыль обогащает наше общество». С этим был согласен Джосайя Чайлд, когда утверждал, что те, кто участвует во внешней торговле (купцы, рыбаки и скотоводы), «занимаются, главным образом (если не исключительно) тем, что доставляют в страну богатство из-за рубежа», тогда как те, кто осуществляет коммерческую деятельность на внутреннем рынке (дворянство, адвокаты, врачи и лавочники), «лишь передают богатство из рук в руки, так что его количество в стране не увеличивается» [Child, 1693, 29]. Джон Поллексфен выражает аналогичную мысль: «В ходе продаж, покупок и вообще торговли, осуществляемой нами между собой, может оказаться, что один стал богаче другого, не оказав никакого непосредственного влияния на обогащение или обеднение страны в целом» [Pollexfen, 1697a, 40]. Кроме того, внутренняя торговля зависит от того, как идут дела в торговле внешней – согласно Уильяму Петти, «внутренняя торговля всякой страны находится в зависимости от внешней торговли» [Petty, 1680, 11]. «Ведь когда торговля переживает расцвет, доходы короля увеличиваются, стоимость земли и рента растут, возрастает судоходство и бедняки имеют занятость», – как указывал Эдвард Мисселден [Misselden, 1622, 4]. «Но если внешняя торговля приходит в упадок, с ней падает и все вышеперечисленное». Убежденность в таком положении дел присутствовала у авторов-меркантилистов в течение всего XVII столетия, и лишь немногие из них придерживались того мнения, что внутренняя торговля равнозначна или превосходит по своей значимости торговлю внешнюю[44 - См., например, [Reynell, 1685, 7–8].].
Иногда меркантилисты объясняли свою страстную сосредоточенность на внешней торговле, ссылаясь на доктрину вселенской экономики. С помощью этой доктрины они оправдывали деятельность, которой занимались купцы, а также подчеркивали особое место, занимаемое внешней торговлей среди всех торговых операций. Мисселден характеризовал эту доктрину следующим образом:
И вот, наконец, среди людей должна была возникнуть и торговля, и Господу было угодно призвать ее в виде перевозок из одной страны в другую всяческих вещей, которые одна страна имеет, а другая нет: с тем чтобы то, что хочет одна страна, могло быть поставлено другой, так что всем хватило бы этих вещей. И что это будет за вещь, выявят лишь ветер и море, ибо они управляют подходами ко всем странам: иногда ветры дуют по направлению к одной стране, иногда – к другой; так что посредством этой Господней справедливости каждому может быть поставлено все необходимое для жизни и ее поддержания[45 - Другой пример подобной аргументации ранними меркантилистами см. в [Malynes, 1601, 6].]. [Misselden, 1622, 25]
Мы видим, что меркантилистской мысли не были чужды ни космополитический характер доктрины вселенской экономики, ни дух произведений первых западноевропейских философов, заложивших основы теории естественного права, – и там и там подчеркивалось, что международная торговля порождает значительные выгоды. Приходится лишь удивляться, насколько часто у меркантилистов встречаются эти восторженные описания внешней торговли, однако это соответствует их энтузиазму в отношении коммерческой деятельности на мировом рынке.
Однако по причинам, которые станут ясны позже, меркантилисты никогда не пользовались этим подходом для защиты принципа свободной и неограниченной торговли. Авторы-меркантилисты, многие из которых были одарены выдающимся творческим воображением, корректировали доктрину, с тем чтобы прийти к противоположным выводам. Дж. Вайнер отмечал, что «меркантилисты демонстрировали чудеса демагогии, стремясь приспособить намерения Провидения к своим собственным частным целям; <…> они либо использовали доктрину вселенской экономики для оправдания запретов, налагавшихся на англичан в отношении некоторых товаров (на том основании, что Провидение предназначило данные товары для страны происхождения), либо использовали эту доктрину для поддержки той или иной отрасли или товара, производство которого они хотели стимулировать. И они полностью забывали о доктрине вселенской экономики, когда нападали на другие отрасли и товары» [Viner, 1937, 100–101]. Классический пример – это слова Даниэля Дефо, согласно которому английский король Генрих VII «справедливо утверждал, что Небеса были так благосклонны к Англии, что снабдили ее шерстью, предоставив ей тем самым исключительный дар, невиданный нигде более, и было бы настоящим мятежом против воли Небес, если бы англичане отвергли этот дар, проявив безответственное пренебрежение, и начали бы отправлять эту шерсть за границу для переработки и стали бы даже покупать за звонкую монету одежду, сделанную фламандцами» [Defoe, 1895, 40].
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: