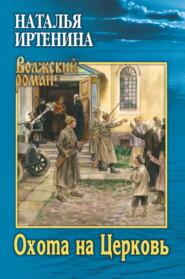скачать книгу бесплатно
– Знаю, что не ты. Где б ты школьную тетрадь взял и чернила. А тех, кто клеил, не видел ночью?
– Я ночью не тут. У меня берлога в другом месте. Я только к шестичасовому поезду прихожу.
– Ну ладно, гангстер. Не передумал насчет моего предложения? Я все еще могу устроить тебе жилье.
– В деревне? – Мальчишка скривил губы. – Чего я там не видел? Жратвы-то там нет.
– А в городе к монашкам пойдешь жить? Их тут много, пустят. Моя сестра с ними договорится.
– Еще чего! – Федька соскочил с лавки и быстро пошел прочь. – Покедова!
– Погоди. Есть небось хочешь? Я груз оформлю, по пути заеду домой. Нинка тебя накормит.
– Да не, у меня дела. – Беспризорник запихнул руки в карманы штанов и болтающейся походкой отпетой шпаны направился к железнодорожному поселку.
Часть I
Бунтари
1
Апрель 1937 г., с. Карабаново, недалеко от Мурома
Весенний день в разгаре, а ситцевые занавески на окнах плотно задернуты. С улицы никто не подглядит, что в избе отпевают покойницу, не разнесет слух на все село. Была бы умершая богомольной старушкой, прожившей жизнь в религиозных предрассудках и церковном дурмане, как у советской власти зовется вера Христова, никому бы и в мысли не пришло следить, что там отец Алексей делает в доме усопшей: отпевает или, может, чаи из самовара гоняет да родных ее утешает на свой поповский манер. Но покойная была женщина молодая, тридцати лет на свете не прожила, заведовала колхозной избой-читальней. А самое главное – мужем ее был директор карабановской семиклассной школы Дерябин Сергей Петрович, человек образованный, неверующий и, как водится у директоров, партийный.
От него-то, убитого горем мужа, и задернули занавески. Да от назойливых сельсоветчиков и комсомольцев, которые своих мертвых погребают со скоморошьим ритуалом. Прознают про отпевание – прибегут, со страшными криками уволокут гроб прямо из-под кадила, только б не дать совершиться честному церковному чину. Отец Алексей поправил на груди широкую белую епитрахиль и пошел вокруг стола с гробом, мерно взмахивая кадильницей. Затянул негромко привычное:
– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков…
Фимиам прозрачными струями поплыл по горнице. Подпевали две старухи в черных платках – мать усопшей и дальняя родственница. Более никого в доме не было.
– Со духи праведных скончавшихся душу рабы Твоей, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче…
Хлопнула дверь в сенях, и по этому резкому, будто злому, звуку отец Алексей тотчас понял, что явились ожидаемые неприятности. Вдовец ли директор, который должен быть в школе, как-то прознал, или в сельсовет все же донесли, теперь неважно. Докончить начатое вряд ли дадут.
– Эт-та што за черт?.. – громыхнул сиплым надсаженным голосом председатель колхоза Лежепеков, встав на пороге полутемной, с горящими свечами, комнаты. Он грозно обвел ярым взором одного за другим – священника и старух. – Вредительство? – И сам же себе ответил: – Поповское вредительство над советским человеком! Над упокойной женой директора школы товарища Дерябина. Кто позволил?!
– А вам, товарищ Лежепеков, какое дело до этого? – невозмутимо поинтересовался отец Алексей.
– Я тут власть! – Председатель колхоза мощно дохнул негодованием, в котором священнику послышались нотки перегара. – А ты, поп, вредитель!
Обвинение отца Алексея не обескуражило. Лежепеков был помешан на выявлении в своем колхозе вредителей, которые все время срывали план хлебозаготовок и строительства новой жизни в селе. Когда дело касалось простых колхозников, свои обвинения Лежепеков обычно подкреплял кулачной расправой, на которую был скор. Однако поговаривали, что и доносами в органы на тех, кому кулаки его не опасны, председатель не брезгует.
– Тогда вам должно быть известно, что Церковь отделена от государства и советская власть не препятствует совершению церковных треб верующими. Убирайтесь!
– Ты… – Лежепеков выкатил глаза и наставил на священника палец. – Мне?! На моей территории?.. Я тебе давал разрешение на поповские обряды, а? Или подлец Рукосуев дал тебе разрешение?..
– Какая такая твоя территория? – Старуха-родственница резво обошла стол с гробом и сердито надвинулась на председателя. – Бесстыжие твои глаза, Яков Терентьич! Иди свою жену учи, как в колхозе работать. А то она у тебя скоро с печи перестанет слезать, только и знает, как нарядами щеголять перед колхозной голью… Иди, иди, ирод, не гневи Бога…
Вытянутый палец Лежепекова вместе с рукой вдруг затрясся и сместился в сторону. Взор стал еще более выпученным. По лицу, красному от гнева, разлился внезапный испуг.
– Эта… эта… чего она?
Отец Алексей быстро обернулся. В гробу сидела усопшая, держась руками за обитые тканью стенки. Болезненным, страдающим взором она смотрела на священника. Ее мать, охнув, перекрестилась и, как подкошенная, осела на лавку.
– Что это вы делаете, батюшка? – чуть хриплым голосом произнесла ожившая покойница.
– Я… – Отец Алексей откашлялся, собираясь с мыслями. То, что еще десять минут назад женщина была неоспоримо мертва, не вызывало никаких сомнений. Колхозный фельдшер накануне выписал справку о смерти. Теперь столь же несомненным и очевидным было возвращение умершей с того света. – Я пришел соборовать вас, Анна Григорьевна. Ваша болезнь…
– Нет, тут что-то не то. – Женщина стала неловко выбираться из гроба. – Вы сюда для другого пришли, батюшка.
Плача, с протянутыми руками к ней двинулась мать, помогла сесть на стол, затем встать на ноги. Вторая старуха, ругавшая Лежепекова, заголосив «Батюшки-светы…», выметнулась со страху из избы. Председатель колхоза, подбирая и тут же роняя нижнюю челюсть, опять уставился на священника.
– Ты… поп… Ну ты… отец… Фокус-покус… – Мозг Лежепекова напряженно работал, пытаясь найти нечто определенное и незыблемое, за что можно было бы зацепиться и ухватиться в этой невозможной ситуации, когда мир вокруг и твердь под ногами расползались клочьями религиозного дурмана. В конце концов он выдал единственное, что закрепилось в его уме со времен церковно-приходской школы: – И-зы-ди!..
Сам же, исполняя свой наказ, на деревянных ногах, притихший и осоловевший, Лежепеков вышел во двор.
Отец Алексей, опомнясь, возгласил начало благодарственного молебна. Мать воскресшей сунула ей в руку горящую свечу с бумажной юбочкой, усадила на лавку. Сама встала рядом и тонким старушечьим голосом, ошеломленно-радостная, подпевала:
– Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!..
Отец Алексей сосредоточенно вел молебен, не давая набухающим, как весенние почки, мыслям и произносимым словам разлетаться в разные стороны. Соединяя их в одно, воспаряющее ввысь, в небеса, целое – умную молитву, сердечное благодарение, хвалебное изумление пред явленным чудом.
– Что здесь происходит?! – Вопрос растерянного, запыхавшегося человека в перекосившемся, криво застегнутом пиджаке не застал священника врасплох.
– Вот ваша жена.
Взяв мужчину за локоть, отец Алексей подвел его, размягченного душой и ослабевшего плотью, к женщине. Дерябин с глухим стуком упал перед ней на колени и обнял за ноги.
– Аня!..
Не стесняясь чужим присутствием, он затрясся в сухом плаче. Исхудавшие руки женщины прерывистым птичьим движением гладили его по спине.
* * *
В соседней избе за крепким забором с резными воротами выпивали и закусывали двое. На столе было небогато: водка и соленые огурцы. Похвастать съестным обилием в такое время мало кто мог, если не выбился в начальство. Андрей Кузьмич Артамонов, работник плотницко-столярной артели, мужик башковитый и образованный, с четырьмя классами училища за душой, средь бела дня обычно не пил, разве лишь по большим праздникам. Но повод прилучился самый располагающий: редкий гость в доме, а кроме того, выходной день, и потому Андрей Кузьмич не скупился на балагурство, подкрепленное стопкой-другой-третьей. Веселым человеком он был от природы, а жесткая рука советской власти в колючей рукавице лишь закалила его неунывающее жизнелюбие, сделав непробиваемым.
У печи на табурете были сложены две пары изношенных до дряхлости ботинок с оторванными подметками. По вечерам Артамонов подрабатывал починкой обуви.
– Образцы сии тяжкой народной жизни, – кивнул он на башмаки, – взять бы да выбросить. Иного не заслуживают. Да как их выкинешь, если другой обувки в нашей Советской стране не найти? В газете, допустим, пишут: стахановец Иванов делает на фабрике «Скороход» две тыщи пар обуви. Где же они, эти две тыщи? Никто не знает. В магазинах нету! Ни калош, ни валенок, не говорю о парусиновых туфлях. Нашему брату мужику в лаптях ходить. А рабочему классу в чем догонять и перегонять Америку? Босиком догонять легче! Это мы уже смекнули и с расспросами, как да почему, к советской власти не лезем. Ученые мы теперь. Потому как расспросы, сомнения и подозрения в наше время – предмет обоюдный. Я до артели служил учетчиком в рабочем снабжении. Воровство сплошное, а поди заикнись про это хоть в стенгазете. На тебя же его и оформят. У вас на складе гортопа дрова крали?
– Не знаю.
Степан Петрович Зимин в родное село вернулся с месяц назад. До этого шесть лет провел в ссылке и в лагере, освободился прошлой осенью. Зиму прожил в городе, потому что своего дома в селе у Степана Петровича больше не было. Отняли, когда посадили его с женой и детьми на пустую телегу, а потом увезли на поезде в казахские пески. Колхоз не ужился с Зиминым, колхозу было нужно его имущество.
– Правильно, что ушел оттуда. Сторожить – не для тебя. Сторожу наган полагается, а тебе наган как бывшему кулаку выдавать нельзя, а то еще пойдешь с ним свергать советскую власть. А ворованные дрова все равно на тебя повесят.
– Начать хочу все сначала, – в который раз повторил Зимин, угрюмо сжимая в широкой заскорузлой ладони пустую стопку. – Чтобы дом был, жена, детишки… Свое хозяйство.
– Свое хозяйство… – Артамонов разлил еще по чуть-чуть. – Мог бы и я сейчас на песках тужить, как ты. Нас под раскулачивание через год после вашего стали подводить. Кое-что из имущества и скотины уже прибрали, свели со двора. Ну, тут моя Мария и взбеленилась. Пошла в сельсовет, обложила там всех истинно пролетарской матерной бранью, чем и доказала свою преданность советскому строю. Потребовала, чтоб ее записали в колхоз, и желание ее немедля исполнили. Теперь с дочкой, с Варварой, почти стахановки в колхозном коровнике, палочки в тетрадке у бригадира зарабатывают, трудодни копят, как раньше денежки. Пришлось, конечно, отдать в общее пользование еще буренку и бычка. Зато теперь я, упертый единоличник, за ними как за каменной стеной! Жить можно.
– Варвара-то скоро придет?
Артамонов будто не услышал вопроса.
– По новой Конституции, оно конечно, все тебе, Степан, можно. И за власть голосовать, и должность какую-никакую иметь. Да только все одно клеймо лишенцев и чуждых элементов нам с тобой не смыть. Как бы ты себя красной краской ни малевал, как бы ни перековывался. Мы до скончания живота для советской власти испачканные своим классовым происхождением. Давеча в артельной конторе товарищ Фурсов сделал заявление. Сталинская Конституция, говорит, она как картина на стене, висит – и ладно, помещение украшает. А думать и решать власть на местах будет, как прежде, руководствуясь классовым революционным чутьем. Кого приподнять, кому пинка под зад дать. Классовый подход в нашем социалистическом коллективном хозяйстве нынче такой: кто работает, тот не ест, а кто не работает, тот хорошо кушает. Но я, Степан Петрович, не жалуюсь. Смотрю на все это как на природное явление и исторический курьез. Знавали и мы лучшие времена, а жизнь – она, как африканская зебра, полосатая… Ты слыхал, как у нас мужики про войну говорят?
– Нет.
Хозяин дома наклонился над столом и понизил голос:
– Новая война с немцами сгонит большевиков, как прошлая Романовых. – Он откинулся в прежнее положение и прибавил: – Но я тебе этого не говорил. Потому что сам в такое не верю. Сталин хитер и матёр, он еще Гитлера в союзники возьмет. Помяни мое слово.
Они снова выпили, хрустнули огурцами. Когда в дом беззвучно вошла старшая хозяйская дочь, Зимин не приметил. «Вот она, моя тихоня», – любуясь девушкой, объявил отец. Ватник и калоши, в которых работала на ферме, Варвара оставила на крыльце, но в избе все же пахнуло коровьим навозом. Зимин не спеша развернулся на стуле и так же неторопливо провел по ней безжизненным взглядом, с застывшей в глубине зрачков черной тоской.
– Здравия желаю, Варвара Андреевна.
Девушка посмотрела на отца, вновь на гостя и, как будто осознав нечто, отступила на шаг. Шатнулась было к двери, но удержалась, замерла неподвижно.
– Ну вот, дочь. – Артамонов напустил на себя серьезность. – Пришла твоя пора. Сватает тебя Степан Петрович. Уговаривать не стану, неволить тоже. Времена не те, что раньше, отцовой власти над детьми нет. Иным словом, решай сама. Парней в селе для тебя подходящих нету: кого ни возьми, то комсомолец, то выпивоха, то лодырь и хулиган. А Степан мужик домовитый, с головой на плечах. Пойду посмолю козью ножку, вы тут без меня уговаривайтесь.
Варвара стояла не шелохнувшись, с опущенной головой. Зимин молчал. Так долго, что девушка не выдержала, метнула в него быстрый взгляд, тотчас убежавший обратно, как напуганный заяц. Украдкой поправила прядку волос, выбившуюся из-под платка.
– Не старый я еще, сорок стукнуло, – неуклюже повел речь Зимин. – Начну заново. Жизнь с начала. Не смотри, что в сарае живу. Все у тебя будет. Дом, хозяйство, скотина. Работать буду как вол, силы есть. В колхозе или на своих харчах, еще не решил… Детишек заведем.
Последние слова прозвучали будто из-под земли, из темного склепа, откуда веет промозглым, пробирающим до сердца холодом.
Варвара порывисто зажала себе рот, чтобы не вскрикнуть, отчаянно затрясла головой и кинулась вон из избы.
Зимин, словно был готов к такому, взял с тарелки последний огурец, в задумчивости откусил и прожевал. Хозяина дома он нашел во дворе на лавке под раскрытым окном. Тот в расстегнутой рубахе острил точилом штык лопаты для огорода.
– В колхозе будешь работать от зорьки до зорьки, а зубы держать на полке, – будто ничего не случилось, продолжил прерванное балагурство Андрей Кузьмич. – Царь Николай, может, и был дурак, как говорят, зато хлеб был пятак. Белый и без очереди, бери сколько душа просит. А теперь у нас как в сказке про мужика и медведя. Советская власть себе корешки забирает, а мужику вершки оставляет – солому да мякину. Работать в колхозе некому. Работящих мужиков по всему Союзу разметали в ссылки, одних никудышек беспортошных оставили. Да вот бабы животы рвут вместо мужиков.
– Так не идти в колхоз?
– Еще того лучше, – живо подхватил Артамонов. – Финагент с председателем сельсовета налогами удавят, как висельника. И чего тебя, Степан, на старое тянет? Обосновался бы в городе и Варьку бы туда забрал. Витька мой, сынок, там уже, при заводе.
– В городе не сытней, пробовал.
– Тоже верно. Витька когда приходит – голодный как стая волков. Слава Богу и советской власти, голодаем девятый год. А все ж у пролетария нынче больше прав, чем у мужика. Про колхозников и не говорю – крепостная скотина для нужд партии. Ты вон лошадь завел, извозом кормишься, тебе пока еще можно. Мне тоже, как я единоличник при колхозной жене. Ну а в колхоз пойдешь – будь любезен лошадку в общественное владение сдать, а сам на козе ездить или на курях… А Варвару ты не торопи. Дай ей срок. Она девка хорошая. Слова поперек не скажет, работящая, в церковь по воскресеньям бегает.
– По воскресеньям? – переспросил Зимин.
– У нас в церкви, считай, антисоветский календарь, семидневный, против советской шестидневки. А то еще раньше пятидневка была. Я так разумею: советская власть – это задуривание головы плюс барщина. Оттого и в церковники теперь подался. В приходском совете состою, член двадцатки.
Сверху стукнула рама оконной створки.
– А мамка говорит, ты пятнадцать лет в церковь не ходил, батя.
Оба задрали головы. Из окна высовывался младший сын Андрея Кузьмича, пятиклассник Васька, только что прибежавший из школы.
– А ну цыц, мелюзга! – осерчал на него отец. Зимину пожаловался: – Свой Павлик Морозов в доме растет. Рад на отца доносить. Не ходил, значит, не нужно было! Не чувствовал политического момента. Теперь чувствую. Церковь сейчас по новой Конституции равноправная, может своих кандидатов на выборы выдвигать. Я в Церковь теперь как в партию записался…
– Нам с Лидкой из-за твоего церковничества в школе попадает, – обиженно сказал сын. – Сергей Петрович говорит, что из-за этого мы отсталые. Ребята смеются.
– Учись лучше, не будешь отсталым.
Андрей Кузьмич привстал, вслушиваясь. От соседнего двора доносились заполошные крики. «Что за оказия?!» – Артамонов отложил лопату и зашагал к воротам, открыл калитку. Мимо по улице бежала, переваливаясь по-утиному, старуха в черном траурном платке.
– Воскресил!.. Мертвую из гроба поднял!..
– Ты чего голосишь, Поликарповна? Кто поднял, куда?
– Покойницу Дерябину с того света вернул! Отец-то наш, отец Алексей, чудотворец, мертвых воскрешает… Ох, побегу. Муж ейный в школе, ничего не знает…
Андрей Кузьмич с силой потер в затылке, потом поднял указательный палец кверху и с философским видом отсыпал подошедшему Зимину от своей образованности:
– Научный курьез! Парадоксальное явление. Пойду посмотрю, не рехнулась ли Поликарповна. А ежели впрямь воскрешение мертвых?.. Идешь, Степан?
Зимин смотреть на явление не пожелал.
– Моих из земли не подымет, – бессильно махнул он рукой и зашагал по улице в другую сторону.
В родные края после раскулачивания и шести лет безвестного отсутствия Зимин вернулся другим, непохожим на себя прежнего. Увозили его из села с женой и пятью детьми, старшему было десять, младшему год. Акмолинские пески забрали у Зимина всех, одного за другим. После того и поселилась на его лице мертвая стынь, а в глазах – черная пустынная угрюмь.
2
Внештатным сотрудником «Муромского рабочего» Николай Морозов числился всего полгода и заглядывал в редакцию пару раз в месяц. Обычно картина, которую он наблюдал в семь часов вечера буднего дня, являла собой беспрерывную беготню редакторов, корректоров, курьеров, носящихся с ворохом оттисков из типографии и обратно. Но в этот раз коридоры были безлюдны. Только стрекот пишущей машинки где-то за дверью разгонял тишину.
Объявление о строгой явке на собрание членов партийной организации останавливало, точно милиционер в засаде, всякого входящего в редакцию. Заодно открывало причину мертвого штиля: все ответственные работники газеты в обязательном порядке были членами партии. Морозов понял, что вечер пропал – потерять придется часа два или даже три. В туберкулезном диспансере с партийным вопросом было намного проще: на работу туда шли только беспартийные, включая главного врача больницы.
Он направился к приемной главного редактора Кочетова. Белобрысая секретарша главреда тоже отсутствовала, зато на стене висел плакат со строгой комсомолкой, которого прежде не было: «Товарищ, будь бдителен! Помни: опечатки – это вражеские диверсии».
Дверь в кабинет Кочетова была приоткрыта. Морозов осторожно расширил щель и просунул голову.
– …В нашей парторганизации еще есть люди, которые считают, что никакой классовой борьбы в СССР нет, – вещал, заглядывая в бумажку, секретарь парткома газеты. – Даже четкие разъяснения товарища Сталина на мартовском Пленуме их не убеждают. Между тем Иосиф Виссарионович учит, что чем больше у нас успехов в построении социализма, тем больше обостряется классовая борьба. С ростом мощи Советского Союза усиливается сопротивление остатков отмирающих, враждебных нам классов. Все эти замаскировавшиеся белогвардейцы, бывшие люди, эсеры, меньшевики, попы и кулаки сейчас мобилизуются, зашевелятся, будут переходить от одних форм наскоков на советский строй к другим, более изощренным и вредительским. Они будут привлекать на свою сторону отсталые слои населения и даже нестойких, колеблющихся членов коммунистической партии. Нет такой пакости и подлости, которую бы они не совершили. Это надо иметь в виду, товарищи!
Подглядывать, как чистят свои ряды члены партии, отыскивая оппозицию, контрреволюцию, правые и левые политические уклоны, Морозов не хотел. Ему лишь нужно было показаться на глаза Кочетову, сообщить о своем присутствии.
– Однако на днях с опровержением этого тезиса в нашей редакции выступил заведующий сектором пропаганды Савельев. Он заявил, что надо опираться не на учение Ленина – Сталина, а на, так сказать, живую действительность. Это наглое заявление показывает, товарищи, что в лице Савельева мы имеем дело с представителем правотроцкистского охвостья. Мы должны сделать большевистские выводы и принять немедленные меры. Я предлагаю безо всякого гнилого либерализма голосовать исключение оппортуниста Савельева из партии… В чем дело, товарищ? – Секретарь парткома сурово воззрился на постороннего в дверях. – Кто вам позволил войти?
– Морозов, уйди, – энергично замахал на него Кочетов.
Секретарша-стенографистка грудью вытолкала Николая в приемную и мимикой показала, чтобы ждал там.
Лишь через полтора часа из кабинета гурьбой посыпали партийные сотрудники газеты. Последним показался пропагандист Савельев. Он прижимал руку под пиджаком к сердцу, широкий лоб с залысинами был в испарине, очки сползли на кончик носа. «Исключили бедолагу», – догадался Морозов.
В кабинете Кочетова плотный, спертый воздух был насыщен табачным дымом.