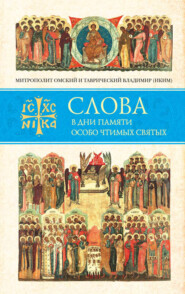скачать книгу бесплатно
В самый канун кончины святитель Петр повторил свое пророческое благословение князю Московскому: «Отхожу от жития сего; оставляю сыну моему, возлюбленному князю Иоанну, милость, мир и благословение от Бога ему и семени его до века. За то, что сын мой успокоил меня в старости, воздаст ему Господь сторицею в мире сем и дарует ему живот вечный, и не оскудеют от семени его обладающие местом его, и память его прославится».
Знамение святости почившего архипастыря было явлено уже во время его погребения. Когда москвичи с плачем провожали святителя Петра в последний земной путь, некий стоявший в толпе маловер подумал: «Кто этот мертвец, которого провожают сам князь и столько народу, и почему воздается ему такая честь?» – и вдруг увидел, как святитель сел в своем гробу и стал благословлять народ. Маловер раскаялся и рассказал всем об этом дивном видении. Вскоре от гробницы святителя Петра начались чудеса исцелений, и со всех концов Русской земли в Москву, к месту его упокоения, стали стекаться паломники.
Новый Предстоятель Русской Церкви, святитель Феогност († 1353), был ревностным почитателем своего святого предшественника и окончательно утвердил митрополичью кафедру в избранном им городе. С тех пор, по предсказанию святого Петра, в Москве жили святители-митрополиты, а затем и Патриархи всея Руси.
По воле святителя Петра малая и исторически юная Москва стала духовным центром для всего русского православного народа Божия, а затем сделалась центром и единой могучей православной державы.
Благословение великого перед Богом святителя Петра почило на князе Иоанне Калите и семени его, наделив правителей Москвы государственной мудростью и могуществом. Князь Иоанн и потомки его, государи Московские, заслужили славу «собирателей Русской земли», создателей единого государства Российского, победившего грех междоусобных братоубийств.
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Сильна перед Господом молитва святых Его угодников. Всемогущий Бог слушает верных Своих и по их прошениям благодетельствует не только отдельным людям, но и целым сообществам – городам, народам, государствам. Великие духом святые Русской земли предстательствуют за нас перед Престолом Всевышнего, и безумием было бы не прибегать к благодатному их предстательству.
Как князь Иоанн Калита добрыми делами и благочестием заслужил милость святителя Петра к себе, к своему городу, к своим потомкам, так и мы, стараясь проводить жизнь благочестивую, следуя заповедям Христовым, можем привлечь к себе помощь Небесную, заслужить земное благоденствие и вечное счастье в Царстве Божием не только для себя самих, но и для ближних своих и дальних. Молитвами добрых и благочестивых людей может окрепнуть и возродиться в величии все наше Отечество, Русская земля, претерпевающая множество бед.
В житии святителя Московского Петра видим мы образ того, как высоко служение архипастыря народа Божия и сколькими благодеяниями родному народу может увенчаться святительское служение. Будем же молиться Господу Милующему и угодившим Ему великим русским святителям былых времен об укреплении нынешних иерархов Русской Церкви в праведности, духовной силе и мудрости: да воссияет по их прошениям и деяниям милость Господня ко всему русскому народу православному. Будем же молиться об укреплении в священном делании всего нашего духовенства: да утверждают пастыри людей в спасительной вере, дабы всюду воссиял свет Православия и соделалась вновь наша страна благодатным уделом Всевышнего, Русью Святой. Будем же молиться о ближних наших, о братьях и сестрах во Христе Иисусе, дабы во взаимной любви и милосердии проводить нам жизнь земную и сподобиться от Отца Небесного жизни вечной.
Ныне, светло празднуя память великого зиждителя нашей Матери-Церкви Русской, кроткого, смиренного, милосердного святителя Московского Петра, воспоем ему со умилением:
«Взбранному и дивному нашея земли чудотворцу, днесь любовию к тебе притекаем, песнь, Богоносе, плетуще: яко имея дерзновение ко Господу, многообразных избави нас обстояний, да зовем ти: радуйся, утверждение граду нашему».
Аминь.
Слово в день памяти праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
(Неделя по Рождестве Христовом)
Веселия днесь Давид исполняется Божественный, Иосиф же хваление со Иаковом приносит: венец бо сродством Христовым приемше радуются, и неизреченно на земли рождшагося воспевают: Щедре, спасай Тебе чтущия!
Кондак в Неделю по Рождестве Христовом
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе отцы, братья и сестры!
Сегодня Святая Православная Церковь празднует память праведных Давида царя, Иосифа Обручника и Иакова, брата Господня. Первый из них – предок Господа Иисуса Христа по плоти, второй – Его названый отец, а третий – сводный брат Его.
Жизнь святого царя, пророка и псалмопевца Давида (1001-965 до Р. Х.) дает нам удивительные примеры помощи Бога, упования на Него и истинного покаяния, способного изгладить даже самые страшные прегрешения.
По происхождению Давид был не царского рода. На царство избрал его Сам Господь, возвестив об этом устами пророка Самуила, который и помазал тогда еще совсем юного Давида, самого младшего из восьми сыновей старейшины Иессея. Многие юноши на месте Давида возгордились бы подобным Божественным избранием и, даже если бы и не могли открыто заявить о нем всем вокруг, начали бы, по крайней мере, требовать к себе особого отношения в родительской семье. И такое особое отношение действительно могло бы быть ими получено даже в строго патриархальном ветхозаветном обществе: ведь избраны они были не кем-нибудь, а Самим Богом Израилевым! Однако в Священном Писании мы не находим и намека на подобное поведение со стороны Давида. Он продолжал, как и раньше, оставаться младшим послушным сыном своей семьи, продолжал пасти овец и коз своего отца. Поистине Бог смотрит не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце (1 Цар. 16, 7).
Вскоре после того, как произошло тайное помазание юного Давида на царство, на народ израильский пошли войной соседи – филистимляне-язычники. Два войска – израильское и филистимское – встали друг против друга по две стороны узкой долины.
В те далекие времена существовал обычай начинать битву с поединка двух самых сильных воинов с той и другой стороны. Такой поединок воспринимался как Божественный суд: считалось, что Небеса на стороне того из противников, чей воин одержит победу. Поэтому нередко по окончании поединка воинов одна из сторон признавала себя побежденной, и ненужного кровопролития не происходило. Если же битва все-таки имела место, то победу в ней, как правило, все равно одерживало войско воина-победителя, так как противник оказывался уже в значительной степени деморализован. Зная это, нетрудно представить, с какой тщательностью отбирались воины для начального поединка и с каким волнением следили их товарищи за схваткой.
На этот раз со стороны филистимлян выступил вперед настоящий великан: воин по имени Голиаф, ростом более двух метров. Голиаф, понимая, какое впечатление он производит на врагов, принялся громко насмехаться над израильтянами: Зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне; если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам! (1 Цар. 17, 8–9).
Израильтяне находились в замешательстве. Они понимали, что среди них нет никого равного по силе Голиафу.
В это время в стане израильтян находился юный Давид. Его не взяли в войско по причине молодости, и воевать пошли его старшие братья; в этот день отец послал Давида проведать братьев и отнести им испеченных матерью лепешек.
Услышав похвальбу и угрозы филистимлянина, мальчик исполнился праведного гнева. Неужели Господь попустит, чтобы враги захватили Израильское царство?
Ведомый Самим Господом и своим упованием на Него, Давид отправился к царю Саулу, прося позволить ему сразиться с Голиафом. Конечно, со стороны подобная просьба неопытного мальчика могла показаться неразумной. Но царь находился в отчаянии: вот уже сорок дней никто из израильских воинов не решался выйти на битву с Голиафом, чтобы тем самым принять на себя ответственность за будущее родины. Кроме того, в том, как горячо и уверенно говорил Давид, было нечто необычное: царь чувствовал, что этот мальчик может быть послан Богом. В конце концов Саул дал свое согласие.
Давиду выдали доспехи и оружие, но юный пастушок, никогда не носивший ничего подобного, вынужден был отказаться от них: ведь он не умел ни носить доспехи, ни рубиться мечом. На поле боя он вышел в простой пастушеской одежде и с пращой-камнеметалкой в руке – такой пращой он привык отгонять от стада хищников.
Увидев, кто стоит перед ним, Голиаф поначалу принял это за насмешку. Он не мог поверить, что почти безоружный мальчишка хотел сразиться с ним – с тем, кого страшилось все израильское войско, состоявшее из опытных взрослых воинов!
Однако Давид, не думая о себе и уповая не на собственные слабые силы, но лишь на одного Господа, ответил врагу так: Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских… Не мечом и копьем спасает Господь! (1 Цар. 17, 45–47).
Сказав это, Давид раскрутил свою пращу и метнул в Голиафа острый камень. Камень попал филистимлянину прямо в лоб, и могучий воин упал на землю. Подбежав к нему, Давид вытащил у него из ножен меч и отсек ему голову.
Пораженные этой победой мальчика-пастушка над могучим Голиафом, справедливо усмотрев в этом руку Всемогущего Бога, филистимляне в ужасе обратились в бегство. Так было спасено от врагов Израильское царство – спасено благодаря безграничному доверию юного Давида Богу.
Дорогие во Христе отцы, братья и сестры! Не правда ли, подобные ситуации случаются и в нашей жизни? Как часто, столкнувшись с неразрешимой на первый взгляд проблемой, мы поддаемся страху, отчаянию, унынию: «Все пропало, эти обстоятельства сильнее меня!» Да, обстоятельства действительно часто бывают сильнее нас. Но ведь и Голиаф был во много раз сильнее пастушка Давида. Что же помогло мальчику победить богатыря – его собственные силы и способности? Нет, помог ему Бог. Ибо невозможное человекам возможно Богу (Лк. 18, 27).
Будем же помнить об этой древней истории, о том, что нет для нас ничего не возможного, – если только мы будем призывать имя Бога с доверием к Нему, с искренней верой в то, что Господь, войдя в нашу жизнь, управит все ко благу.
Шли годы, и уповавший на Бога своего Давид стал царем Израиля. Он правил своим народом мудро и справедливо, благодаря ему Израиль стал сильным и в то же время благочестивым государством, жители которого искренне чтили Бога и любили свое Отечество. Давид построил новую столицу Израиля – город Иерусалим (что в переводе означает «Город мира»).
Благочестивый царь, наделенный Господом не только мудростью и способностью к делам государственным, но и поэтическим даром, сочинял в честь Создателя прекрасные стихотворные Богодухновенные молитвы-песнопения – псалмы. Впоследствии они были собраны в единый сборник под названием «Псалтирь» (так назывался древний музыкальный инструмент – род гуслей, – игрой на котором обычно сопровождалось пение таких молитв) и вошли в число книг Священного Писания Ветхого Завета. В некоторых псалмах содержатся пророчества о Грядущем Спасителе – Мессии, Сыне Божием, ибо Господь открывал Своему верному рабу и грядущие судьбы Израиля и всего мира. Поэтому царя Давида называют псалмопевцем и пророком.
Однако и благочестивый Давид порой подпадал под влияние собственных страстей. Однажды это привело его ко греху, в котором царь впоследствии каялся до самого конца жизни.
Однажды, случайно увидев у купальни замужнюю женщину по имени Вирсавия, Давид воспылал к ней страстью. Ослепленной этим чувством, он послал мужа Вирсавии, Урию, на верную смерть: отдал тайный приказ поставить этого воина на самый опасный участок битвы и там оставить его. Когда Урия погиб, Давид женился на Вирсавии.
Этот страшный грех убийства и прелюбодеяния, подобно поражающей внутренности заразной болезни, сказался впоследствии на семье Давида и на всей его стране: сыновья Давида поссорились друг с другом, один из них восстал против отца и бесславно погиб, на страну обрушились голод и эпидемии… И все же ни род Давидов, ни царство народа израильского не погибли окончательно и впоследствии обрели прежнюю силу и славу. Но произошло это не потому, что грех перестал быть грехом, а потому, что великий царь нашел в себе силы для покаяния.
Господь послал к Давиду пророка Нафана, обличившего царя именем Божиим. И надо отдать должное царю – осознав весь ужас содеянного, он принес искреннее, глубочайшее покаяние. В последовавших бедствиях он винил одного себя, наложил на себя строгий пост и не переставал возносить Богу покаянные молитвы. Одна из таких молитв – проникновенный псалом 50-й – доныне считается образцом покаянного чувства.
И прощение было даровано Давиду Господом. Последние дни его царствования прошли в мире, и наследник его, Соломон, впоследствии также стал мудрым и справедливым правителем. Однако Давиду так и не удалось довести до конца одно из важных дел своей жизни – постройку храма Господня в Иерусалиме; построил храм уже Соломон. Царь-псалмопевец смиренно отнесся к невозможности самому исполнить великое дело: он считал себя недостойным этого по своим грехам.
Дорогие мои! Царь Давид совершил великий грех – но он же дал нам прекрасный образец истинного покаяния. Давайте задумаемся: а часто ли мы сами каемся так же, как и он, не пытаясь оправдать себя, честно признавая свои ошибки и принимая твердое решение никогда не повторять подобного впредь? Задумаемся – и будем брать пример с пророка-псалмопевца в его покаянии и смирении перед Богом…
Не менее удивительный пример смирения, упования на Бога и покорности Его воле находим мы и в житии дальнего потомка царя Давида – праведного Иосифа Обручника, хранителя девства Пресвятой Богородицы.
Из Священного Предания мы знаем, что Пресвятая Дева, с ранних лет посвященная родителями Богу и воспитанная при храме, желала остаться безбрачной, чтобы полностью отдать Свою жизнь служению Господу. Сейчас, в новозаветную эпоху, мы бы сказали, что Она стремилась к монашеству. Однако в те времена монашества еще не существовало: вступление в брак и рождение детей считались практически священным долгом каждого благочестивого иудея. Впрочем, вдова или замужняя женщина с согласия мужа могла соблюдать любые обеты, в том числе и обет безбрачия. Поэтому священники храма, которым юная воспитанница поведала о своем желании, постарались, когда пришел срок, найти ей такого мужа, который согласился бы стать не мужем, но лишь защитником и покровителем Девы. Таким человеком и стал Иосиф – пожилой многодетный вдовец, после смерти жены ведший жизнь целомудренную, праведную во всех отношениях.
Но еще до того, как был совершен свадебный обряд, Иосиф узнал, что Мария имеет во чреве (Мф. 1, 18). Мы можем только догадываться, что испытал при этом праведник. Ведь он еще не знал, что Плод чрева Девы есть от Духа Святого, что Марии предстояло стать Матерью Обетованного Мессии.
Другой человек на месте Иосифа пошел бы на открытый разрыв со своей обручницей, чтобы общество покарало ее презрением. Но праведник не думал о себе: он чувствовал лишь печаль и хотел развестись с Марией тайно, чтобы не опозорить Ее. И Господь вознаградил праведность Своего верного раба: Иосифу явился Ангел, возвестивший ему о том, что за Ребенок должен родиться у Марии.
Всю дальнейшую жизнь – а прожил он, по преданию, целых 110 лет! – Иосиф посвятил служению Спасителю и Его Пречистой Матери. Когда царь Ирод в ослеплении своем хотел погубить Божественного Младенца, Иосиф не раздумывая бросил все и бежал с Марией и Младенцем в Египет. Он не боялся трудностей и лишений – потому что, подобно своему царственному предку, безгранично уповал на Бога и готов был пожертвовать жизнью ради Него.
Сведения о жизни праведного Иосифа весьма скудны – но и в этом праведник дает нам важный урок. В смирении своем он не гнался за собственной славой, положением, богатством: ему достаточно было находиться в тени неизвестности, служа при этом Господу по мере сил.
Впрочем, Иосиф не забывал и своего отцовского долга в отношении своих сыновей по плоти от первого брака и дал им достойное праведника воспитание. Красноречивое свидетельство тому – житие его самого младшего сына, святого апостола Иакова.
Римо-католики пытаются утверждать, что Иосиф Обручник никогда и не был женат, но оставался девственником, а «братья и сестры Господни», упомянутые в Евангелиях, – это дети его собственных братьев или сестер, то есть не родные, а двоюродные братья Иисуса Христа. Однако это несообразное утверждение опровергается самой историей. Как мы уже говорили, у иудеев безбрачное состояние считалось неприемлемым, так как человек, не имевший детей, мог этим отдалить пришествие Мессии, – ведь кто знает, может быть, именно среди его потомков должен был родиться Помазанник Божий – Мессия? Исключение составляли люди, принесшие Богу особые обеты, например ессеи. Но ни в Евангелиях, ни в Предании мы не находим указания на то, что Иосиф был ессеем, – он назван лишь праведным (Мф. 1, 19). В отличие от ессеев, живших обособленно от остальных иудеев, вне городов, Иосиф вел обычную жизнь горожанина, плотничал, участвовал в государственной переписи. Кроме того, для принесшего обет безбрачия даже формальный брак был бы нарушением обета. Поэтому, коль скоро Иосиф нашел для себя возможным вступить в брак с Марией, он не принадлежал ни к одной из безбрачных религиозных групп, но был обычным благочестивым иудеем. Следовательно, он не мог достигнуть того солидного возраста, в каком сочетался браком с Марией, пребывая в холостом состоянии. Иудеи женились и вступали в брак весьма рано, детей имели много (многочадие считалось Божиим благословением). Согласно Священному Преданию, у Иосифа уже была жена до Марии, а от первой жены были и дети.
Один из них – Иаков с ранних лет подражал в праведности своему благочестивому отцу. С самого детства он горячо возлюбил Бога и имел в сердце лишь одно желание: всей жизнью своей служить Ему. Поэтому, едва достигнув духовного совершеннолетия (тринадцати лет, согласно иудейской традиции), Иаков посвятил себя Богу, принеся пожизненные назорейские обеты, согласно указаниям Самого Господа в Священном Писании: И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу, то он должен воздержаться от вина и [крепкого] напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод; во все дни назорейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи Господу, не должен он подходить к мертвому телу: [прикосновением] к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его; во все дни назорейства своего свят он Господу (Чис. 6, 1–8). Назореев в древнем иудейском обществе почитали как праведников. В чем-то они предвосхищали будущих христианских монахов.
Кроме обычных назорейских обетов воздержания в пище и хранении себя от осквернения, Иаков принял дополнительный обет безбрачия, желая, чтобы даже заботы о семействе не отвлекали его от служения Господу. Все дни свои он проводил в добрых делах, а ночи – в коленопреклоненной молитве, так что от частых коленопреклонений даже кожа на его коленях затвердела, став подобна коже верблюжьей.
По Вознесении Христовом, после того как на апостолов в Сионской горнице сошел Дух Святой, Иакова единодушно избрали епископом, предстоятелем Иерусалимской Церкви. Избрание это ясно показывает нам, какое глубочайшее уважение испытывали к праведнику первые христиане.
Как глава Иерусалимской Церкви, Иаков, в отличие от остальных апостолов, не странствовал с проповедью по чужим городам и странам. Однако служение его было не проще, а, пожалуй, даже сложнее и опаснее, чем странствия и проповедь иноземцам. Иерусалим был центром христианской жизни – но этот же город был и эпицентром вражды не принявших Христа иудеев к христианам. В Иерусалиме жило множество праведников – но в то же время и множество врагов Христовой Церкви, пожалуй, больше, чем где бы то ни было еще. Несмотря на то что Иудея была частью Римской империи и имела своего римского наместника, в Иерусалиме, по сути, правили первосвященник и иудейские старейшины, многие из которых готовы были бы распять Христа и во второй раз… Чтобы окормлять Иерусалимскую Церковь, недостаточно было одних лишь мужества, мудрости, личной праведности, не помогло бы здесь и дипломатическое искусство – нужна была всенародная любовь, огромный духовный авторитет, непререкаемый не только для христиан, но и для иудеев.
Таким авторитетом апостол Иаков обладал в полной мере. Удивительно, но не обратившиеся ко Христу в своей массе иудеи не только не отвернулись от брата Иисусова, не только не видели в нем врага и вероотступника, как в других апостолах, но продолжали почитать его как праведника, и даже более того – как заступника перед Богом за весь Израиль! За те долгие двадцать четыре года, что Иаков возглавлял Иерусалимскую Церковь, не было ни одного случая выступления против него ни народа, ни иудейских священников, хотя, как мы знаем из книги Деяний, остальные апостолы постоянно становились жертвами ярости толпы в Иерусалиме: например, первомученик архидиакон Стефан, апостолы Петр и Павел. На Иакова же не смели не только поднять руку, но и возвысить против него голос, хотя, казалось бы, он, будучи предстоятелем, олицетворял ту самую Церковь, с которой иудеи боролись в лице остальных апостолов.
Велик был авторитет Иакова и в самой Церкви. Так, например, на Иерусалимском Апостольском Соборе в 51 году, когда обсуждалось, нужно ли обращенным из язычников соблюдать Закон Моисеев во всей его полноте, именно голос Иакова был решающим, а его речь на Соборе фактически стала Соборной резолюцией (см. Деян. 15), несмотря на то что Первоверховный апостол Петр придерживался противоположного мнения. Это событие, описанное составителем Деяний апостолом Лукой, явно опровергает утверждение римо-католиков о том, что якобы Петр являлся единственным главой Церкви и что поэтому его преемник – римский первосвященник – должен также безраздельно главенствовать в ней.
Апостол Иаков неустанно проповедовал Христа Распятого жителям Иерусалима – как иудеям, так и язычникам. Успех его проповеди был поразителен. Множество язычников, а еще больше иудеев ежедневно обращалось ко Христу – и не только простых иудеев, но и ученых книжников, и даже священников и старейшин. Ведь о Мессии говорил им великий праведник, которого они глубоко почитали еще до его собственного обращения ко Спасителю! Видишь, брат, – говорят апостолу Павлу иерусалимские пресвитеры, – сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона (Деян. 21, 20).
В канон Нового Завета включено Соборное Послание апостола Иакова к двенадцати коленам Израилевым, адресованное христианам из иудеев, живших в рассеянии, то есть в других областях Римской империи и чужих странах за ее пределами. Многие из этих людей ранее жили в Иудее, но были вынуждены покинуть родину из-за вражды необращенных соплеменников. Поэтому в Послании много внимания уделено увещеванию к терпеливому перенесению страданий. С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка (Иак. 1, 2–4) – пишет своей пастве Иерусалимский предстоятель.
Люди верили проповеди Иакова именно потому, что брат Господень был для них духовным авторитетом в силу своей праведности. Они не просто слышали из его уст красивые и правильные слова о Христе – они видели его собственную жизнь, сиявшую светом и любовью.
В начале 60-х годов по Рождестве Христовом первосвященником в Иерусалиме стал некий Анания, человек смелый и дерзкий, принадлежавший к течению саддукеев, непримиримый враг христиан. Видя, какой успех имеет проповедь апостола Иакова, он начал бояться, что вся Иудея может вскоре стать христианской, а потому сразу перешел к решительным действиям.
Впрочем, даже Анания не решился открыто выступить против почитаемого всем народом праведника. Он задумал вначале запугать Иакова, а затем использовать его авторитет для «опровержения» Христова учения. На Пасху 63 года первосвященник в сопровождении всех верных ему старейшин пришел к Иакову и начал требовать, чтобы апостол во всеуслышание отрекся от Христа. Неожиданно Иаков согласился – апостол хотел использовать этот случай, чтобы еще громче свидетельствовать о Христе собравшемуся на Пасху народу. Конечно, он понимал, что после такого свидетельства первосвященник не может оставить его в живых. Но жизни своей ему было не жаль – он готов был в любой момент отдать ее за возлюбленного Господа и своих духовных чад. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп. 1, 21), – сказал апостол Павел, и нет сомнения, что апостол Иаков, брат Господень, был в этом с ним единомыслен.
В день иудейской пасхи, когда вокруг Иерусалимского храма собралась многотысячная толпа, первосвященник и старейшины поставили апостола на крыло храма и, когда все взоры народа обратились к нему, закричали: «Праведный! Мы все обязаны тебе доверять. Народ в заблуждении об Иисусе распятом…»
Анания ожидал, что праведник скажет хотя бы пару слов против Христа, – ведь даже одно-единственное слово из этих почитаемых уст могло разрушить всю Церковь, созидавшуюся годами. Но Иаков громко, во всеуслышание ответил: «Что спрашиваете меня о Сыне Человеческом? Он восседает на Небе одесную Великой Силы и придет на облаках небесных!»
Многие в толпе, убежденные одними этими словами в истинности Христова учения – так велик был авторитет праведника! – немедленно воскликнули: «Осанна Сыну Давидову!»
Тогда Анания и старейшины бросились к Иакову и столкнули его вниз с огромной высоты, прямо на камни.
Апостол скончался не сразу: из последних сил он продолжал молиться о своих мучителях. И только когда один из сторонников первосвященника ударил его деревянным вальком по голове, праведник испустил дух.
Спустя всего три года после этого события началась Первая Иудейская война, приведшая к разрушению римлянами Иерусалима и сожжению Иерусалимского храма – того самого, с которого был сброшен апостол Иаков, – и положившая начало рассеянию иудеев по всему миру. По свидетельству древних историков, многие иудеи считали случившееся карой Божией за смерть праведника Иакова. Ныне же он на Небесах радуется радостью неизреченной от пребывания со Христом и предстательствует за Новый – духовный Израиль, Христову Церковь, то есть за нас с вами.
Дорогие во Христе отцы, братья и сестры! Что можем мы сделать, чтобы почтить память святых? Вознести им славословия или построить храм в их честь? Все это хорошо, но прежде всего необходимо подражать их жизни. Слово «подражать» не стоит воспринимать буквально: конечно, не каждый из нас – царь, пророк, апостол или пустынник. Впрочем, и для самих святых все это было лишь обстоятельствами, средствами, которые они использовали для достижения главного: христианских добродетелей и спасения. В этом-то главном мы и должны подражать им, хотя обстоятельства нашей жизни могут быть совсем другими. Будем же стараться уподобиться праведным Давиду, Иосифу и Иакову в их смирении, безграничном уповании на Господа, покаянии в допущенных грехах, любви к Богу и людям, будем, как и они, стараться по мере наших сил служить нашему Господу и ближним – и тогда сердца святых в Небесных селениях действительно возрадуются о нас. Подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4, 16), – сказал апостол Павел, и нет сомнения, что того же желают все угодники Божии.
И да помогут нам в этом молитвы святых Давида царя, Иосифа Обручника и Иакова, брата Господня!
Аминь.
Слово в день памяти святителя Макария, митрополита Московского
(30 декабря / 12 января)
Богомудрым учением и книжным списанием потщался еси, святителю Макарие, люди российския просветити и святых земли нашея прославити.
Кондак святителю Макарию Московскому
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе отцы, братья и сестры!
Сегодня Святая Православная Церковь празднует память святителя Макария, митрополита Московского (1482–1563) – верного служителя Христова, защитника Православия, ревностного пастыря, подвижника и просветителя, сыгравшего исключительно важную роль в истории Русской Церкви и государства Российского и по праву называвшегося «собирателем Церкви Русской».
Будущий подвижник родился в стольном граде Москве в конце XV века. Семья его и вообще род не отличались ни знатностью, ни богатством, но зато у этой семьи в преизобилии было то, что, по слову Писания, лучше тысяч золота и серебра (Пс. 118, 72), – искренняя христианская вера, подлинное благочестие, деятельное стремление всегда и во всем следовать заповедям Господним. Род этот с полным правом мог бы применить к себе известные слова святого царя-псалмопевца Давида: Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся (Пс. 19, 8); все, кто принадлежал к этому роду, усердно служили Господу в самых разных званиях. Одних только монашествующих в этой семье было немало: в личном синодике (помяннике) святителя Макария упоминаются «инокиня Наталия, инок Акакий, инок Иоасаф, игумен Вассиан, архимандрит Кассиан, священноиерей Игнатий, инок Селиван и инок Макарий». Были в его родне представители и священства, и благочестивые миряне… Родственником святителя Макария был знаменитый пастырь, непримиримый борец с ересями за чистоту Православия на Руси преподобный Иосиф Волоцкий (1440–1515).
Особым благочестием отличались и сами родители святителя Макария. Отец его скончался очень рано; мать, оставшись молодой вдовой, могла бы выйти замуж во второй раз – но, будучи искренне верующей в Воскресение и будущую жизнь, предпочла хранить верность покойному мужу, проводя жизнь в честном вдовстве, воспитывая сына и ожидая новой встречи с любимым супругом в Царстве Небесном. А после того как сын достиг совершеннолетия и не нуждался больше в материнской опеке, эта благочестивая женщина окончательно оставила мир, приняв монашеский постриг в одной из московских женских обителей.
Мог ли сын подобного семейства вырасти человеком неблагочестивым?
Вопрос этот отнюдь не риторический: каждому человеку дана от Бога свободная воля, которую не отнимает у него даже Сам Господь, а потому до самого конца земной жизни у любого из нас есть возможность выбрать как добро, так и зло. Поэтому бывает и так, что человек, выросший в хорошей семье и благочестивом окружении, становится страшным грешником, злодеем; и наоборот – ребенок грешников и богохульников может, сопротивляясь дурному влиянию среды, подняться до высот святости. Как в истории Церкви, так и в повседневной жизни вокруг нас найдется немало примеров того и другого.
Но все же гораздо легче идти по Христовой дороге тем, кто с самого детства имел перед глазами благой пример родителей и родственников, кто был изначально научен основам благочестия. Что проще: выучить чужой язык во взрослом возрасте или обучиться ему с детства? Ответ очевиден. Детские ум, сердце и душа – душа растущего человека, самой природой настроенной на познание мира, – особенно восприимчивы ко всему, и хорошему, и плохому. Семена, посеянные в них старшими, укореняются особенно быстро и прочно – ведь почва эта, еще не успевшая отвердеть и утомиться в многочисленных взрослых заботах, исключительно благодатна. Ростки эти крайне трудно потом вырвать из человеческой души; если это ростки добрые – даже самым тяжелым обстоятельствам жизни нелегко будет поколебать их, а если дурные – то самому человеку будет очень и очень непросто выполоть их, как сорняки, мешающие прорастать зерну доброму. У многих этот тяжкий труд затягивается на всю жизнь и, хотя в конце концов непременно увенчивается, все же стоит таким людям немалых трудов и страданий.
Поэтому исключительно важно с самого раннего возраста давать детям христианское воспитание, не жалеть на это ни сил, ни времени. Пусть лучше дети недополучат каких-то материальных благ, поступят не в самую престижную школу города, не будут каждый год ездить на курорты – но зато будут иметь возможность полноценно общаться с родителями, получать первые уроки и примеры жизни именно от них. Лишая ребенка этого общения, мы обкрадываем его, совершаем непростительное преступление по отношению к нему и его будущему, закладываем основы его будущих трудностей. И наоборот – воспитывая своих детей в духе Христовой истины, мы собираем для них неоценимое сокровище, закладываем прочный фундамент, на котором им потом будет легче построить здание своего счастья, – ведь истинное счастье возможно только в единении с Богом.
Итак, мать будущего подвижника приняла монашеский постриг. Материнский пример вдохновил и сына: воспитанный в любви к Богу, он также решил посвятить Ему всю свою жизнь без остатка. Юноша поступил послушником в монастырь преподобного Пафнутия Боровского – обитель, известную строгой и добродетельной жизнью, а также ученостью своей братии. Именно в этой обители подвизался в свое время святой родственник молодого инока – преподобный Иосиф Волоцкий, а также и многие другие православные подвижники благочестия.
Об этом периоде жизни святителя Макария известно не много. Человек весьма смиренный, он, как и подобает новоначальному иноку, проходил послушнический, а затем и монашеский искус в простоте и усердии, думая не о том, как бы выделиться из числа братии, а о том, как лучше угодить Богу, помочь ближнему и очистить собственную душу. Макарий неустанно обучался у опытных старцев обители основам монашеской жизни, изучал Священное Писание, трудился на монастырских послушаниях. В таких занятиях и трудах он «много лет пребыв и достойно ходив, житие жестокое искусив».
Господу было угодно возвысить Своего верного раба – смиренного инока Макария, чтобы его многочисленные таланты и добродетели служили не только братии Пафнутиевского монастыря, но и всей Православной Руси и шире – всей Православной Церкви.
В 1526 году Макарий был поставлен архиепископом Великого Новгорода и Пскова. Назначение это на древнюю кафедру, хотя и выглядело весьма почетным, на деле влекло за собой непростые обязанности. Всего за полвека до того была упразднена старинная Новгородская «республика», древний вольный город был подчинен Москве, войдя в состав единого Русского государства. Конечно, в условиях XVI столетия – века сильных централизованных государств, а не средневековых удельных княжеств – подобное объединение было только на пользу и самому Новгороду, и всей Русской земле; более того – оно было абсолютно необходимо, так как только единая Русь могла в те годы отстаивать свою политическую, духовную и культурную независимость, отражать нападения своих многочисленных недругов. Но далеко не все новгородцы смотрели так далеко и широко. Большинство продолжало открыто высказывать недовольство подчинением Москве, упразднением былых «вольностей». Эту неприязнь к централизованной власти новгородцы переносили и на Церковь, не желая подчиняться «московским ставленникам»; в то же время весьма опасно было и позволить им самим выбирать себе епископа из собственной среды, так как в сложившихся условиях им практически наверняка стал бы кто-нибудь из сторонников «независимости», а это создало бы огромные проблемы как для церковной жизни, так и для единства страны. Поэтому после смерти предыдущего архиепископа Новгородская кафедра вдовствовала больше семнадцати лет! Достойного преемника покойному архипастырю, удовлетворявшего бы все стороны этого вялотекущего конфликта между Новгородом и Москвой и способного справиться с непростой ситуацией, все не находилось…
Наконец, выбор церковных иерархов и великого князя Василия III (1472–1533) пал на Макария – и оказался весьма удачным. Прибыв на сложную кафедру, новый архиепископ, хотя и был уроженцем Москвы, очень быстро расположил к себе всех жителей города, даже убежденных противников всего московского. Да и как было не полюбить этого мудрого, смиренного и в то же время весьма деятельного пастыря? За короткий срок святителю Макарию удалось полностью восстановить и наладить церковную жизнь в своей епархии; его трудами была восстановлена и благоукрашена главная новгородская святыня – Софийский собор, к тому времени сильно обветшавший. Кроме того, в городе было возведено множество новых храмов, налажена монастырская жизнь: в большинстве новгородских монастырей указом архиепископа был введен общежительный устав, после чего число монахов начало быстро расти. Святитель всячески покровительствовал традиционным церковным искусствам Великого Новгорода – иконописи и изготовлению церковной утвари. При нем новгородские мастерские достигли своего расцвета и обогатили Русскую Церковь настоящими произведениями искусства… Видя такие усердные труды нового архиепископа на благо Новгородской епархии, даже у самих новгородцев, скептически настроенных к «московскому ставленнику», вскоре исчезло всякое недоверие к святителю, сменившись искренним уважением и сыновней любовью.
Впрочем, заботился святитель не только о новгородцах. В его обширную епархию входили и северные земли, в свое время разведанные и отчасти колонизированные Великим Новгородом, где все еще обитало немало племен, не просвещенных Светом Христовым. Конечно, такой ревностный пастырь, каким был святитель Макарий, не мог оставить и эту часть своей паствы без должного попечения. Его трудами было организовано обширное миссионерское движение, занимавшееся христианской проповедью среди северных язычников. Святитель сам готовил, рукополагал и посылал в северные пределы своей епархии священников-миссионеров. В числе этих просветителей – духовных детей святителя Макария – были такие известные миссионеры, как преподобный Трифон Печенгский (1495–1583), получивший от святителя, помимо собственно благословения на проповедь среди язычников, благословенную грамоту, антиминс, священные сосуды и книги, и преподобный Феодорит Кольский (1481–1571), получивший от архиепископа Макария благословение проповедовать Христа лопарям на их родном языке. Значение трудов этих миссионеров в приобщении северных племен к христианской вере, а также и в их культурном развитии трудно переоценить, и в немалой степени их успехи были заслугой святителя Макария.
Находясь на Новгородской кафедре, святитель Макарий приступил и к главному труду своей жизни, оставшемуся в церковной истории неразрывно связанным с его именем и послужившему не одному поколению русских православных людей, – составлению Великих Четьих Миней, получивших впоследствии название Макарьевских.
Традиционные четьи минеи – то есть «собрание текстов для чтения на каждый день месяца» – представляли собой сборники душеполезных текстов, в основном житий святых, собранных воедино и расположенных в соответствии с днями года. В то время по Руси ходило множество самых разных списков житий и духовной литературы; списки эти были разрозненными, несистематизированными, нередко в текстах встречались ошибки и неточности… Заботясь о просвещении и духовном назидании своей паствы и вообще всего православного люда, святитель Макарий решил приняться за поистине титанический труд: собирание воедино, исправление и должную систематизацию не только житий святых, но и вообще всех православных произведений церковно-повествовательного и духовно-учительного характера, существовавших в те годы на славянском языке.
В Великие Макарьевские Четьи Минеи вошли как произведения греческих, латинских и ближневосточных богословов, переведенные на славянский язык, так и творения собственно древнерусских церковных писателей: «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, труды епископа Кирилла Туровского, иеромонаха Пахомия Серба и многих, многих других. Святоотеческие и богословские творения были расположены в соответствии с днями каждого месяца, тут же помещались жития святых, чья память праздновалась в этот день. В конце Миней были помещены различные сборники душеполезных изречений и повествований: «Златоструй», «Пчела», «Маргарит» и другие. Все тексты, вошедшие в Великие Четьи Минеи, не просто собирались и переписывались, но и тщательно редактировались с учетом древних греческих и славянских текстов, благо в Великом Новгороде были богатые библиотеки, и недостатка в материалах для работы у святителя Макария и его помощников не было.
Напряженная работа над составлением Великих Четьих Миней заняла у святителя Макария больше двадцати лет. Начав ее на Новгородской кафедре, святитель продолжил свои просветительские труды в Москве, митрополитом которой был избран в 1542 году. Святителю в это время было уже около шестидесяти лет.
Время это было для Руси нелегкое. После смерти великого князя Московского Василия III русский престол должен был унаследовать его сын, Иван Васильевич. Но наследник был еще мал, так что фактически страной управляла его мать Елена Глинская, а при дворе шла непримиримая борьба за власть между
различными боярскими родами и партиями. Бояре надеялись, что при попустительстве вдовствующей княгини смогут воспитать наследника безвольным и во всем послушным их воле и даже после совершеннолетия Ивана сами станут править страной. Как все мы знаем из истории, надежды их не только не оправдались, но обернулись прямо противоположным: Иван Васильевич Грозный, Иоанн IV (1530–1584), мальчик умный, но от природы нервный, пережив в детстве немало унижений со стороны бояр, вырос человеком злобным, подозрительным и мстительным и впоследствии жестоко отомстил знатным боярским родам, предав многих их представителей мучительной казни. Да и вся Русь очень страдала под властью этого жестокого царя, подверженного вспышкам настоящего безумия, – а ведь он мог бы вырасти совсем другим, если бы получил в детстве достойное воспитание, если бы бояре думали не о том, как бы приумножить личные богатства или установить свою власть над страной, а о том, как подготовить для родной (!) страны достойного правителя…
Святитель Макарий, как никто другой, понимал всю пагубность боярских склок у трона и использовал весь свой первосвятительский авторитет, чтобы прекратить их. Именно он добился устранения от власти влиятельного клана Шуйских, а спустя несколько лет, в 1533 году, венчал Ивана Васильевича на царство, как бы закрыв тем самым саму возможность раздела власти между боярами: ведь одно дело – выступать против великого князя, пусть и носящего титул «всея Руси», и совсем другое – против первого русского царя, к тому же на тот момент единственного православного царя во всем мире! Вообще, превращение Руси из великого княжества в великое царство, происшедшее при активном участии святителя Макария, сыграло исключительно важную роль в сохранении целостности и независимости страны.
Святитель Макарий вошел в число членов так называемой Избранной Рады – своего рода парламента или совета при царе, имевшего большое влияние на царскую политику, и в этой должности принимал участие в разработке и проведении в жизнь различных полезных для народной и церковной жизни реформ.
Но главным делом Московского первосвятителя оставалась все же не политика, а пастырство. Святитель продолжает работу над Четьями Минеями; кроме того, желая, чтобы душеполезные книги и вообще грамота были доступны как можно большему числу людей – и богатым, и бедным, – этот выдающийся просветитель прикладывает немалые усилия по введению на Руси книгопечатания, изобретенного незадолго до того. Его заботами в Москве в 1553 году была открыта первая типография.
Святитель Макарий неустанно заботился о том, чтобы должным образом организовать церковную жизнь русского народа, а также дать ему как можно больше добрых примеров христианской жизни в лице святых. Его стараниями в Москве были собраны два Поместных Собора Русской Православной Церкви – в 1547 и 1549 годах, – оставшихся в истории под названием «Макарьевских». На этих Соборах было официально прославлено множество русских святых, в том числе такие подвижники, как Петр и Феврония Муромские, Александр Невский, Савва Сторожевский, Александр Свирский, Михаил Ярославич Тверской и Нифонт Новгородский. А в 1551 году стараниями митрополита Московского Макария был созван знаменитый Поместный Стоглавый Собор, названный так потому, что решения его были изложены в виде ста глав. На Соборе рассматривались самые разные вопросы: внешность христианина, его поведение, церковное благочиние и дисциплина, церковная иконопись, духовное просвещение и многие, многие другие. Хотя некоторые из решений Стоглавого Собора были впоследствии отменены на других Поместных Соборах, он все же сыграл большую роль в должной организации религиозной жизни на Руси.