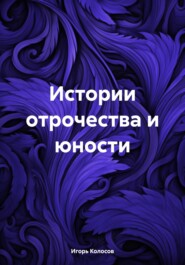скачать книгу бесплатно
Его призвали в неполных 18 лет в 1944-м, и вскоре он попал в настоящему мясорубку под Кенигсбергом. Ближе всего к смерти он был, когда из-за паники при обстреле минометом не залег, а побежал, и какое-то время вокруг него взрывалось по шесть мин сразу, ему кричали «Ложись!», но он бежал, хотя его так и не задело ни одним осколком. Ему очень повезло. Мы с дядькой как-то обсуждали, что не будь этого везения, мы бы с ним не появились в этой реальности. Дед-фронтовик вернулся домой невредимым с четырьмя медалями, самыми ценными из которых были «За отвагу!» и «За взятие Кенигсберга!». Я помню, как в детстве он отдал мне все свои медали, которых к тому времени было больше – ведь прошли уже юбилеи Дня Победы, за которые фронтовики тоже получали награды, и я очень гордился ими, складывая в аккуратную коробочку.
Потом, когда мы жили отдельно, мы с родителями чаще всего бывали в гостях именно на Береговой, у деда и бабы. Дни рождения каждого из нас, Новый год, День Победы или иной другой повод. Тетя приходила с семьей, и мы устраивали застолье. Иногда приезжал мой дядя Саша, средний сын деда и бабы. С ним у меня тоже были хорошие отношения, и он каждый раз привозил какой-нибудь подарок, как и моим родителям, хотя из-за своей рассеянности он нередко мог забыть подарок прямо в поезде. Он был похож на бабу, как и Вовка, такой же непутевый, как и младший брат, так и не женившийся ни разу, не заведший детей, а вот отец с тетей внешне больше походили на деда, с его густыми темными волосами и явной примесью какой-то восточной крови, пусть и очень разбавленной.
Бабушке суждено было прожить до 90 лет, как и своей матери, прожив без деда полтора десятилетия, который умер на 77-м году жизни.
Всего у меня, единственного в семье, было девять двоюродных сестер и шесть братьев. Лишь две сестры были по папиной линии, остальные – мамина родня. Старшая мамина сестра была бездетной, а из четырех маминых братьев больше всех детей – пятеро – было у дяди Павла, третьего брата по счету. Моя мама, парикмахер по профессии, конечно же, периодически стригла их, иногда брала с собой и меня. Помню, как я стеснялся, забившись куда-то в угол, и лишь спустя час, если не больше, приходил в норму, выбираясь поиграть со своей родней. Двое из них, брат и сестра, были меня немного старше, остальные две сестры и брат – младше. Они все были внешне в свою мать – у той были проблемы с весом, и она уже в молодости сильно располнела. Лишь старший брат пошел в отца, будучи более поджарым.
С детьми второго маминого брата, жившего в деревне, я виделся редко, лишь когда приезжал туда к бабе и деду.
Иногда в Речицу приезжали дети старшего маминого брата, которого лично я не видел никогда – он умер, когда я был ребенком. Его семья жила в Минске, и мои двоюродные брат и сестра, намного старше меня, из-за чего я называл их дядя Валик и тетя Оксана, были моей единственной столичной родней. Между собой они были абсолютно непохожи, но сестра была очень привлекательной – особенно, если учесть, что среди моих родственников эффектных внешне людей практически не было.
Чаще всего я общался с детьми младшего маминого брата: Паша был на 4 года меня старше, средняя, Люба, на год младше, а Леша, последний в семье, на 4 года младше. Наше общение чаще всего было связано с приездами в деревню, и об этом лучше рассказать отдельно.
9. Деревня
Поток коров, ленивый, пахучий и мычащий, медленно заполняет улицу, а я с двоюродной сестрой уже сижу на заборе, чаще над калиткой, где опора пошире, устроившись поудобнее, держусь покрепче и с интересом – но и с какой-то глубинной опаской – любуюсь животными, каждое из которых может затоптать такого ребенка. Чаще всего черные с белыми пятнами или черные полностью, но есть и рыжие или пегие, рыжие с белым, есть такие, где белого больше, чем черного, у каждой коровы свой рисунок из пятен, как и свой норов, кто-то движется покорно и спокойно, но есть те, кто выбивается из общего потока, тычется мордой не в свою калитку или вообще отбегает в сторону, не желая следовать дальше, щиплет траву, несмотря на окрики, и за дело берутся пастухи, которые гонят стадо с поля по домам.
Мы любуемся каждым животным, которое бросается в глаза, созерцаем рога – самое жуткое в их внешности, копыта, влажные морды с широкими ноздрями, их глаза и забавные уши, их хвосты, которыми они отгоняют насекомых, прислушиваемся к стуку копыт, шороху тел, к мычанию и сопению, к «выстрелам» хлыста пастухов, к окрикам хозяев, мы вдыхаем их особый запах. Мы живем этими минутами, растворяемся в них: пока они летят мимо нас, для нас более ничего не существует. Мы – единое целое с потоком этих животных, которые дарят людям очень многое из их питания.
Так происходит почти каждый вечер, когда я в деревне. Пропустить возвращение стада нельзя, это, как ритуал. Это – Событие! Это что-то такое, что подводит логичную и законную черту под окончанием очередного дня.
У бабушки были спокойные коровы, Рябка и Телушка. Помню, как я хотел, но боялся угостить корову хлебом, кусок которого мне протягивали родители или сама бабушка, и тогда взрослый брал мою руку с хлебом, чтобы я наконец-то дотянулся до влажного теплого рта и с радостным восклицанием отдернул руку, угостив ту, которая – с помощью бабушки, конечно, – вот-вот должна была в ответ угостить меня парным молочком, с которым вряд ли можно будет что-то сравнить.
Дед и баба со стороны моей матери прожили всю войну в оккупации. Деда в армию по какой-то причине не призвали, быть может, деревня слишком быстро оказалась на занятой фашистами территории. Мне почти не рассказывали, как они прожили это время, но, как я понимаю, в целом им повезло. К началу войны у них уже было двое детей. Их деревню миновала участь многих беларуских деревень, некоторые из них сожгли и где-то поблизости.
Бабушка была неспокойной и суетливой, на месте не сидела. Как говорила моя мама много позже, характер у ее мамы был еще тот, хотя с нами она всегда вела себя сдержанно и с заботой. Меня забавляли в детстве специфические беларуские словечки бабушки, которые и на русский было не так-то просто перевести, она иногда использовала их, как слова-паразиты, просто разбавляя речь, когда что-то делала. Дедушка напротив был спокойным и добродушным, этакий увалень, много повидавший в жизни, но теперь просто сидевший на скамеечке на солнце, чтобы уже ничего не делать. Конечно, это впечатление было обманчивым, стоило лишь послушать мою маму, сколько им всем довелось работать в поле, так это при ней, а родилась она, когда отцу было уже под сорок. Он слегка кривил рот, когда говорил или улыбался, но его это не особо портило. Моя мать, странным образом, взяла что-то во внешности и по характеру от обоих родителей.
Отношения с родителями мамы были как-то теплее, чем с родителями отца. Они очень любили и уважали моего папу, а их дочь, моя мать, была самой младшей в семье, шестым ребенком, и потому, несмотря на многочисленных внуков, и меня выделяли как-то по-особому. Мать как-то рассказала, что после моего рождения, я, неспокойный, плаксивый и болезненный, нередко не мог уснуть после заката, ворочался, хныкал, и успокоить меня было сложно. Однажды дед забрал меня от мамы, снял все пеленки, которыми в те времена было принято плотно укутывать детей, просто раздетым уложил меня рядом, и я, тут же успокоившись, прекрасно проспал до утра.
У них был дом на повороте дороге, в начале деревни, недалеко от трассы Гомель – Калинковичи, напротив дома был луг, где иногда паслись отдельные коровы. Напротив дома росли несколько больших ив, и, помню, как мы собирали там в конце весны в банку майских жуков – их я по праву называл жуками моего детства.
За домом на огороде росли несколько груш. Яблонь там не было, что для меня, любителя этих фруктов, было большим минусом. В основном деревенский огород был открытым пространством, которое засевали картофелем или чем-то другим. Вообще во дворе не было деревьев, подходящих для лазания детям, они все были низкорослые и неудобные, зато было кое-что иное – сеновал.
Это было нечто – особая территория, которая к тому же еще и менялась, в зависимости от поры годы и количества сена в нем. Иногда ты сразу окунался в душистую сухую траву, ходил по этой пружинистой массе, зарывался, прятался, притаившись, швырялся охапками, с воплями перекатывался. Иногда приходилось взбираться под самую крышу, чтобы пройти вглубь, настолько много оказывалось на сеновале сена. Но бывали времена, когда, перебравшись внутрь, приходилось с другой стороны осторожно слезать вниз, к самому полу, где почти ничего не осталось от былого величия. Изредка сеновал превращался в золотую середину между этими двумя крайностями: сена оставалось половину, и можно было прыгать, как и с другого, верхнего яруса сеновала, так и с проема, через который мы забирались внутрь.
На сеновал можно было пройти со двора, через хлев, но чаще там было мокро и грязно от коровьего навоза, и мы предпочитали забираться, как обычно. Под верхней частью сеновала, рядом с коровником жили свинки, но туда мы почти не заглядывали. Кроме того, что можно было вымазаться по колено, все-таки хрюшек мы побаивались. Нас чаще всего хватало на то, чтобы просунуть под досками на полу картофелину и наблюдать, как очередной пятачок лакомится, показывая немаленькие зубы.
Играли мы и я в прятки, и тогда, понятно, в дело шел сеновал, из которого было несколько выходов. Играть в прятки в деревне – это было что-то очень отличное от игры в городе.
Была у нас возможность забираться и на чердак самого дома, по высокой приставной лестнице, но там было пусто и, следовательно, не так интересно, как на сеновале – никакого сравнения. Я, помню, любил изредка забраться туда, чтобы с другой стороны, выходящей на дорогу и луг, полюбоваться пространством через маленькое окошко, до которого с трудом дотягивался. На чердаке был специфический приятный запах мелких опилок и сухого дерева балок.
Возле лестницы, тоже с задней стороны дома, был вход в глубокий подвал под домом, где бабушка хранила творог, другую молочку, огурцы в бочках, а в кадках там дозревали моченые яблоки – специфическое лакомство беларуской деревни. Помню, кто-то из нас с удовольствием помогал бабушке или маме в коротком походе в погреб: что-то подержать, какую-нибудь емкость, или даже забраться рукой в бочку, чтобы самому достать то, что просили взрослые.
Дом, очень небольшой, состоял всего лишь из двух просторных комнат и сеней, в первой комнате была печь – любимое место детворы в холодное время года. Бабушка стелила там фуфайки, и уже нельзя было обжечься, как бы сильно не топили печь. Это было царство ленивой неги: лежать на теплой поверхности и ни о чем не думать, даже не обращать внимания на разговоры взрослых, там, «внизу».
Иногда в деревню нас приезжало буквально несколько человек, но бывало, что детей оказывалось сразу много. Помню, как во второй комнате нас раскладывали по кроватям и диванам, вперемешку со взрослыми, как где-то за окном стрекотали кузнечики или лаяли собаки, изредка тишину нарушала проезжавшая машина, а мы постепенно засыпали, прекращая свои бесконечные расспросы.
Кушали мы всегда в передней комнате, именно там стоял общий стол и находилась печь. Помню, как бабушка доставала рогатым ухватом горшки из алого нутра раскаленной печи. Я завороженно смотрел внутрь, в царство оранжево-красного пространства, пока не звали вернуться за стол, где часто была яичница с салом, и я, который в детстве никогда сало не любил ни в каком виде, съедал немного, не осознавая разницу между обычной едой и приготовленной в печи. Это были дружные обеды или ужины, простые и теплые, сытные и неторопливые. Это был тот простой быт, о котором мечтают все семьи, даже если не осознают этого. Та жизнь, которую можно назвать простым человеческим счастьем.
Спустя годы, после большого перерыва, когда мне доводилось проезжать мимо старого дома, пустого, умирающего, но все еще живого, я всегда тихо шептал, благодаря дедушку и бабушку, что они родили мою маму, а она родила меня.
10. Двоюродная сестра
Чаще всего я играл в деревне именно с двоюродной сестрой Любой. Все-таки ее братья для того времени сильно отличались по возрасту, чтобы с ними играть – Паша намного старше, а Леша – намного младше. Кроме того, именно ее отец, дядя Федя, единственный в те годы имел машину и привозил или отвозил нас, если мы не пользовались рейсовым автобусом.
Однажды он жестко пошутил со мной, чем надолго испортил мое мнение о нем. Я уже со всеми сидел в машине, и мы собирались уезжать, но моя мама задерживалась, и дядя сделал вид, что уедет без нее. Я кричал, чтобы он подождал маму, он вроде соглашался, чтобы спустя пару секунд заявить, что все, раз ее нет, он уезжает, а она все не являлась. Он едва не довел меня до истерики, сам того не понимая, а может он просто испытывал странное извращенное удовольствие от моего натурального испуга, ведь, по его-то мнению, ничего страшного не происходило. Так или иначе, после этого случая я уже не садился в машину один без матери. По мне так его шутка была явно неудачной.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: