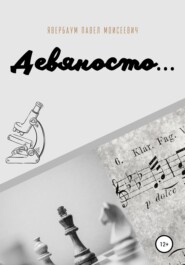скачать книгу бесплатно
Девяносто…
Павел Моисеевич Явербаум
Павел Моисеевич Явербаум – (род. 1932) иркутянин, представитель одной из известных в Иркутске медицинских династий, доктор медицинских наук. До 2013 – профессор кафедры биохимии Иркутского государственного медицинского университета. В этой книге воспоминаний – российский ХХ век, наиболее полно – Иркутск, Сибирь во второй половине ушедшего столетия. Среди увлечений П.М. Явербаума – любовь к медицине, к биохимии, музыка, автомобильные путешествия и шахматы. Через истории семьи и людей, с кем довелось встречаться по жизни автору – срез жизни глазами человека разносторонних интересов.
Павел Явербаум
Девяносто…
Памяти моей жены Неллы Петровны и любимому городу Иркутску посвящаю эту книгу воспоминаний.
П.М. Явербаум
Предисловие
Мне скоро 90. Эта книга написана так, как я помню все события и людей, с которыми мне пришлось встречаться, жить, работать, отдыхать, о которых я читал или слышал. Мне хочется рассказать здесь о своем времени и об Иркутске, в котором я прожил почти 80 лет, о моих родных людях, друзьях, которые меня воспитали и сделали тем, кто я есть. Писал я эту книгу с перерывами – небольшими и длительными.
Скоро всё закончится навсегда. Страшно? Но что делать. Это неизбежно. То, что имеет начало, – всегда кончается. Это совершится «как ни крути». Человек, естественно, боится этого перехода от жизни в небытие. На первом курсе мединститута нам лекции по физиологии читал профессор Алексей Иванович Никитин. В последней лекции он говорил, что продолжительность жизни человека примерно 100 лет, и в этом возрасте уже надоело болеть и хочется покоя. Наверно это так. Организм должен как-то к этому состоянию перестраиваться. Но всегда пугает переход от жизни к небытию. Кто-то однажды сказал одну фразу из еврейской молитвы: «Боже, не дай мне лёгкой жизни, а дай лёгкую смерть». И всё-таки dum sp?ro, spеro – пока дышу – надеюсь. Надеюсь, оставить после себя память, очень надеюсь. Может быть, в этом и есть смысл жизни…
Закончив первый вариант этой книги в 2019-м, я поделился ею с родными и знакомыми, с теми кто связан с Иркутском, и кто никогда там не был, и оказалось, что мои воспоминания «оживили» многие события и факты, происходившие, не только в моей семье, в родном городе, но и в стране… Почти все, кто прочитал, задали мне какие-то вопросы: или про события, или про людей, которых я упомянул. Мне даже позвонил один молодой историк из Иркутска, пишущий книгу о культурной жизни города середины ХХ века. Он попросил подробнее вспомнить некоторые факты, описанные в моей книге, так как они оказались важны для его работы. Все это подтолкнуло меня взяться за редакцию и дополнения… И как раз среди прочих книг в это время читал я один современный роман[1 - Е.Водолазкин, «Авиатор», 2019], где с главным героем, пишущим воспоминания, есть такой диалог, тронувший меня:
– Что вы все пишете?
– Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.
– Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех.
– Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую частицу этого мира….
Знаете, наверное, все это не зря… Исторические факты описаны в летописях, учебниках, а вот ощущения, люди, предметы…все это, очевидно, передается только через воспоминания свидетелей. И поскольку мои 90, действительно, были насыщены интересными событиями и встречами с замечательными людьми в Сибири и не только, пока еще что-то помню, постараюсь оставить это потомкам…Так или иначе, вся моя жизнь связана с Иркутском и с Иркутским медицинским университетом.
Огромную благодарность за вклад в эту книгу я приношу моей невестке, Оксане Явербаум, которая отредактировала «работу моей памяти». Без ее советов, тщательной проверки фактов и добавления в книгу новых данных все было бы не так. Я надеюсь, что эта книга будет полезна иркутянам, интересующимся историей родного города.
Февраль 2022
Родители
Я родился 1 июня 1932 года в районном центре Иркутской области Черемхово в семье врачей. Мой отец стал главным врачом Иркутского областного кожно-венерологического диспансера, главным дермато-венерологом облздравотдела, кандидатом медицинских наук, Заслуженным врачом РСФСР. Мать – Зинаида Тихоновна Сенчилло-Явербаум – доктором медицинских наук, профессором хирургии, заведовала кафедрой в Иркутском мединституте.
В Черемхово мы прожили до 1936 года, я ничего не помню об этом времени. С кем работали и дружили в Черемхово мои родители? Конечно, я лично не мог знать эту группу друзей и коллег папы и мамы, но кое-какую информацию я имею, т. к. видел старые фотографии и слышал рассказы родителей о заснятых на них людях. Многие стали заметными личностями в медицине Иркутска и области, еще упомяну кого-то из этой дружной «черемховской общаги».
Иосиф Лазаревич Шварцберг врач-травматолог, в годы войны он руководил эвакопунктом при облздраве. После войны защитил кандидатскую диссертацию, был назначен директором Иркутского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава РСФСР. Иосиф Лазаревич одним из первых иркутян был владельцем личного автомобиля «Москвич-402». После войны личные автомобили только входили в быт, а я мечтал стать автолюбителем. В семье Шварцберга родился чудесный внук, но у дочери Иосифа Лазаревича Анны личная жизнь сложилась неудачно, и воспитанием мальчика занимались она и дедушка, который корректно, постепенно и умно привил ребенку любовь к травматологии, и внук его стал доктором медицинских наук.
Эмма Моисеевна Лифшиц стала отличным хирургом, кандидатом медицинских наук, принимала участие в войне с белофиннами, затем работала ассистентом кафедры госпитальной хирургии Иркутского мединститута. Её сестра Фрида Моисеевна была замечательным организатором здравоохранения, в последние годы жизни заведовала оргметод. кабинетом в областной больнице.
Макс Яковлевич Баренбаум был аптечным работником в Советской армии и в последнее время заведовал аптекой в Областной больнице.
И еще в памяти осталась одна женщина-врач – Гутя (так звала её моя мама) Новомейская. Совсем недавно, читая прозу известной писательницы Дины Рубиной «Медная шкатулка», 2015 г., я прочел большой рассказ «Баргузин». В посёлке Баргузин, расположенном на восточном побережье озера Байкал, проживало много евреев, высланных царским правительством из центральной России и Польши, в том числе и большая семья Новомейских. В начале 1920-х годов все Новомейские уехали кто куда, и глава клана в итоге оказался в Палестине. Моисей Новомейский стал основателем химической промышленности Израиля. Может быть, врач с такой фамилией в конце 30-х годов оказался в Черемхово! Да и фамилия Майзель (эту фамилия прадеда Дины Рубиной) была у хирурга, работавшего в факультетской клинике Иркутского мединститута в конце 30-х годов.
О моем папе. Мой отец родился в Иркутске в 1902 году. В 1929 году окончил медицинский факультет Иркутского государственного университета, после чего работал в г. Черемхово дерматовенерологом. В 1936 г. он переехал в Иркутск, где проработал 40 лет, до конца своих дней. Его корни уходят в Польшу, в городок Луков Седлецкой губернии, на территории которой где-то с XVI века проживала большая еврейская община.
Папа был первым из Явербаумов, получивших высшее образование. В годы Великой Отечественной войны он служил начальником эвакогоспиталя 1476 в г. Иркутске, который был развёрнут в помещении финансово-экономического института. В 1943 и 1944 гг. им получены две телеграммы верховного Главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина за самоотверженную работу и шефскую помощь Красной Армии. В 1946 г. за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны получил благодарность от наркома здравоохранения А.Т. Третьякова.
Отец был умным, жизнерадостным человеком. Он любил детей. Маленьких мальчишек и девочек он всегда, возвращаясь с работы, угощал конфетами, шутил с ними, дети к нему прямо-таки «липли». Достаточно хорошо характеризует отношение отца к людям следующее событие (эту историю в интернете в 2015 году – удивительно случайно нашла моя невестка – жена младшего сына – Петра – Оксана).
В международном литературно-культурологическом издании «Зарубежные задворки» 5/1, май, 2009, День Победы, вышла статья Владимира Кремера, который во время войны был с матерью эвакуирован в Иркутск. Владимиру было тогда 5 лет. Его мать работала в канцелярии госпиталя.
«Зимой 1943 года мама заболела крупозной пневмонией. Она лежала дома практически без помощи, с температурой под 40, иногда в бреду, а я, пятилетний, плакал и просил её не умирать. На второй день пришли двое солдат с носилками и одеялами (был сильный мороз) и сказали, что начальник госпиталя приказал доставить маму. Её унесли, а я остался один, и меня забрала мамина подруга, жившая вблизи нас. Начальник военного госпиталя Моисей Яковлевич Явербаум был добрым и обаятельным. Мы были знакомы семьями, и они с женой предлагали забрать меня в свою семь до нашего возвращения в Москву, считая, что так будет легче маме и сытнее мне. У них было двое детей, и они искренне готовы были взять меня третьим (у моих родителей был один сын – это я, а второй ребенок, вероятно, была соседская девочка – Тамара Белорусова – П.М.) Надо отдать себе отчет в том, что М.Я. Явербаум в качестве должностного лица приказал положить в военный госпиталь человека гражданского, не имеющего на это никакого права. Эра антибиотиков в то время ещё не наступила, пневмонию лечили сульфидином, который шел на вес золота. И, наконец, в госпитале не было женских палат. Было приказано положить маму в маленькую одноместную палату, смежную с 10-местной офицерской, куда обычно выносили агонирующих. Её начали лечить сульфидином, который был строго учетным и потому его было необходимо на кого-то списывать. Не подлежало сомнению, что в случае доноса начальник госпиталя по законам военного времени шел под трибунал…».
В 2016-м благодаря этой статье невестка Оксана нашла Владимира Кремера через интернет, он теперь живет в Германии. Они списались и, когда Владимир был в Москве в 2017-м, мы встретились с ним и его женой Ольгой. Владимир и Ольга тоже врачи. Мы был знакомы с ним, когда мне было 11, а ему 5–6 (я, конечно, это плохо помню)! И вот такая невероятная встреча произошла у нас через 74 года. При встрече Владимир рассказал, что его мать всегда вспомнила, как мой отец спас ей жизнь, как, оказывается, помог вернуться в Москву из эвакуации, когда у нее не хватало денег на билет – отправил сопровождать раненного солдата, оформив командировку, а на билет сыну ей хватило денег.
После окончания войны отец с большим рвением стал заниматься организацией Областного дерматологического диспансера, который он создал и был его бессменным руководителем до выхода на пенсию. В 1954 году он защитил кандидатскую диссертацию, обобщив свою работу «Сифилис в Иркутской области и борьба с ним». В 1964 году его наградили знаком «Отличник здравоохранения». В 1969 году папе присвоили звание «Заслуженный врач РСФСР».
В предвоенные годы он совмещал работу организатора здравоохранения с преподаванием на кафедре кожных и венерических болезней. Учитывая его заслуги в организации борьбы с этими заболеваниями, его имя занесли в книгу Почета Иркутского областного отдела здравоохранения. Отец был награжден орденом «Знак почета» и медалями за победу в Великой Отечественной войне и за победу над Японией.
У папы был обширный круг друзей в Иркутске – Константин Седых (автор известного романа «Даурия»), Георгий Марков (впоследствии был Секретарем союза писателей СССР), Борис Костюковский (писатель, драматург, автор книг «Сибиряки», «Снова весна»[2 - Герои повести «Снова весна» (1948) – врачи и пациенты иркутского эвакогоспиталя 1476, где Б.Костюковский работал зам. начальника по полит. части, а отец мой был начальником этого госпиталя. Прототипом одного из главных персонажей – хирурга Василия Герасимовича – был доктор В.Г. Шипачев (о котором я еще буду упоминать).] и др.), Агния Кузнецова, поэт Анатолий Ольхон, редактор газеты «Восточно-Сибирская правда» Семен Моисеевич Бройдо, корреспонденты этой газеты А.Богашов, М.Давидсон, Э.Шмулевский, М.Калихман, С.Апарцин, директор Иркутского драматического театра О.Волин.
Умер папа в 1976-м. Его смерть была мгновенной, в этот день я его посетил, он был в отличном настроении, после моего ухода пришла к нему мама, и он вдруг у неё на глазах скончался.
Мама – Зинаида Тихоновна Сенчилло-Явербаум. Она родилась в 1905 году в селе Пищалово Могилёвской губернии и провела трудное детство. Её мать Мария Сильвестровна Кориневская умерла, когда маленькой девочке было всего 5 лет, а брату Коле – 7. Отец Тихон Федорович – железнодорожник – в годы войны переезжал в различные регионы страны, с ним «мотались» и дети. До революции (1912–1917 гг.) мама успела закончить церковно-приходскую школу, и среднее образование у неё скомкалось, т. к. отца по службе переводили с одной станции на другую. Наконец, мама получила среднее образование и поступила в Иркутский госуниверситет на медицинский факультет, который закончила в 1929 году. Там она и познакомилась с моим папой. После окончания учебы мама работала в посёлке Маритуй, расположенного на восточном берегу Байкала. Затем она проходила подготовку по хирургии в Областной больнице и потом поехала работать хирургом в город Черемхово Иркутской области. Позднее была принята в аспирантуру по хирургии на кафедру факультетской хирургии Иркутского мединститута. Кандидатская диссертация «Соотношение свободной соляной кислоты и пепсина при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки». Выполненная под руководством профессора К.П. Сапожкова, работа актуальна и в наши дни. Степень кандидата наук была утверждена – выдан диплом ВАК – в 1946 году. С 1942 г. маму утвердили в должности доцента по кафедре «хирургия».
С 1954 г. мама возглавляла кафедру госпитальной хирургии. В 1955 году защитила докторскую диссертацию на тему «Болезни оперированного желудка». Все сотрудники кафедры, руководство медуниверситета, хирурги Сибири, да и всей страны считают Зинаиду Тихоновну одним из пионеров реконструктивной хирургии пищевода. Под её руководством разработаны методы оперативного лечения при язвенной болезни и раке желудка, пищевода, хирургического лечения панкреатита, дивертикулов двенадцатиперстной кишки, рубцовых сужений пищевода, усовершенствована методика проф. К.П. Сапожкова при «трудных язвах» двенадцатиперстной кишки. Она была делегатом 28 съезда хирургов СССР. Избиралась депутатом Иркутского городского Совета депутатов трудящихся. Зинаида Тихоновна занесена в «Книгу Почёта» Исполкома облсовета депутатов трудящихся 1963 г.
Мама подготовила замечательных хирургов-врачей и преподавателей (Б.И. Чуланов, В.К. Кочубей, В.В. Яо, В.В. Манн, Э.М. Лифшиц, А.В. Васюхина, З.В. Андриевская, В.Н. Ванеева, Г.Ф. Жигаев и другие). Маму высоко ценили ее коллеги Иркутского государственного медицинского университета и хирурги других регионов России.
В 2015 году состоялось заседание ученого совета Иркутского государственного медицинского университета, посвященного 100-лет со дня рождения профессора Сенчилло-Явербаум Зинаиды Тихоновны. Этой дате была посвящена большая статья в Иркутской областной медицинской газете «Медик» (8, октябрь, 2015).
Вспоминаю об одном случае. Примерно так в году 1966 я был на курсах повышения квалификации по биохимии во втором московском мединституте. В фойе института была устроена выставка фотографий профессоров различных вузов России, и я на этом стенде увидел фото мамы. Фотография была очень удачная, лицо у мамы было красивое, она улыбалась. Под фотографией была подпись-«доктор медицинских наук, профессор Зинаида Тихоновна Сенчилло-Явербаум» и далее место работы и должность. Ко мне подошел какой-то молодой мужчина и тоже стал рассматривать стенд. Я повернулся к нему сказал: «Это фото профессора Сенчилло». Он поправил меня: «Не Сенчилло, а Сенчилло-Явербаум». Я подумал, что, видимо он хорошо знал такого хирурга.
Бабушки и дедушки. Как они попали в Сибирь Российской Империи?
Кратко о еврейской родословной отца. Почему-то в детстве, юности я не расспрашивал его о семейной истории. Как-то было не принято, такие были времена… Историю семьи «вглубь» раскопали уже мои невестка и внучки, как это не удивительно. С середины 1700-х годов Явербаумы жили в Польше (в те времена части Российской Империи). Где-то в этот период и начали евреям, оказавшимся на этих территориях давать фамилии. Фамилия Явербаум, очевидно, и появилась в конце 1700-х. Дедушка отца Моисей-Лейб (Мойше-Лейб) Явербаум был учителем в г. Луков Седлецкой губернии, имел 6 детей, один из них – Янкель-Аарон (Яков), мой дедушка, родился в 1869 году.
Надо сделать небольшое отступление здесь о положение евреев в России в 19 веке и начале 20-го. Отношение к евреям у государства было неоднозначным. Вводились разные правовые ограничения, как, например, известная «черта оседлости», за которую нельзя выезжать. Ограничения ухудшали жизнь, и часто приводили семьи евреев к отчаянному положению. Одно время евреям было разрешено свободное переселение в Сибирь (нужен был приток народу для освоения территории), и многие евреи добровольно ехали в эти суровые края за лучшей долей. Законы же менялись «туда-сюда» относительно евреев, и переселение в Сибирь им снова запретили в конце 19-века. Но, видимо, для многих в отчаянном положении переезд в Сибирь из «черты оседлости» был привлекателен, так как вселял надежду на улучшение жизни. И евреи искали разные пути, как в Сибирь попасть, вплоть до того, что некоторые даже специально совершали незначительные преступления или прибегали к самооговору – признавались в совершении преступлений, за которые полагалась высылка в Сибирь (мелкие кражи, ложь под присягой и т. п.). В таком положении оказались и мои предки.
Прадед умер довольно рано, старшие его дети были уже совершеннолетними, а младшим – Янкелю (Якову) – моему деду – и Пинхасу (Павлу) было всего 14 и 9. Яков с юных лет стал заниматься сапожным ремеслом. В 1894 году по приговору Седлецкого окружного суда за «составление Луковской воровской шайки по лишению всех прав состояния ссылается на поселение в не столь отдаленные места Сибири».
Каким он был в 24 года, еврейский парень, прибывший в Сибирь? «2 аршина, 4 4/8 вершка, волосы русые, глаза серые, нос обыкновенный». Распределён Тюменским приказом о ссыльных 16 августа 1894 г. в Иркутскую губернию, «должен следовать в ножных кандалах». В Алфавите ссыльным мужчинам, поступившим в Иркутскую губернию, значится Явербаум Яков Аарон Мошков. По постановлению Иркутского губернского правления от 30 сентября 1894 года назначен в Новоудинскую волость, куда и прибыл 25 июля 1895 г.
В 1900 году – в 31 год – он женится на дочери ссыльнопоселенца Менделя Гринберга Фрейде, которой было 17 лет. Мендель Гринберг был сапожником из Владовского уезда Седлецкой губернии в Польше. Вместе с семьей был осужден за какое-то «ложное показание под присягою» и сослан в Тутурскую волость Верхоленского уезда, куда прибыл в возрасте 30 лет 4 марта 1893 года с женой Тойбой (Таубе Рейзе) 29 лет и четырьмя детьми, старшей из которых дочери Фрейде было 7 лет (это и была моя любимая бабушка Фенечка, так мы ее называли дома). Я помню, сразу после победы над фашистской Германией Мендель и его жена Тойба вышли из дома и на скамеечке грелись на солнце. Они выглядели очень худыми и старенькими. Я их называл «маленький дедушка и маленькая бабушка». И, на самом деле, мои прадедушка и прабабушка Гринберги были низкого роста. В архивной справке о ссыльнопоселенце Менделе Шмулеве Гринберге значатся его примеры: рост 1 аршин 14 вершков. Это примерно 135 см.
Детей у Гринбергов было много. В ссылку они приехали с 4 детьми, оставив старшего сына Моисея в Польше (ссыльным евреям не разрешалось забирать детей мужского пола старше 7 лет с собой). В Сибири родилось еще шесть детей. Кроме моей бабушки Фрейды – Фенечки, мы семьями дружили с Фрадой, Сарой, Самуилом, которые тоже жили в Иркутске. Эти самые младшие сестры и брат бабушки Фрейды были фактически ровесниками и младше ее сына, моего отца. Еще одна сестра Надя оказалась в Свердловске, другая Ревекка в Краснодаре (эта семья не успела эвакуироваться до фашистской оккупации и погибла мученической смертью в газовой камере).
Стоит благодарить судьбу, что мой дед Яков Явербаум и прадед Мендель Гринберг оказались в Сибири в конце 19 века. Ведь как сложилось судьба их родственников, находившихся в Польше к началу Второй мировой войны, страшно подумать. Еврейская община там была большая. Из 12 000 человек населения г. Лукова 50 % составляли евреи. В мае 1941-го фашисты сформировали в нем гетто, куда загнали всех евреев Лукова и свозили евреев из близлежащих окрестностей. Все они были уничтожены, казнены в гетто или отправлены в лагеря смерти. Гетто в Лукове было перевалочной базой для отправки евреев в лагерь смерти Треблинку, оно было уничтожено в 1943 м. Я читал, что всего около 150 евреев Лукова пережили Холокост.
Для еврейских семей свойственно поддерживать отношения с родными. У бабушки Фрейды в Сибири было много родственников, а у дедушки Якова родных в Сибири не оказалось. Но он как-то смог в те непростые времена (ведь телефонов не было, почта шла трудно представить себе, как долго!) сохранить отношения с семьей в Европе, с младшим братом Пинхасом (Павлом), который стал раввином в Варшаве, у него было одиннадцать сыновей и одна дочь. Деда навещал в Иркутске сын Пинхаса племянник Яков со своей семьей. Яков был примерно одного возраста с моим отцом, и двоюродные братья долгие годы поддерживали связь. Какое-то время даже Яков жил в Иркутске.
В конце книги помещена фотография, на которой снимок моего папы, бабушки и дедушки. На снимке стоят его двоюродный брат Яков с женой, и сидит маленький мальчик Додик (Давид). Эта фотография сделана в Иркутске во времена НЭПа, где-то в 1929 году. Яков (племянник деда) тогда владел магазином женских головных уборов, который был расположен на центральной улице города – Карла Маркса. Реклама магазина была помещена в областной газете «Восточно-Сибирская правда». Вскоре семья Якова уехала из Иркутска. Я только знаю, что они жили в Крыму, а потом началась война, Яков ушел на фронт, жена его еще до войны умерла. После ранения на фронте Яков Явербаум жил в эвакуации в Самарканде с тещей и с сыном. Там же он женился второй раз и в 1943 году у них родился сын Павел Яковлевич Явербаум (сын его Давид Явербаум, который нашел моего сына Петра через интернет несколько лет назад, и теперь они поддерживают связь, сейчас живет с семьей в Израиле). После войны вся семья перебралась в Ригу. Яков умер в 1949 году. Давид сменил имя, стал Владимиром.
В 1974 году в Риге проходил Всесоюзный биохимический съезд, я был выбран делегатом, и тогда мы встретились с Володей и его женой Лидой (она в то время тяжело болела). Володя показал мне знаменитый Рижский орган в Домском соборе сходили мы с ним в ресторан «Кенгуракс», побродили по городу. Их сын Олег закончил медицинский институт и работал судебно-медицинским экспертом. К сожалению, с Олегом и его женой я не смог повидаться. Жена Володи через некоторое время умерла, умерла потом и жена Олега. У Олега есть дочь Светлана. Сейчас по мужу Будовская, Светлана адвокат, живет в Риге с мужем и двумя детьми … Володя (Давид) Явербаум трагически погиб в 2008.
Дедушку Якова Явербаума я не помню, он умер, когда мне было 3 или 4. А с бабушкой Феней мы очень любили друг друга. Она прожила долго, застала правнуков, умерла в 1968 в 85 лет. Она мне рассказывала, что в начале 1900-х они с дедом делали дома папиросы. Я видел у нее сохранившиеся заготовки для папирос (гильзы-трубочки без табака), металлические палочки, которыми набивали табак. Однажды к дедушке обратился Иркутский генерал-губернатор с просьбой изготовить большую партию папирос к следующему дню (был назначен какой-то прием гостей). И вот, за сутки бабушка с дедушкой сделали большое количество папирос, таким образом выполнив заказ генерал-губернатора.
О 1937–38 годах – начале массовых репрессий сам я не помню, поскольку был ребенком. Но из числа моих родственников был арестован мамин брат – дядя Коля Сенчилло, он работал машинистом на железной дороге. Но ему повезло. В заключении он провёл несколько месяцев, потом его отпустили: был период, когда небольшую группу заключённых освобождали. Когда началась война, он с семьёй оказался в Монголии, где работал на строительстве железной дороги. Вернулся он в Иркутск после окончания войны. Жил с женой Леной и двумя сыновьями (моими двоюродными братьями – Николаем и Юрием Сенчилло) в Ангарске. Когда тетя Лена скончалась, младший из братьев, Николай, женившись, переехал на Дальний Восток, где работал директором совхоза, и забрал с собой отца, дядю Колю. (Из родственников мамы мы поддерживаем связь с дочерью моего второго двоюродного брата Юрия Сенчилло Леной, живущей в Ангарске (она стала федеральным судьей, сейчас на пенсии). С ней и ее мужем-адвокатом был дружен мой старший сын Александр.)
Арестовали младшего бабушкиного брата – Григория Гринберга (1900 года рождения) – арестовали и расстреляли. Сейчас на месте массового захоронения расстрелянных в эти годы (это место называлось в народе почему-то «Дача Лунного короля») – в окрестностях города Иркутска в деревне Пивовариха поставлен мемориал, и дочь Григория – Мина бывает на месте гибели своего отца и наводит какой возможно порядок. (Мина Григорьевна, учительница русского языка и литературы. В школьные годы моего младшего сына Петра Мина немного занималась с ним.)
Мой отец избежал ареста. Как он мне потом уже рассказывал, о предстоящих арестах его предупредил кто-то из его пациентов, работавших в НКВД, и папа уехал летом 1937 года на курорт в какой-то кавказский санаторий. Когда он вернулся на работу, аресты в Иркутске и Черемхово уже прошли, стало как-то спокойнее. Мама тоже период арестов провела в Крыму, у неё обострился туберкулёз, и врачи-фтизиатры направили её лечиться.
Вот так известные в истории 1937–38 годы большого террора коснулись моих родных.
Мой второй дедушка (мамин отец) – Тихон Фёдорович Сенчилло – потомок, скорее всего внук, итальянского солдата наполеоновской армии, который при переходе через реку Березину в 1812 году остался в тех краях в Могилёвской губернии на границе с Польшей.
Тихон Сенчилло родился в 1869 году. Он женился на Марии Сильвестровне Кореневской. В 1902 году у них родился сын Николай, а в 1905 году – дочь Зинаида, моя мама. Это всё происходило в селе Пищалово Могилёвской губернии. Вскоре после рождения дочери Мария Сильвестровна умерла от туберкулеза, и дедушка остался один с двумя маленькими детьми. Он получил какое-то железнодорожное образование, работал в разных местах по своей специальности. Во время Октябрьской революции он проживал в Ревеле (теперь это Таллин), потом его переводили в Сибирь, в Красноярск, Канск. Мама и ее брат поменяли несколько школ. Мама закончила среднюю школу в городе Канске в 1924 году (около 200 км от Красноярска). Дедушка Тихон переезжает в большое село Иркутской области Худоеланское, где остался до конца жизни (1953 г.).
Дедушка Тихон вторично женился на Анне Никандровне Аргуновой. В возрасте 79 лет он снова стал отцом, в 1948 году, у него от Анны Никандровны родилась дочь Мария. Мария выросла, вышла замуж, работала преподавателем русского языка и литературы. Два раза приезжала к нам Иркутск на медицинское обследование. Но потом я о ней никакой информации не имел. Знаю, что у нее был сын. А к дедушке в Худоеланское мы с мамой приезжали летом в 1944 г.
До войны мы с мамой часто ходили в лес за грибами. Мама мне показывала, какие грибы хорошие, а какие поганые, ядовитые. И эти знания остались у меня на всю жизнь. Однажды мама взяла меня с собой в Иркутск. Почему – я не знаю. Её приняли в аспирантуру на кафедру факультетской хирургии госуниверситета и ей надо было, по-видимому, уже начинать работать. И мы с ней поехали в Иркутск – два часа на поезде «Ученик».
И вот я маленький в Иркутске – первый раз в жизни. Мы приехали с вокзала прямо в гостиницу «Сибирь» (она была построена в 1934 году и тогда носила название «Центральная»). Это в центре города, на улице Ленина. В то время, наверно, это была единственная гостиница в городе. (Много позднее, в 1995 м, в этой гостинице случился чудовищный пожар – сгорело половина здания). Нам дали номер, и мы с мамой в нем расселились. Забегая вперед, скажу, что как только началась война, помещение гостиницы сделали эвакогоспиталем, начальником которого назначили моего отца.
Помню, как однажды, в первые дни войны, я взял у бабушки большую оцинкованную ванну и принес ее прямо в кабинет отца. Там в это время было много народа, шло какое-то совещание. «Я принес металлолом для изготовления оружия, для борьбы с врагом» – сказал я. Отец на это ухмыльнулся, поблагодарил и велел мне отнести ванну обратно домой. «Мы потом решим вопрос о металлоломе» – сказал мне отец.
Последний раз я был в этой гостинице, кажется, в 1949 году. Там проживали мои новые знакомые – музыканты. (О них я потом напишу.) А в первый приезд мы с мамой в гостинице «Сибирь» жили недолго. Дня через два мы переехали к сестре бабушки – Фраде. Жили в этой семье какое-то недолгое время. Папа приехал работать в Иркутске, и вскоре ему дали квартиру – в центре города на улице Желябова, дом 3. В ней я и вырос, и родители мои прожили до конца жизни.
Иркутск моего детства и юности
Хочу немного написать об Иркутске, городе, который я любил и люблю. Я очень по нему скучаю, много думаю, вспоминаю свою жизнь, которая большей частью прошла в нем. Я очень понимаю людей, которые любят или любили Иркутск, как, например, поэт-фронтовик Юрий Левитанский, написавший слова к песне об Иркутске (с композитором Юрием Матвеевым, которого я в юности встречал). Это просто замечательная песня! Жаль, что теперь она позабыта! «Песня о нашем городе» когда-то частенько звучала в эфире иркутского радио, а её мелодия служила позывными радиогазеты «Вечерний Иркутск».
Студёный ветер дует от Байкала,
Деревья белые в пушистом серебре,
Родные улицы, знакомые кварталы,
Город, мой город, на Ангаре
Ю.Левитанский
Или Денис Мацуев – великий пианист, который ежегодно бывает в родном Иркутске с большой группой музыкантов. Напротив музыкального театра построили новый квартал: сделали в нём и «дом Мацуева». Денис, как-то, назвал Иркутск сибирским Зальцбургом. (А Зальцбург – город, в котором жил Вольфганг Моцарт).
Итак, об Иркутске: город расположен на берегу реки Ангары чуть более, чем за 5 тысяч километров от Москвы. Перед Иркутском даже есть железнодорожная станция «Половина». Через город проходит железнодорожная магистраль до Владивостока и делит Иркутск на две части – южную и северную. Сейчас эти части города соединяются тремя мостами (один из них – плотина Иркутской ГЭС). Самый старый мост – средний. Он идёт из центра города, по нему ходят трамваи. Два других моста (переходы через Ангару) – безрельсовые, трамваи по ним не ходят. Центр города расположен на правом берегу Ангары. На этом берегу реки замечательная набережная – бульвар Гагарина (раньше он назывался «Вузовская набережная»). Со стороны реки сохранились деревья, образовалась приятная парковая зона. От бульвара Гагарина на север отходят главная улица города – улица Карла Маркса, протяженностью примерно 2 километра. Эта улица заканчивается перед заводом тяжелого машиностроения имени Куйбышева (которого сейчас уже нет).
На бульваре Гагарина дома расположены только на одной стороне – правой. Левый берег Ангары тоже достаточно хорошо обустроен. Есть там пристань для кораблика, который перевозит пассажиров через реку. От бульвара Гагарина перпендикулярно отходит улица Карла Маркса. И в начале этой улицы с одной стороны – краеведческий музей, с другой – библиотека Государственного университета (сейчас построили новое здание библиотеки, по современному проекту, на противоположном берегу Ангары). На бульваре Гагарина, там, где начинается улица Карла Маркса, – стоит памятник Александру III. Этому памятнику повезло: в советское время верхняя часть памятника была снесена, и вместо фигуры императора поставили бетонный столб. Но потом памятнику вернули прежний вид. В этом месте – влево от памятника, приблизительно до 1950 года был большой забор, длиною 500 метров и это место называлось садом имени «Парижской коммуны». Вход в сад был платный. Недалеко от памятника играл духовой оркестр, в саду был и шахматный павильон, кажется, одно время была и комната смеха. Восточнее бульвара, тоже на правой стороне, находилась областная клиническая больница, а дальше бульвар Гагарина был неблагоустроен. Сейчас уже начался процесс благоустройства.
Теперь о левом береге Ангары. Там расположен железнодорожный вокзал и продолжается путь далее на Восток. Там же, на берегу Ангары была маленькая деревушка – Титово. Помню, как зимой из этой деревни, через замерзшую реку, к нам домой приходила молочница тётя Клава, которая часто приносила и свежую рыбу. Рыба была всякая – от щуки до тайменя. Бабушка Феня покупала любую рыбу, кроме щуки (ей не нравился её запах). Зимой сообщение с левым берегом было только по замерзшей реке. Только в 1936 году, построили мост, который стоит и сейчас. А до постройки моста, летом, стоял деревянный понтонный мост, который исчезал на зиму (этот период я помню смутно).
Сейчас на левом берегу Ангары вырос Академгородок. На главной улице этого микрорайона – ул. Лермонтова расположен студенческий городок (Политехнический институт). Из центра города до студгородка ходят трамваи. На этой улице много деревьев.
Вернёмся опять на правую сторону Ангары. К центральной улице Карла Маркса. Эта улица очень хороша: на ней жилых домов мало, больше общественных объектов (институт микробиологии и эпидемиологии, областной драматический театр красивой постройки), редакция газеты «Восточно-Сибирская правда»; центральный гастроном; были такие кинотеатры: «Художественный», «Хроника» и «Пионер» (теперь этих кинотеатров нет). Много небольших магазинов. В конце улицы, на месте бывшего завода тяжелого машиностроения, который делал драги для золотодобывающей промышленности (есть токая отрасль в городе Бодайбо, на северо-востоке Иркутской области) теперь разместился большой торговый комплекс. За ним стоит действующая церковь, во дворе которой один Иркутский коммерсант поставил памятник Колчаку. Это почти напротив Ангары, там, где был расстрелян адмирал. А дальше на север идет Маратовское предместье, оно мало изменилось с того времени, когда я переехал из Черемхово в Иркутск. Из самых известных новостроек там образовался очень крупный онкологический центр. На выезде из Иркутска построен большой жилой район. Маратовском предместье – это северные ворота города, от которых начинается Якутский тракт (его еще называют Качугским). На этом тракте, примерно на 100 км от Иркутска, интенсивное автомобильное движение до центра Бурятского национального автономного округа Усть-Орды.
На восток от центра Иркутска, через несколько улиц от Правобережного района, идёт Нагорный район. Это дорога в аэропорт и на озеро Байкал, в поселок Лиственичное. Удивительно, но аэропорт в Иркутске оказался в черте города, в конце улицы Советской. Самолеты взлетают в восточном направлении, а садятся с запада. Иногда прямо над жилыми домами, практически через весь город через этот район по улице Байкальской идет красивый автомобильный тракт на Байкал. По этой дороге мы с женой ездили на дачу, которая располагается на берегу залива Ангары, на 28 м км шоссе. Это чуть меньше половины расстояния до Байкала.
На западе Иркутска построен микрорайон Ново Ленино, это большой жилой массив. В конце этого района начинается Московский тракт. В центре построена дорога в объезд Иркутска, идущая до города Шелехов – на восток.
И вот папа получил квартиру в Иркутске. По тем временам это была шикарная жилая площадь. Дом на улице Желябова 3 был ещё царской постройки – раньше в нём находился ломбард. Стены толщиною более двух метров, окна с двойными рамами. Эта квартира на первом этаже имела вход со двора. Вход был только в одну эту квартиру из пяти комнат. Нам выделили две комнаты и кухню. В кухне была русская печь, в ней бабушка готовила пищу. Этой печкой отапливалась кухня, а комнаты отапливались «голландкой». Стены дома были настолько толстыми, что даже в зимние морозы в квартире было тепло. Мы быстро перебрались в квартиру, началась наша жизнь в Иркутске. Я, кажется, заболел, хотя и не замечал этого. Болезнь моя, как мне потом рассказали, заключалась в непрерывном подергивании рук и ног. Меня наблюдали лучшие доктора города: доцент Фельдгун (впоследствии он заведовал кафедрой детских болезней в мед. институте) и Миль (брат будущего известного конструктора вертолётов, кажется, он был родственником дяди Лёли – мужа бабушкиной сестры Сары). Мне поставили диагноз: малая хорея. Это вариант ревматизма, который проходит сам по себе, без какого-либо лечения. И, действительно, скоро симптомы хореи прошли, и мы о ней забыли (хорея – это, в переводе на русский язык, «ноги». Хореография, в дословном переводе, – запись ногами).
Девочка Тамара, которая жила со своей мамой в одной из комнат квартиры, была почти моей ровесницей. Мы с ней играли в куклы, у нас были еще какие-то общие игрушки. В хорошие дни мы играли на улице, к нам присоединялся мальчик из соседнего подъезда – Юра Левандовский. В нашем дворе находился детский садик. Меня туда записали, но я долго не мог привыкнуть, страшно плакал, потом привык. В те годы были стычки на восточной границе СССР – на озере Хасан, Халкин-Голе. Помню, как мы играли в пограничника Карацупу, задержавшего шпиона. Помню, как я участвовал в костюме медвежонка на новогодней елке. Научился читать. Мама мне покупала «книжки-малышки», они были чуть больше спичечного коробка. Очень много было детских книжек, в том числе и переведенных на русский язык немецких стихов и сказок, например, «Плюх и Плих». Лето, как всегда, мы проводили в поселке Мальта.
Мои родители, кажется, решили, что я уже подрос и мне пора заняться чем-нибудь нужным и в будущем полезным. Они отдали меня учиться немецкому языку. Нашли старушек: немку и её сестру-пианистку. Я стал ходить сначала к музыкантше. Жили эти бабульки недалеко от нас (на улице Степана Разина). Немецкому языку я пока не стал обучаться – родители решили, что это будет большая нагрузка. Водили меня к учительнице (имени её я не помню) два раза в неделю, и она мучила меня, как могла. Я должен был играть гаммы и правильно ставить на клавишу соответствующий палец. Это был ужас! Когда учительница отворачивалась, я начинал играть гамму одним пальцем. Однажды она это увидела, схватила линейку и стала ею бить меня по руке, по пальцам. Я начинал плакать как Ванька Жуков из рассказа Чехова. Мои уроки музыки продолжались недолго, почему-то меня перестали к ней приводить.
С немецким языком было по-другому. Мои родители были убеждены, что тогда мне необходимо было овладеть немецким, и что его надо учить с детства. В середине 30-х годов Германия набирала сил. У Советского Союза складывалось мнение, что это государство будет одним из ведущих в мире и, надеялись, дружественном с СССР. (Но получилось всё не так… И сейчас английский язык признан международным языком общения.) В начале войны к нам домой приходила старушка немка, она была достаточно доброй, но дела шли медленно. Звали мою учительницу Фанни Александровна фон Рингенберг. Жила она недалеко от нашего дома (на улице Свердлова), в какой-то разваливающейся хибарке. Она приходила ко мне 2 раза в неделю. Сколько рублей за уроки в месяц она получала от отца, я не знаю, но обязательно в её зарплату входили обеды. Ей очень помогал директор хлебозавода, и он её рекомендовал моему отцу. Я помню, что она ознакомила меня с готическим шрифтом, научила читать и писать. Какие-то книжки были у нее, какие-то у меня. Занимались мы с ней около 2 лет – она была очень старенькая и слабенькая. Вдруг она перестала ходить – тихо скончалась в своей квартире, и через несколько дней её похоронили (кажется, соседи).
То, что я учил до школы со старенькой женщиной-немкой так и осталось в моей памяти. Правда, совсем недавно я попробовал себя в давно забытым мною языке. В Москве, куда я переехал в 2013 году, уже подросла дочка Игоря, сына двоюродного брата мой жены Владимира Мейеровича, которая прекрасно знает немецкий. И я пробую с Ксюшей поговорить по-немецки. И у меня получается, хотя многие слова я уже, конечно, подзабыл. Я в шутку как-то спросил, какую оценку она бы мне поставила. Ксюша подумала и сказала «три».
Начало войны застало нашу семью в обычном для нас летом месте – в поселке Мальта Иркутской области. Я этот день отлично запомнил – с утра было солнечно и тепло. Только днем появилась информация о нападении немцев на нашу страну. Все мы стали собираться в Иркутск. Событий ближайших дней я не помню.
От Мальты остались какие-то отрывочные воспоминания. Помню, как с какими-то мальчиками моего возраста мы бегали на железнодорожную станцию и при виде приближающегося поезда быстренько подкладывали на рельсы пятикопеечную монету, после прохождения состава смотрели, как она сплющивалась, какой она становилась тонкой. Так делали мы частенько. А поезда шли на запад постоянно, в основном, товарные – один за другим. Пассажирские были в редкость; на одну минуту останавливались поезда дальнего следования – в Москву, Ленинград, а пригородные «передачи» мы ждали и встречали, надеясь увидеть знакомые или родные лица.
Помню, как с папой мы ходили в «дальний» магазинчик, он находился в метрах 600–800 от вокзала, кажется, это был ведомственный железнодорожный ларек. Там были в изобилии всякие разные вкусные вещи – коробки с лимонными дольками, фигурный шоколад (поросёнок-скрипач, рыбки, зверюшки), сладкая минеральная вода, мороженое и другие заманчивые продукты, например, красная икра в баночках. Вообще, эти предвоенные годы 1939–1940 у меня ассоциируются с продуктовым изобилием.
Помню две речки – Мальтинку – маленький ручеек, который заканчивался запрудой и небольшим прудом, в котором мы часто купались, и большую, Белую, приток Ангары. Эта река протекала по безлесной местности, через неё был деревянный мост и параллельно речки шел Московский тракт, а наша Мальта находилась на половине расстояния между Владивостоком и Москвой, так и называлась железнодорожная станция после Мальты – «Половина». Потом, когда я закончил среднюю школу, мы с другом Юрой Тржцинским один сезон отдыхали в доме отдыха «Мальта» (папа купил две путёвки – мне и Юре – подарок за окончание школы – Юре с золотой медалью, мне – с серебряной).
И последний раз я был в Мальте в 1956 году, когда мы закончили мединститут. Я с женой и маленьким сыном Сашей (родился в 1955) распределились на работу в г. Усолье, который был ближе к Иркутску на 15 км, чем Мальта. Но о городе, который сыграл большую роль в моей жизни, я напишу чуточку позже.
В 1940 году я поступил в одну из лучших средних школ г. Иркутска – мужскую среднюю школу № 11; началась совершенно другая жизнь. Я многое забыл, но первую учительницу – Веру Иннокентьевну Овчинникову – не забыл. Маленького роста, добрая, в меру строгая, она могла найти подход к каждому ученику. Вера Иннокентьевна «кудахтала» с нами и возилась как добрый и надёжный друг-воспитатель.
В Иркутске мы жили на улице Желябова 3, через переулок от нас был Дворец пионеров и школьников, следующий дом – через улицу Пролетарскую – был хлебный магазин; и сразу после начала войны возникла огромная очередь за хлебом – она была на весь квартал вокруг Дворца пионеров и нова возвращалась на улицу Желябова. Несколько раз я с мамой стоял в такой очереди, чтобы купить 2 булки хлеба (одну – мама, вторую – я). Вскоре ввели продовольственные карточки, и мы более спокойно и быстрее получали свою норму.
Во время войны мы с мамой летом в мамин отпуск и мои каникулы отдыхали в деревне – маме сделали операцию на легких (у неё обострился туберкулёзный процесс), и ей требовались более или менее спокойный режим, сон, питание. Два раза мы ездили к её знакомым (возможно, её приглашали бывшие пациентки – это моё предположение) и один раз мы провели месяц у дедушки Тихона в селе Худоеланское. Это было в 1944 году. Годом раньше мы были в селе Хохорск (колхоз Улан-цирик), а вот третье место я не помню.
Начну с Хохорска. Сначала всё было хорошо. Но вдруг… ночью мама проснулась от сильнейшей боли в животе. Я такой боли никогда не слышал, как будто бы резало по живому. Мама каталась по кровати и орала от боли. Прибежала хозяйка, набрала бутылку кипятка и стала катать эту бутылку по маминому животу. Боль – а её было страшно слышать – прошла через 3 часа, уже наступало утро. Утром мама показала мне камушек величиной с большой кедровый орех – это был камень, который по желчному протоку проходил из желчного пузыря в кишечник. Камень повредил стенки желчного протока и, возможно, поджелудочную железу, после чего у мамы стал развиваться сахарный диабет. Инсулина тогда ещё не было и лечение было симптоматическое – диета без углеводов и больше ничего. (Инсулин появился в аптеках приблизительно через 1,5 года. Мама стала его вводить и ей стало легче. Правда, уровень сахара в крови время от времени все-таки повышался.) Мы приехали в Иркутск, вскоре отпуск закончился, и мама вышла на работу и вроде бы всё пошло по-старому.
Приблизительно в шестидесятом году мамин ассистент – Эмма Моисеевна Лифшиц – защищала кандидатскую диссертацию, мамы была её руководителем и по ходу защиты диссертации должна была выступить с информацией о работе и о самой соискательнице. Мама вышла на трибуну и вдруг стала говорить непонятно что, совсем не относящееся ни к диссертации, ни к характеристике диссертанта, просто какой-то набор слов. Председатель Совета – ректор института профессор Никитин – быстро прервал её выступление и дал слово оппонентам. Инсулин в Иркутске уже был (кажется, индийский), и маму сразу же положили в клинику, и концентрация глюкозы в крови пришла в норму. Потом опять начались перебои с поставкой индийского инсулина – это был достаточно хороший препарат, мама перешла на другой – отечественный инсулин, который оказался значительно хуже индийского, и у неё никак не могли получить нужную концентрацию глюкозы в крови. Потом снова появился в аптеках импортный препарат и мамины дела стали чуть-чуть лучше. В конце концов ей пришлось оставить работу, и она ушла на пенсию.
Несмотря на наблюдение хорошего эндокринолога, инъекции качественного инсулина, постоянный контроль содержания сахара в крови, состояние мамы ухудшалось и мне пришлось организовать лабораторные исследования на дому. В этом мне большую помощь оказал старший сын Александр – он в то время работал в реанимационном отделении Иркутской железнодорожной больницы. С работы (я тогда заведовал Центральной научно-исследовательской лабораторией Мединститута) я привез домой необходимые приборы и реактивы, а со своей семьей жил недалеко и оставался ночевать и в любое время по необходимости мог определять у мамы концентрацию сахара.
Несмотря на все принимаемые меры, мама болела и 5-го марта 1985 года, у нее стало резко падать кровяное давление, она вдруг вскрикнула от боли в сердце и скончалась. Но это уже было потом. Наверно, совершенно случайно в момент её смерти к нам пришли почти все сотрудники кафедры госпитальной хирургии.
…В жизни у каждого человека есть несколько своих ярких дней. Часто событие определяет дальнейший ход существования. Вот первое такое знаковое явление для меня был выход из жёлчного пузыря у мамы камня и последующее неизбежное развитие сахарного диабета. Я тогда ещё был маленьким мальчиком и мне только было страшно видеть страдания матери – человека, связанного со мной огромным количеством невидимых нитей, а кроме страха я ничего не испытывал. Только много лет спустя я понял значение этого события. Были у меня и другие события, определявшие дальнейшее течение жизни, например шахматы, музыка, автомобиль – о них – по ходу воспоминаний.
После приступа желчнокаменной болезни в Хохорске мы прожили некоторое время, маме стало лучше, время отпуска заканчивалось, и мы стали собираться домой. Поехали на грузовике, двигатель которого из бензинового был переделан на газогенераторный; в кузове был поставлен баллон, в который закладывались небольшие чурки дров, дрова поджигались и когда начинал образовываться дым, то по шлангу он поступал в двигатель, и автомобиль начинал работать. Такая переделка двигателя в годы войны была весьма популярной.
Несколько дней шли сильные дожди, дорога превратилась в месиво грязи. Выехав днем, мы с мамой сидели в кабине, в кузове тоже были какие-то люди. Ехали мы очень медленно и к вечеру доехали только до посёлка Александровск, знаменитого Александровского централа. Дождь лил, как из ведра. С нами ехал какой-то молодой бурят, и он в довольно сильный дождь как-то смог развести на обочине костёр, и мы как-то согрелись. Из всех окон тюрьмы, которые были забиты досками почти до верха, шел пар… Уже позднее мне кто-то сказал, что в то время в Александровском централе находились будущие главы стран народной демократии – Болгарии, Венгрии, Румынии, не знаю, правда ли это…
В Александровский централ я приехал ещё один – последний – раз, в 1958 году. Тогда мы купили машину «Москвич» 403 и с женой решили прокатиться. До централа было километров 70, когда мы к нему подъехали, ворота были открыты и мы заехали на территорию. В здании уже не было тюрьмы, его перестраивали под психиатрическую больницу для пожилых хронических больных. Мы зашли внутрь здания и увидели работающего из областной клинической больницы плотника (в это время я работал заведующим лабораторным отделением этой больницы). Он нам показал камеры, в которых тоже шел ремонт. Больше в этом помещении я не был…
Еще одно лето мы с мамой провели в деревне. Эту поездку я помню плохо. Как называлась деревня, я не знаю. Мы были втроём, с нами ехал сын бабушкиной сестры Фрады – Миша Вассерман. Он был старше меня на 4 года. Он потом закончил горный институт, работал горным инженером, потом перешел в научно-проектный институт алюминиевой промышленности, был главным инженером проекта. В 89 лет он со всей семьёй переехал на постоянное место жительства в Израиль. Я помню, что мы много читали – библиотека в этой деревне была очень хорошая. Я прочитал несколько пьес Шекспира и достаточно много других книжек. Я запомнил, как мы с Михаилом раз в неделю ходили на молочную ферму за молоком. Нам выписывали 1 литр молока в день и раз в неделю мы получали 7 литров. Мы несли ведро на палке, это было легче и удобнее, ходить было далеко, мы даже с Мишей ссорились, но с поручением справлялись.
И, наконец, третья – последняя в годы войны – поездка в деревню к дедушке Тихону в село Худоеланское. Это очень большое село почти на границе с Красноярским краем, в те времена оно растянулось километров так на 5 вдоль железной дороги. Дом дедушки был почти крайним в восточной части села. Дом был небольшой, он стоял на опушке леса. У дедушки во дворе была маленькая пасека и он часто угощал меня мёдом с сотами. Как это было вкусно! Была ещё корова и бычок, кличка которого была «мальчик». На этом бычке мы ездили в поле на покос (дедушка научил меня косить, мама, правда, тоже умела). Бычка мы впрягали в телегу, у которой не было оглоблей, а вместо них были веревки. Надо было на склонах слезать с телеги и придерживать её так, чтобы она не накатилась на бычка. Я так привык поддерживать телегу на спуске, что даже когда нас на вокзале встречал папа на пролетке, я пытался соскочить и придержать повозку, когда дорога шла под уклон.