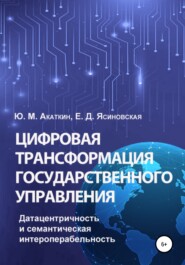скачать книгу бесплатно
• обеспечение трансграничного межстранового взаимодействия информационных систем разных юрисдикций;
• преимущественное внедрение инновационных бизнес-(организационных/процессных) и технологических решений;
• поэтапная интеграция новых и унаследованных информационных систем государственных органов в состав э-правительства.
В чистом виде каждый из этих подходов доминирует при реализации концепции электронного правительства, соответственно, в США, ЕС, Южной Корее (глава 2) и России (глава 3), что позволило назвать их:
американский стратегический подход; 2) европейский трансграничный подход; 3) азиатский технологический подход; 4) российский интеграционный подход. Выбор доминирующего подхода в каждой стране имеет свои исторические, культурные, политические и (или) научно-технические корни. Вместе с тем изучение накопленного опыта реализации этих различных походов к построению ЭП позволяет более точно сформулировать условия применения лучших сложившихся практик.
Глава 1 Концепция электронного правительства
1.1 Основные понятия
Электронное правительство – это, наверное, самый известный термин в области автоматизации государственного управления. По всей видимости [4], он был впервые использован в 1993 г. в ежегодном Обзоре по технологиям США.
В русскоязычной и англоязычной литературе есть десятки различных определений термина e-Government[2 - https://en.wikibooks.org/wiki/E-government/Definition]. В них не следует искать какую-либо строгость или научность, поскольку они формулируются под задачи, скорее всего, маркетингового плана, их «авторы» – это, как правило, консалтинговые глобальные и региональные компании, очерчивающие предмет своего бизнеса, который должен, по понятным причинам, иметь размытые границы. Например, вот определение, данное компанией Gartner еще в 2000 г. [39], на заре строительства первых электронных правительств в мире: «э-правительство – результат трансформации внешних и внутренних отношений государственного сектора с помощью проводимых через интернет действий, базирующихся на ИКТ, для оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и бизнесу, вовлечения в государственное управление избирателей и совершенствования внутренних административных процессов правительства». Сводная информация, отражающая эволюцию понятия э-правительства, приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Эволюция определений понятия «электронное правительство» [59][3 - Департамент по экономическим и социальным вопросам https://www.un.org/development/desa/ru/United Nations Department of Economic and Social Affairs http://www.un.org/desa]
Приведенные выше определения основаны прежде всего на формулировках целей электронного правительства, и в них, к сожалению, ЭП не рассматривается с системной точки зрения. Однако для нашего дальнейшего исследования важно подчеркнуть, что электронное правительство является социотехнической системой[4 - Спроектированная система, которая включает комбинацию технических и человеческих или природных элементов. The Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK), http://sebokwiki.org/wiki/Sociotechnical_System_(glossary)], в которую входят социотехнические системы органов власти, т. е. многочисленных государственных организаций, учреждений и предприятий, расположенных на различных административных уровнях власти. Совместная непротиворечивая эволюция этой «системы систем» для достижения поставленных целей является сложной системно-инженерной задачей, различным аспектам которой и посвящена эта монография.
Как видно из определений ЭП (см. табл. 1.1), изначально и вплоть до настоящего времени предоставление гражданам и бизнесу электронных услуг с помощью ИКТ остается главной функцией э-правительства. Для ее реализации необходима определенная предварительная реорганизация правительства, которая называется административной реформой. Она касается, в первую очередь, информационного взаимодействия министерств и ведомств при совместном предоставлении услуг гражданам и бизнесу.
Взаимодействие граждан и бизнеса с электронными правительствами различных уровней власти и э-правительств друг с другом можно проиллюстрировать следующей схемой (рис. 1.1).
Рис. 1.1. Расширенная схема взаимодействий электронных правительств с гражданами, бизнесом и организациями [24]
В сокращениях на рис. 1.1 G – первая буква английского слова Government (правительство), B – Business (бизнес), C – Citizen, Constituent, Customer (гражданин, избиратель или потребитель). Аббревиатуры G2C и C2G обозначают взаимодействия правительства и граждан, G2B и B2G – правительства и бизнеса, G2N и N2G – правительства и некоммерческих организаций. Взаимодействия между органами власти на одном или на разных административных уровнях обозначены G2G, а между органами власти и персоналом – G2E. Краткая характеристика этих взаимодействий приведена в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Краткая характеристика взаимодействий [24]
Безусловно, эти взаимодействия требуют наличия у пользователей (граждан, бизнеса и некоммерческих организаций) соответствующих средств доступа к сервисам электронного правительства, а у электронных правительств смежных уровней – средств взаимодействия друг с другом. В связи с этим возникли термины «электронный гражданин» и «электронный бизнес».
Электронный гражданин (e-Citizen, э-гражданин) – это гражданин, оснащенный средствами ИКТ – стационарными и/или мобильными персональными компьютерами, планшетами, смартфонами и др. гаджетами – для доступа в сеть интернет и через нее к услугам электронного правительства необходимого административного уровня. В соответствии с требованиями международного стандарта e-Citizen, который был разработан Фондом ECDL[5 - http://www.ecdl.org/], э-гражданин должен уметь использовать базовые офисные приложения на начальном уровне, выходить в интернет, проводить поиск информации, работать с порталами государственных служб (заполнять декларации, скачивать формуляры, анкеты, получать государственные услуги в электронном виде и т. д.), приобретать товары через интернет, бронировать гостиницы и билеты, защищать компьютер с помощью антивирусных программ, общаться в конференциях и на форумах[6 - http://ecdl.org/about-ecdl/e-citizen].
Электронный бизнес (англ. – Electronic Business), э-бизнес – модель бизнеса, «в которой бизнес-процессы, обмен бизнес-информацией и коммерческие транзакции автоматизируются с помощью информационных систем. Значительная часть решений использует интернет-технологии для передачи данных и предоставления веб-сервисов» [74]. Интегрируются ключевые процессы бизнеса и управления всех подразделений и отделов компании, в т. ч. управления ресурсами предприятия; управления взаимодействием с клиентами; сбора, анализа и представления бизнес-информации; управления информацией и документами; управления персоналом и управления цепочками поставок. Заметим, что «электронная коммерция является только одной из составных частей электронного бизнеса, которая ограничивается проведением сделок при помощи электронных систем, например, продажа товаров или оказание услуг через интернет» [74]. В контексте э-правительства важное место занимают описанные выше взаимодействия G2B и B2G.
Для полноты картины в Приложении 1 приведены термины, применяемые в документах, регулирующих вопросы российского электронного правительства, а на рис. 1.2 показано одно из возможных представлений схемы взаимодействия органа власти с гражданами и организациями в процессе его деятельности.
Внедрение э-правительства требует координации, планирования и выполнения комплекса различных мероприятий в рамках так называемого электронного управления (э-управление, e-governance). Необходимо (1) создать законодательные рамки ЭП, а также ИКТ-инфраструктуру э-правительства, охватывающие всю страну, и (2) подготовить кадры государственных и муниципальных служащих, владеющих средствами ИКТ и технологиями э-правительства. Однако э-управление – это не только обеспечение доступа к государственным информационным ресурсам или электронным платежам, это путь к инновационному развитию страны.
Рис. 1.2. Схема взаимодействия ведомства с гражданами и организациями [72]
«Электронное управление позволит гражданам общаться с государством, участвовать в разработке политики правительств, гражданам общаться друг с другом и принимать участие в демократическом политическом процессе <…> электронное управление обеспечивает гражданам непосредственное участие как избирателей в политической деятельности, выходящей за рамки правительства, и включает в себя электронную демократию, электронное голосование и участие в политической деятельности в интернете. Таким образом, в широком смысле понятие «электронное управление» будет отражать правительство, участие граждан, политические партии и организации, функции парламента и судебной системы» [90].
Под влиянием электронного управления на разных стадиях развития формируется информационное, а затем умное и цифровое общество.
Информационное общество как рамочная концепция [38], определяющая новый этап постиндустриального общества, активно обсуждается обществоведами [60] и политологами [68] с 70-х годов прошлого века до настоящего времени. Весьма краткое и далеко не исчерпывающее, но официальное определение этого понятия дано в Руководящем документе РД 115.05–2002 «Информационные технологии. Мониторинг информатизации России. Основные положения мониторинга»: «Информационное общество – общество, в котором информационные процессы осуществляются главным образом на основе использования инфокоммуникационных технологий и информационные ресурсы доступны всем слоям населения» [2н][7 - Нормативные документы вынесены в конце этой части монографии в отдельный перечень.].
Умное общество некоторые авторы определяют как «новое поколение социотехнических систем, где люди и машины синергетически дополняют друг друга и действуют совместно для достижения своих целей» [50]. Исследование свойств умного общества ведется с 2006 года, и сегодня ряд европейских институтов образовал исследовательский Консорциум[8 - http://www.smart-society-project.eu/], поддержанный грантом Европейской комиссии.
Несмотря на активное использование термина цифровое общество, определение и всестороннее исследование его особенностей еще впереди. Тем не менее, основные характеристики цифрового общества можно выделить из проведенного в 2015 году компанией Accenture исследования глубины цифровой трансформации электронных правительств [3]. В исследовании говорится о цифровом обществе, «в котором все заинтересованные стороны возьмут на вооружение повсеместное и всеобъемлющее использование цифровых технологий», и для этого будут (1) созданы «условия для бесшовного сотрудничества и взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом»; (2) трансформированы «принципы, характер, структура правительства и административных процессов»; (3) обеспечено «достижение высокого уровня вовлечения и доверия граждан будущего, которые, в свою очередь, будут активными, информированными, мобильными и просвещенными»;
(4) использована «сетевая экосистема внешних поставщиков услуг и агентств»; (5) обеспечено «использование встраиваемых технологий, таких как публичное облако, большие данные, предсказательная аналитика и мобильные формы».
С этой характеристикой цифрового общества коррелирует подход, объявленный в новой программе ЕС «Digital Single Market»[9 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en]: «Европейская комиссия продвигает различные инициативы, направленные на повышение профессиональной подготовки в области цифровых навыков для работников и для потребителей; модернизацию образования на всей территории ЕС; использование цифровых технологий для изучения, признания и подтверждения трудовых навыков; а также прогнозирование и анализ необходимых навыков.
Сильная цифровая экономика имеет жизненно важное значение для инноваций, экономического роста, занятости и конкурентоспособности Европы. Распространение цифровизации оказывает огромное влияние на рынок труда и квалификацию, необходимую в экономике и обществе:
• изменение структуры занятости приводит к автоматизации „рутинных“ задач и к созданию новых и различных типов заданий;
• растет потребность в более квалифицированных специалистах в области ИКТ во всех секторах экономики. Предполагается, что для них к 2020 году будут свободны 756 000 незаполненных вакансий[10 - Совсем не очевидное заявление с учетом развития трансатлантического аутсорсинга ИКТ-услуг (примеч. авторов).];
• увеличивается необходимость в цифровых навыках почти во всех сферах деятельности, где ИКТ дополняет существующие задачи. Такие профессии как инженерное, бухгалтерское дело, сестринское дело, медицина, искусство, архитектура, и многое другое – требуют повышения уровня навыков работы с цифровыми технологиями;
• модернизируется обучение при помощи формирования онлайн-сообществ, обеспечивая персонализацию образовательного процесса, способствуя развитию мягких навыков, таких как решение проблем, сотрудничество и творчество, а также делая обучение веселым;
• возникает необходимость для каждого гражданина иметь хотя бы базовые компьютерные навыки, чтобы жить, работать, учиться и участвовать в современном обществе.
Потенциал для повышения качества образования через ИКТ в Европе еще не определен, и именно поэтому Европейская комиссия разрабатывает политику и поддерживает научные исследования, направленные на то, чтобы сделать образование пригодным для жизни и работы в XXI веке»[11 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/skills-jobs].
Основными электронными услугами и решениями для цифрового общества помимо государственных услуг в ЕС считают следующие:
• «Электронное здравоохранение и благополучная старость – цифровые инструменты позволяют обеспечить лучший социальный уход, наблюдение за состоянием здоровья и его фиксацию.
• Онлайн доверие – повышение уровня безопасности для защиты от таких онлайн проблем, как социальное отчуждение, мошенничество и злоупотребления, и получения всех благ цифрового мира.
• Умная жизнь – цифровые технологии могут сократить потребление
• энергии в домах, улучшить транспорт и уменьшить пробки в наших городах, снизить влияние жизнедеятельности на окружающую среду.
• Контент и медиа – поддержка политики в области средств массовой информации, содействующей открытости данных, формированию правильной нормативно-правовой базы для соблюдения авторских прав, формированию цифрового наследия Европы.
• Аварийные службы и линии поддержки – необходимо создание гармонизированных услуг, которые будут доступны на всем пространстве ЕС.
• Кибербезопасность и конфиденциальность – укрепление сети и информационной безопасности в рамках ЕС, повышение конфиденциальности в интернете, поддержка научных исследований в области кибербезопасности»[12 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/society].
В рамках этого же подхода к цифровому обществу DCI[13 - Институт цифрового гражданства, http://www.digitalcitizenship.net/dc-institute.html, http://www.digitalcitizenshipinstitute.com/] определяет цифровое гражданство «как нормы соответствующего, ответственного поведения в отношении использования технологии:
1. Цифровой доступ: полное электронное участие в жизни общества.
2. Цифровая коммерция: электронная покупка и продажа товаров.
3. Цифровая связь: электронный обмен информацией.
4. Цифровая грамотность: процесс преподавания и изучения технологий и их использование.
5. Цифровой этикет: электронные стандарты поведения или порядка.
6. Цифровое право: электронная ответственность за действия и поступки.
7. Цифровые права и обязанности: те свободы, которые распространяются на всех в цифровом мире.
8. Цифровое здоровье: физическое и психологическое благополучие в мире цифровых технологий.
9. Цифровая безопасность (самозащита): электронные меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность»[14 - http://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html].
Ученым еще предстоит исследовать, как соотносятся друг с другом информационное, умное и цифровое общества. Для нас же крайне важно, что активная цифровая трансформация общества оказывает решающее влияние на реформирование деятельности правительств по всему миру.
1.2. Автоматизация и реформирование государственного управления
Электронное правительство в настоящей монографии рассматривается в первую очередь как социотехническая система (см. предыдущий раздел). Вот почему следует обратить особое внимание на то, что ЭП автоматизирует деятельность правительства, которое представляет собой «коллегиальный орган исполнительной власти государства и его субъектов, осуществляющий всю полноту этой власти на соответствующей территории. Полномочия федерального и территориальных органов исполнительной власти определяются Конституцией и другими законами, основанными на принципе разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную»[15 - Политология. Словарь. – М.: РГУ. В. Н. Коновалов. 2010, http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/177/Правительство]. В федеративных государствах существуют центральное (федеральное) правительство и правительства государственных образований, входящих в состав федерации[16 - Большой юридический словарь, http://juridical.slovaronline.com].
Международный классификатор функций органов государственного управления (КФОГУ) разработан ООН[17 - Classification of the Functions of Government (COFOG), http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4]. Весьма интересна для нашего исследования мотивация его создания, приведенная во введении к классификатору:
• «КФОГУ позволяет <…> анализировать проявляющиеся с течением времени тенденции в расходах органов государственного управления на конкретные функции или цели. Обычные (аналитические – примеч. авторов) счета органов государственного управления для этой цели, как правило, не подходят, поскольку они отражают организационную структуру органов государственного управления, и поэтому временные ряды могут быть искажены в результате организационных изменений. Например, если орган государственного управления создает новый департамент, который объединит ряд функций, выполнявшихся прежде несколькими департаментами или на нескольких уровнях органов государственного управления, то, как правило, использовать обычные счета органов государственного управления для сравнения расходов на эти цели на протяжении какого-то периода времени будет невозможно.
• КФОГУ используется также для межстранового сопоставления степени участия органов государственного управления в выполнении экономических и социальных функций. КФОГУ не только помогает нейтрализовать организационные изменения в органах государственного управления в стране, но и не зависит от организационных различий между странами. В одной стране, например, все функции, связанные с водоснабжением, может выполнять единое государственное ведомство, в других странах эти функции могут быть распределены между различными департаментами, ведающими вопросами окружающей среды, жилищными вопросами и вопросами промышленного развития. В классификации расходов по целям все эти различные подразделения можно объединить в рамках одной функции «водоснабжение».
Такая классификация функций органов государственной власти (ОГВ) в тех странах, где она есть (в РФ не применяется), служит, в частности, (1) основой для составления бюджетов на информатизацию министерств и ведомств на основе целевых показателей деятельности, а также (2) для контроля исполнения таких бюджетов, что исключает дублирование разработок автоматизации функций правительства и увеличивает повторное использование ИКТ-решений, уже созданных для поддержки тех или иных функций. Кроме того, классификация (3) является основой для распределения и перераспределения функций между министерствами и ведомствами, когда в этом возникает необходимость.
Например, при создании и развитии э-правительства США используются Справочные модели, предназначенные для облегчения перекрестного анализа ведомств и выявления дублирующих инвестиций, разрывов и возможностей совместной работы (коллаборации) внутри и между ведомствами (см. подробнее подраздел 5.3.3). В их числе – Справочная модель деятельности (Performance Reference Model, PRM) и Справочная бизнес-модель (Business Reference Model, BRM) [27], которые увязывают цели деятельности ведомств с общей таксономией функций правительства и связанных с ними областей услуг.
В России органы государственного управления федерального уровня (федеральные органы исполнительной власти, ФОИВ) осуществляют свою деятельность в рамках полномочий, установленных Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О Правительстве Российской Федерации» [53н]. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [51н] ФОИВ делятся на органы, формирующие и устанавливающие государственную политику и осуществляющие правовое регулирование в той или иной сфере жизнедеятельности государства (министерства), исполняющие или реализующие эту политику (агентства) и контролирующие исполнение этой политики (службы). Этим же Указом (с учетом изменений) закрепляются основные категории государственных функций:
• по принятию нормативных правовых актов;
• по контролю и надзору;
• по управлению государственным имуществом;
• по оказанию государственных услуг.
Например, Министерство массовых коммуникаций и связи РФ[18 - Tadviser. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Министерство_связи_и_массовых_коммуникаций_РФ_(Минкомсвязи)] (Минкомсвязи России)[19 - Официальный сайт http://minsvyaz.ru/ru/] – федеральный орган исполнительной власти, который занимается выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием в следующих сферах:
• сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним);
• сфере электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи;
• сфере массовых коммуникаций и СМИ, в том числе электронных (включая развитие сети Интернет, систем телевизионного, в том числе цифрового, вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях);
• сфере печати, издательской и полиграфической деятельности;
• сфере обработки персональных данных.
Положение о Минкомсвязи России [12н], утвержденное в первоначальном виде Правительством РФ [12н] в июне 2008 г., эпизодически изменяется отдельными постановлениями правительства в связи с расширением (уменьшением, увеличением, изменением) полномочий министерства. Например, постановлением Правительства РФ от 24.05.2010 г. № 365 [21н] оно определено в качестве уполномоченного органа по межведомственной координации информатизации федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, Минкомсвязи России осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении:
• Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)[20 - http://rkn.gov.ru/];
• Федерального агентства связи[21 - http://www.rossvyaz.ru];
• Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям[22 - http://www.fapmc.ru/].
Вместе с тем с позиций автоматизации каждый орган государственного или муниципального управления является «двуликим Янусом»: с одной стороны, это субъект государственного (муниципального) управления, а с другой – хозяйствующий субъект. Например, каждый из них реализует процесс государственного/муниципального управления какой-то сферой жизни общества (здравоохранения, образования, экономики и др.) и одновременно, как каждый хозяйствующий субъект, выполняет процесс управления собственным хозяйством – имеющимися офисными помещениями, офисным оборудованием, парком автомашин и др. Причем, если для реализации в ведомстве процессов государственного управления нужно специальное (заказное) программное, а возможно, и аппаратное обеспечение, то для управления ведомством как хозяйствующим субъектом вполне можно использовать тиражиемое ПО.
Следует отметить, что структура правительства (набор министерств и ведомств, а также их функций) меняется, как правило, при смене руководства страны и в ходе государственного реформирования. Постепенная модификация[23 - Максимальное увеличение числа органов государственной власти (ОГВ) между соседними периодами было +22 (см. колонки 2000 г. и март 2004 г.), а минимальное уменьшение размером в –1 в нескольких парах смежных периодов, например, между 1992 г. и 1994 г.] структуры ФОИВ Российской Федерации в 1992–2009 гг. отражена в соответствующем аналитическом отчете Счетной палаты РФ (см. табл. 1.3). Такие изменения структуры правительства, функций и полномочий министерств и ведомств, регламентов и параметров предоставления государственных и муниципальных услуг требуют наличия соответствующей системы управления изменениями в составе электронного правительства страны.
Таблица 1.3. Структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в период 1992–2009 годов [3]
Формирование э-правительства (перенос государственных функций и услуг на ИКТ-платформу) осуществляется параллельно с проведением реформы государственного управления страны (административной реформы). Причем этот процесс, единожды начавшись, затем уже становится непрерывным по мере замены поколений аппаратного и программного обеспечения ИКТ-платформы, повышения ее интеллектуализации, смены требований прикладных областей и проведения административных изменений.
Такой цельный поход к реформированию государственного управления хорошо иллюстрирует экспертная оценка распределения затрат в ЕС, которая была опубликована [23] в начале 2000-х годов. Согласно этой оценке соотношение затрат на ИКТ и на организационные изменения в европейских проектах внедрения технологий э-правительства составило на 2004 г. 45:55. Последние, в свою очередь, включали затраты на НИР (20 %), управление проектами внедрения технологий э-правительства (30 %) и саму реорганизацию (реинжиниринг) административных процессов (50 %). Для справки заметим, что общая абсолютная сумма затрат в тот год равнялась 36,5 млрд евро.
В 2003 году в ходе административной реформы государственного управления в России[24 - http://ar.gov.ru/ru/o_reforme/index.html] было зарегистрировано около 5 тыс. функций, которые затем были проверены вручную на дублирование и неисполнение. Оказалось, что количество государственных функций и услуг федеральных органов исполнительной власти, которые имеют непосредственное отношение к гражданам и бизнесу, составило более 800. На основе этих функций и услуг формировались перечни первоочередных услуг гражданам и бизнесу, подлежащих переводу в электронный вид [40н].
1.3. Эволюция моделей электронного правительства
Основное направление трансформации государственного управления с начала XXI века определяется информационной открытостью, сотрудничеством государства и бизнеса, предоставлением комплексных услуг гражданам. Подошла к концу эпоха иерархической структуры государственного управления (иерархического правительства), преобладавшая в предыдущее столетие и использовавшаяся не только для достижения целей государственной политики, но и для оказания государственных услуг. Внедрение в государственных органах сетевых и информационных технологий требует принципиально иных моделей, основанных на сетевой архитектуре государственного управления [81]. Эта новая архитектура характеризуется наличием «паутины» мультиорганизационных, мультиправительственных и мультиотраслевых отношений, которые во все большей степени поддерживают современное государственное управление.
В 2004 г. глобальная консалтинговая компания Deloitte Research на подъеме внедрения ИКТ-технологий для поддержки деятельности правительств индустриально-развитых стран ввела в научный оборот представленную далее классификацию моделей правительства [19] (рис. 1.3) в координатах «Наличие возможностей сетевого управления [ограниченные, широкие]» и «Уровень сотрудничества государства с частным сектором [низкий, высокий]».
Модернизация иерархического правительства последние несколько десятилетий сопровождалась становлением и развитием государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), т. е. партнерства с одной стороны государства, с другой – коммерческих и некоммерческих компаний для предоставления последними услуг госучреждениям и достижения политических целей правительства (аутсорсинговое правительство).
Рис. 1.3. Классификация моделей правительства [28]
Так, в 90-х гг. прошлого столетия в США государственные сервисные контракты с частным сектором на федеральном уровне выросли на 25 % в реальном выражении, несмотря на то что по окончании холодной войны имели место огромные сокращения оборонных государственных расходов. За период 1999–2002 гг. число сотрудников гражданской службы фактически снизилось на 50 тыс. служащих. А ежегодные затраты федерального правительства на внешние контракты примерно на 100 млрд долл. США превысили расходы на заработную плату служащих. В 2008 г. объем аутсорсинга в государственном секторе вырос на 6,3 % (с 159 до 169 млрд долл. США), в т. ч. и за счет расходов на проекты электронного правительства, создание и развитие государственных информационных систем [42]. Кроме того, предстоящее старение рабочей силы в государственном секторе, вероятно, ускорит тенденцию к аутсорсингу сервисов из госсектора в частный сектор США.
В России переход к аутсорсинговой модели был одним из посылов административной реформы, в ходе которой решались «задачи по разработке критериев выявления административных и управленческих процессов, подлежащих аутсорсингу, созданию перечня функций и видов деятельности, не подлежащих аутсорсингу, разработке и внедрению комплексной прозрачной системы учета расходов на внутреннее обеспечение исполнения функций структурными подразделениями, разработке типовых процедур и технологий проведения аутсорсинга, разработке процедур и механизмов контроля эффективности аутсорсинга и мониторинга выполнения условий контрактов, разработке и реализации механизмов, стимулирующих государственные органы проводить аутсорсинг» [44н].
По мере распространения в государственных учреждениях ИКТ-технологий становится возможным развитие сферы государственных услуг для граждан и бизнеса в направлении интегрированного предоставления услуг тесно взаимодействующими министерствами и ведомствами, т. е. переход к модели объединенного правительства (Joined-Up Government). Исследование стадий перехода к объединенному правительству [37] и опыта его создания во многих странах [62] говорят о том, что интеграция министерств и ведомств происходит по мере становления объединенного правительства в результате:
• демонтажа межведомственных информационных барьеров;
• перехода к совместному использованию информации и единых моделей данных;
• плотной координации совместной деятельности по выполнению государственных функций.
Успех этой интеграции имеет решающее значение для улучшения различных аспектов деятельности правительства – от борьбы с терроризмом до многоканального предоставления услуг гражданам и бизнесу. В основном интеграция министерств и ведомств осуществляется в рамках так называемых блоков правительства – силового, социально-экономического и др.
В «Обследовании э-правительств ООН: от э-правительства к связанному руководству» (2008) [58] специальное внимание было уделено тому, как государственные органы трансформируют «свои операции для перехода от ориентации на системы к сетевой ориентации с точки зрения их[25 - Органов – примеч. авторов.] структуры, функционирования, умений и навыков, культуры и управления»[26 - Напомним, что Организация Объединенных Наций регулярно проводит исследование развития электронного правительства во всем мире. Первый обзор вышел в 2001 году. В дальнейшем подобные аналитические обзоры ООН публиковались ежегодно в 2003, 2004, 2005, а затем – раз в два года в 2008, 2010, 2012 годах.].
Интегрированная система государственного управления, которую по аналогии с сетевой экономикой (Networked Economy) называют
«Сетевое правительство» (Networked Government)[27 - http://rus.proz.com/kudoz/english_to_russian/government_politics/2239421-networked_government.html], «вырастает» из объединенного правительства за счет перехода госучреждений на:
• взаимодействие с гражданами и бизнесом в социальных сетях;
• предоставление гражданам и бизнесу открытых государственных данных;