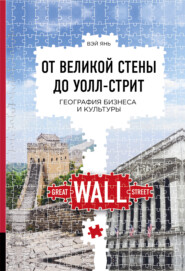скачать книгу бесплатно
Микки Маус – один из самых узнаваемых персонажей американской поп-культуры. Все любят очаровательного ушастого мышонка в белых перчатках и его ребяческие выходки. То, как Микки Маус раз за разом изловчается перехитрить своего куда более увесистого противника – черного кота Пита, – приводит в восторг зрителей всего мира. По воле фантазии Уолта Диснея вредный грызун превратился в шкодливого очеловеченного героя, вызывающего симпатию у людей всего мира вне зависимости от возраста и культурной принадлежности. Микки Маус олицетворяет парня мелкого, но шустрого – и потому успешного. Те из нас, кому доводилось попадать в подобные ситуации, запросто себя с ним идентифицируют.
Верные присущему им духу созидательности, американцы искренне любят «щенков», одерживающих верх над заведомо более сильными «матерыми псами». Это непреходящая тема американских книг, фильмов, песен. Ну и, наконец, успех вопреки всему – это еще и просто квинтэссенция духа американской мечты.
У китайцев также есть свои традиционные народные герои, но в китайской культуре они в основном встречаются в сказках, легендах и преданиях на тему восхождения из нищеты к славе, а не к богатству. Типичный сюжет: бедный студент прилежно учится, блестяще сдает экзамены и становится важным государственным деятелем.
Один из популярнейших персонажей в китайской литературе – Царь обезьян Сунь Укун из классического романа «Путешествие на Запад»[23 - «Путешествие на Запад» – классический китайский роман с продолжениями второй половины XVI века, авторство идеи и основного корпуса глав которого приписывают У Чэнъэню (1500–1582). – Примеч. пер.] Сунь – не просто хитроумный примат: он обладатель сверхъестественных способностей, которыми его наделили даосские Бессмертные[24 - Восемь Бессмертных – носители и дарители людям созидательных талантов, почитаемые даосами; покровители разных видов человеческой деятельности, отчасти имевшие исторических прототипов в эпоху Империи Хань (206 до н. э. – 220 н. э.). – Примеч. пер.]. Принимая по мере надобности любое из доступных ему семидесяти двух обличий, Сунь способен перехитрить куда более сильных противников и добиться невероятных, сказочных свершений.
Оставаясь верным своей обезьяньей природе, Сунь ведет себя как мелкий проказник и не питает ни малейшего уважения к авторитетам. Его выходки выводят из терпения даже Будду, и тот заточает неугомонного Царя обезьян в пещеру под огромной горой. Возможность для искупления предоставляется Суню лишь в VII веке, когда ему предлагается сопроводить монаха Империи Тан по имени Цзуаньцзан в путешествии за священными буддистскими текстами. Лишь хитрость Царя обезьян и его власть над сверхъестественными силами оберегают танского монаха на всем протяжении его путешествия из Чанъаня (современный Сиань) в Афганистан и Индию, полного коварных опасностей, и позволяют вернуться на родину, раздобыв драгоценные буддистские сутры.
В Китае и дети и взрослые, все как один, дивятся ловкости Царя обезьян, способного перехитрить куда более сильных противников. Втайне, конечно, еще и завидуют его чудесным способностям: как бы легко с ними жилось!
В чем-то Микки Маус и Царь обезьян похожи. Оба персонажа не вышли ростом, однако с лихвой восполняют нехватку физической силы за счет сообразительности и хитроумия. Но и разница между ними бросается в глаза: Микки Маус в борьбе с противником полагается на природную шустрость и сметливость типичной домовой мыши, а Сунь Укун – на сверхъестественные силы, дарованные богами.
Человеческие чувства Царю обезьян отнюдь не чужды, но всё же он божество. Поэтому им можно восхищаться, но на роль примера для подражания Сунь Укун не годится. Никому же и в голову не придет мысль, что он способен повторить невероятные проделки Царя обезьян, не обладая необходимыми для этого сверхчеловеческими способностями. Зато некоторые трюки Микки Мауса человеку воспроизвести вполне под силу, и наверняка многие в детстве отрабатывали их на младших братьях, сестрах или приятелях послабее. В этом отношении диснеевский мышонок похож на каждого из нас.
Популярная американская культура тем и прекрасна, что апеллирует к простым и всем понятным чувствам во всех своих проявлениях, будь то проповедь духа индивидуализма, поп-музыка или проделки Микки Мауса в его борьбе за существование. Благодаря максимальной приземленности смысловых посланий эти образы встречают всеобщее понимание, и люди их по достоинству оценивают вне зависимости от своей культурной принадлежности.
В Китае же, напротив, достойным может считаться лишь нечто экстраординарное. Вообще, в традиционной китайской культуре достойны уважения лишь матерые победители и вожди, а всех, кто недотягивает до такого статуса, остается разве что пожалеть. Соответственно, среди простых людей встречается очень мало доступных примеров для подражания. Молодежь вынуждена равняться лишь на отдельные примеры ученых, вышедших из низов, героев-воинов или мудрецов. Но и в этом случае следует отметить, что судьба большинства выходцев из простонародья, удостоенных упоминания в китайских исторических летописях, сложилась трагично.
К тому же китайская культура довольно сложна для понимания, особенно косвенными и опосредованными методами. Например, молодым людям, ни разу не бывавшим в США, нетрудно составить представление об американской жизни по фильмам, музыке, модной одежде, фастфуду, поскольку всё это доступно и понятно во многих странах. И тем же молодым людям будет крайне затруднительно уловить глубинную суть китайской культуры по аналогичным материальным проявлениям и рутинным привычкам, поскольку для них так и останется неясным, что? стоит за ее внешними проявлениями. Это лишь одна из причин, по которым продвижение китайской культуры за рубежом по-прежнему остается настолько трудным делом.
Постижение чужой культуры – процесс постепенный
Долгая история Китая и множественные иностранные влияния предельно усложнили китайскую культуру. Для того чтобы оценить ее по достоинству и во всей полноте, требуется время, и немалое.
Китайцы любят свою историю и постоянно ссылаются на примеры из нее. История для них – и оправдание настоящего, и смысл будущего. В китайском понимании история являет собой континуум событий, и, как следствие, китайская культура зиждется на этой непрерывности. У нее есть смысл, и люди являются ее частью.
На Западе не принято так часто ссылаться на исторические уроки и примеры. Редкая западная страна может похвастаться столь долгой и никогда не прерывавшейся историей, как Китай. Кроме того, западные люди, особенно американцы, в значительно большей мере, нежели китайцы, склонны к индивидуализму: собственные дела для них значительно важнее свершений предшествующих поколений, а раз так, то какой смысл жить историческим прошлым?
Традиционная китайская культура предлагает нам прозрения, чудесные по своей глубине, и мудрость тысячелетий, – и эта культура в корне отличается от той, к которой привыкло западное сознание. На Западе большинство людей любят точность и логику, простые ответы и быстрые результаты. В китайской культуре ничего подобного нет. Китайцы живут в высококонтекстуальном мире, наполненном неопределенностью. Навязывать китайцам точность определений в западном понимании – занятие бесперспективное: они начинают чувствовать себя загнанными в угол, а это, в свою очередь, неизбежно приводит к нарастающим трениям и ускользающей гармонии.
Это типичное для китайцев отношение к жизни было выработано поневоле: чтобы жить мирно при такой плотности населения, каждый должен уметь создавать внутри себя буферную зону комфорта.
В китайском понимании такая зона внутреннего комфорта есть нечто совершенно отличное от западной концепции «личного пространства», под которым понимается физическая отстраненность от других, обязательная дистанция между людьми, без соблюдения которой они чувствуют себя стесненными в социальном окружении. Кроме того, зона комфорта не имеет прямого отношения ни к концепции «приватности» как вещи, само собой разумеющейся в западном понимании. Именно поэтому людям с Запада зачастую вообще трудно понять, как китайцы способны переносить царящие у них в городах тесноту, шум и привычку пялиться друг на друга. Зона внутреннего комфорта у китайцев подобна буферу, который позволяет оставаться наедине с собой даже в толпе – вследствие высокого уровня толерантности к окружающим.
Китайская культура – это не просто кладезь мудрости и свод правил, а нечто большее. За примерами этих тонких различий обратимся к традиционной китайской медицине и кухне.
Китайская медицина основана на целостном подходе к управлению здоровьем человека. К точным наукам такую практику не отнесешь, да и научных доказательств ее эффективности – в западном понимании – явно недостаточно; тем не менее сторонники традиционных китайских методов лечения, включая фитотерапию и акупунктуру, готовы под присягой подтвердить их действенность. В отличие от западной медицины, занимающейся диагностикой и лечением конкретных заболеваний, китайская медицина ставит своей целью укрепление здоровья организма пациента путем балансировки инь и ян. Предполагается, что восстановление утраченного равновесия начал и гармонии с природой стимулирует организм человека к самоизлечению. Между тем из-за неспецифического характера подобного врачевания методы китайской медицины срабатывают не сразу, если работают вообще.
Акупунктура – это метод лечения различных недугов иглоукалыванием. Китайцы полагают, что жизненная энергия ци циркулирует по так называемым «меридианам» – каналам, пронизывающим всё тело человека. Болезни развиваются в результате омертвения ци в заблокированных каналах или застоя крови из-за закупорки сосудов, что может быть обусловлено, например, такими факторами, как плохая погода или переутомление. Воздействуя иглами на определенную выборку из 361 акупунктурной точки – а точки эти расположены по всему телу, – врачеватель пробуждает естественную реакцию, направленную на восстановление циркуляции ци.
Не менее целостный подход демонстрируют китайцы и в отношении пищи. Для них еда не просто средство удовлетворения голода и насыщения организма питательными веществами, но еще и метод восстановления созвучия с природой. Ингредиенты для блюд китайской кухни обычно подбираются сообразно сезону из свежих продуктов, а в качестве специй в процессе приготовления используются целебные травы, помогающие организму восполнить дефицит компонентов, необходимых в то или иное время года. Именно поэтому многие китайские блюда – в то же время и многоцелевые лекарственные средства; да и в целом, как считают в Китае, кулинария и медицина не просто дополняют, но нередко и заменяют друг друга.
Кстати, в античные времена того же мнения придерживались и в европейском Средиземноморье. Древнегреческий врач Гиппократ, считающийся отцом западной медицины, говорил: «Пища должна быть лекарством, а лекарство – пищей», – что отражает, по сути, ту же идею. А вот современные западные диетологи, напротив, чрезмерно увлеклись расчленением пищевых продуктов на белки, жиры, углеводы, клетчатку, витамины и микроэлементы. Между тем целостность питания при столь скрупулезном анализе напрочь теряется из виду.
Помимо вкусовой и ароматической гаммы, китайская пища непременно должна содержать контрастирующие текстурные компоненты и гармонично сочетать в единое целое всё то полезное, что присуще исходным свежим ингредиентам. Наконец, блюда китайской кухни должны быть аппетитными не только на вкус и запах, но и на вид. Хороший китайский шеф-повар должен уметь так «оформить» свое блюдо, чтобы клиенты были поражены не только его внешним видом, но еще и тем, как оно вписывается в смысловой контекст посещения ими ресторана.
Отметим особо, что, хотя китайская кухня сейчас очень известна и распространена по всему миру, фастфуда как такового в ней мало. Сами китайцы предпочитают возможность вдоволь посидеть за столом и насладиться свежеприготовленными, а не разогретыми блюдами своей национальной кухни и достичь, таким образом, гармонии между телом и пищей. Кушать наспех – прямой путь как минимум к несварению желудка, и в Китае такой подход к питанию, естественно, не поощряется. А перекусывать на бегу бутербродами и вовсе негоже, поскольку это, во-первых, нарушает температурный баланс системы пищеварения, а во-вторых и в-главных, не отвечает взглядам предков, которые уж точно не стали бы есть холодное, запивая его ледяной газировкой, и тем более – лакомиться мороженым зимой. Такое питание просто не укладывается в природный порядок вещей – именно поэтому большинство китайцев предпочитают прохладительным напиткам горячий чай и теплую воду.
Жители США, напротив, едят свои любимые блюда в любое время года. Многие китайцы просто поражаются способности американцев пить залпом ледяную газировку и поглощать огромные порции мороженого в разгар зимы: для китайцев это совершенно противоестественно.
Еда у китайцев – не только утоление голода, но еще и ритуал, позволяющий наилучшим образом войти в гармонию с природой. В отличие от типичного западного фастфуда, ориентированного на пожирание всего подряд за счет предложения среднестатистическому посетителю широчайшего выбора горячих блюд, сыров, холодных закусок и овощных салатов, – для того чтобы в полной мере насладиться типичным блюдом китайской кухни, требуется время. Возьмем, к примеру, ма по доуфу[25 - Ма по доуфу (досл. «рябая тофу») – традиционное блюдо, распространившееся по всему Китаю из провинции Сычуань. – Примеч. пер.].
Это простое, но изысканное на вкус блюдо состоит из кубиков мягкого соевого сыра тофу, небольшого количества рубленого свиного фарша, ферментированной соевой пасты и молотого жгучего красного перца; всё это пару минут обжаривается и перемешивается на раскаленной сковороде. Готовится это блюдо быстрее гамбургера, а вкус имеет изысканный. Нежный, но пресный тофу напитывается вкусом и ароматом свежей свинины, соленой соевой пасты и острого перца. Но именно контрастирующая текстура и необычное сочетание вкуса ингредиентов делают это блюдо особенно интересным. Чтобы в полной мере его оценить, нужно подольше смаковать тофу, ощутить его шелковистость и богатство оттенков вкуса, которые он впитал, прежде чем проглатывать вместе с горсткой отварного риса.
Наконец, нужно медленно, мелкими глотками запить это блюдо горячим чаем, чтобы в полной мере проникнуться сбалансированностью его вкуса и текстуры (они же его инь и ян). А если заглатывать блюда китайской кухни, как фастфуд, то вы не полу?чите ничего, кроме калорий, и упустите все тончайшие моменты удовольствия от приема столь изысканной пищи.
Другие феномены традиционной китайской культуры мы обсудим в следующей главе.
Библиография
GLOBAL TRENDS 2030: ALTERNATIVE WORLDS, A Publication of the National Intelligence Council, P. 15, December 2013, NIC 2012-001.
The World Bank, Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of China, China 2030, Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society, 2012.
Martin Jacques, When China Rules the World, P. 511, Penguin Books, 2012.
Bertrand Russell, The Problem of China, Questions, P. 6, Chapter 1, George Allen & Unwin Ltd, 1922.
Arthur Henderson Smith, Chinese Characteristics, copyright 1894 by Fleming H. Revell Company, Digitized by Google.
Plant Cultures, Chili Pepper – History, www.kew.org./plant-cultures
Joseph S. Nye, Soft Power, The Means to Success in World Politics, Public Affairs, a member of the Perseus Books Group, New York, preface, P. 6, 11, 2004.
Pew Research, Global Attitudes Project, Ch. 2 and 3, 2013.
Vice Premier calls for further development of Confucius Institute, Xinhuanet, Dec 7, 2013.
Dustin Roasa, China’s Soft Power, Foreign Policy, Nov 18, 2012.
Journey to the West, Wikipedia, reviewed Jan 2016.
Acupuncture, baike.baidu.com, reviewed Oct 2014.
Quotes by Hippocrates, www.goodreads.com, reviewed Feb 2015.
3. Игры, в которые играют люди[26 - «Игры, в которые играют люди» (англ. Games People Play) – книга американского психолога и психиатра Эрика Берна, опубликованная в 1964 году и посвященная трансакционному анализу. – Примеч. ред.]
В трактате «Дао дэ цзин» Лао-цзы[27 - Лао-цзы (604[?]–531[?] до н. э.) – легендарный основатель даосского учения и автор его базового трактата «Дао дэ цзин» («О пути и добродетели»); реальность существования Лао-цзы ставится современными историками под сомнение. – Примеч. пер.] учит, что «мягкое и слабое побеждает твердое и сильное»[28 - Цит. по: Ян Хиншун. Древнекитайская философия / В 2 т. – М.: Мысль, 1972. – Примеч. пер.]. Этим высказыванием лаконично иллюстрируется отношение к конфликтам в традиционной китайской культуре. Ниже я использую три наглядных примера: боевое искусство тайцзи[29 - Тайцзицюа?нь (досл. «кулак Великого предела») – даосская школа ушу, строящаяся на основе внутреннего самосовершенствования и являющаяся составной частью учения о Великом пределе тайцзи; в обиходном языке словом «тайцзи» для краткости часто называют и школу ушу тайцзицюань. – Примеч. пер.], настольную игру вэйци[30 - Вэйци (досл. «облава») – современное название древнекитайской настольной логико-тактической игры и, возникшей задолго до новой эры и впоследствии распространившейся по всей Восточной Азии, а в XX веке – и по всему миру, под ее японским названием и-го, или просто го. – Примеч. пер.] и трактат «Искусство войны»[31 - «Искусство войны» Сунь-цзы (досл. «Законы войны учителя Суня») – известнейший древнекитайский трактат по военной стратегии и политике, датируемый V веком до н. э. Его авторство приписывается легендарному военачальнику и стратегу Сунь-цзы (544–496 до н. э.). – Примеч. пер.] – для сравнения их с западными аналогами и демонстрации различий китайского и европейско-американского подходов к состязанию.
Тайцзи: великий предел «мягкой силы»
Китайцы славятся разнообразными школами боевых искусств, многие из которых снискали мировую популярность отчасти благодаря обилию фильмов с демонстрацией эффектных приемов кунг-фу[32 - Одно из названий подобного боевого искусства – ушу. – Примеч. ред.]. Большинство из них неплохо сняты, смотрятся с увлечением и доподлинно передают технику боя. Однако подобные «экранные фантазии» плохи тем, что зачастую создают у зрителя ложное впечатление, будто китайцы – страстные любители драк, предпочитающие выяснять отношения и улаживать разногласия исключительно «на кулаках». В действительности всё обстоит совершенно иначе.
На самом деле все школы китайских боевых искусств подчеркивают важность сдержанности и, по мере возможности, ухода от прямого конфликта. Не раз говорил об этом и самый известный популяризатор восточных единоборств Брюс Ли[33 - Брюс Ли (англ. Bruce Lee, наст. имя Ли Чжэньфань, 1940–1973) – гонконгский и американский (по праву рождения на территории США, в Сан-Франциско, во время гастролей родителей) киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, популяризатор и реформатор китайских боевых искусств. – Примеч. пер.]. В его собственных фильмах герой Ли – часто скромный человек, вынужденный вступать в драку лишь будучи загнанным в угол и подвергнутым жесткому давлению: тогда и только тогда он стремительно контратакует и преподает врагам урок на всю жизнь.
Одна из традиционных китайских школ на стыке оздоровительной гимнастики и боевого искусства – тайцзицюань, иногда называемая на Западе «боем с тенью». Согласно легенде, изобрел этот стиль один отшельник-даос, подражая повадкам диких животных и с целью согреться в горах. Тайцзи – не просто боевое искусство, а целая даосская философия здорового образа жизни и поддержания физической формы. Элегантность движений в тайцзи подчеркивает гармонию противоположностей и перетекание их друг в друга в согласии с Дао. Многое в характере поведения китайцев и в бизнесе, и в повседневной жизни напоминает тайцзи, поэтому имеет смысл вглядеться в эту школу поглубже.
Буквально тайцзи переводится как «великий предел», и отношение к этой школе у мастеров боевых искусств действительно предельно почтительное. Движения в тайцзи плавные, выверенные и, на первый взгляд, не несущие в себе особой угрозы противнику. Этим тайцзи заметно отличается от большинства других стилей боевых искусств и видов единоборств – например, от того же бокса, где ставится задача нокаутировать соперника ударами сокрушительной силы, и чем скорее, тем лучше.
В тайцзи же цель – не столько победить соперника в открытой схватке, сколько в том, чтобы всегда и везде поддерживать правильный внутренний баланс. В противостоянии проигрывает тот, кто выбит из равновесия. Если противник начинает злиться и проявлять излишнюю агрессию или ослабляет концентрацию, он обречен на поражение.
Не грубый натиск, а «мягкая сила» – вот что главное в тайцзи, и практика этого единоборства основана на умении черпать силы в уравновешенности, даже подвергшись нападению. Умение сохранять внутреннее спокойствие и равновесие даже под давлением помогает человеку контролировать ситуацию, а не просто реагировать на нее. В этом суть тайцзи: кажущаяся слабость на поверку оборачивается силой, а пассивность – полным контролем над ситуацией.
Инь и ян в движении
В тайцзи агрессивный выпад может обернуться пропуском смертоносной контратаки, так как способность обратить ситуацию в пользу защищающегося зиждется именно на искусстве встречного удара. Нанося противнику удар ногой или рукой, нападающий выполняет движение, характерное для ян. Но при этом он неизбежно раскрывает для встречного удара грудь или пах. Таким образом, чем сильнее атакующий бьет, тем хуже он сбалансирован и тем уязвимее он становится. При этом проявление агрессии увеличивает незащищенность – что уже характерно для инь.
В любом движении инь и ян сосуществуют; и чем успешнее человек избегает прямой конфронтации, тем сильнее он становится. Это может показаться странным для людей с типично западным менталитетом, привыкшим к тому, что уход от столкновения – признак слабости и признание собственного поражения. Как может отступление перед лицом агрессии свидетельствовать о силе? Разве это, напротив, не признак слабости?
Закон Ньютона гласит, что «любому действию всегда есть равное и противоположно направленное противодействие». В западном понимании люди, как и в классической механике, привыкли рассматривать себя в любой ситуации либо действующей, либо противодействующей силой, но никак не обеими силами одновременно. Китайцы же традиционно воспринимают действие и противодействие как неделимое целое.
Всмотритесь в традиционное графическое изображение инь-ян: инь вклинивается в ян, а ян – в инь. Обе противодействующие силы непрерывно теснят друг друга, достигая динамического равновесия, поэтому ни одно из этих начал не может пересилить другое. При попытке взять верх оно неизбежно обнажит свою слабость и одновременно побудит противоположное начало к росту внутри себя. Так и вынуждены две противоположности вращаться в слаженном совместном круговороте, обусловливающем плавные изменения.
Если же, для сравнения, графически отобразить западное представление о борьбе, то мы получим круг, разделенный на две части: белую и черную. Исход борьбы определяется численным превосходством или занятой площадью, и меньшинство вынуждено уступить большинству. В таком состязании всегда есть победитель и побежденный. При всей конкретности подобного результата соревнования, возможность срединного пути заранее отвергается по определению.
Двадцать третьего июня 2015 года британские избиратели проголосовали за выход из Евросоюза (ЕС), членом которого Великобритания являлась с 1975 года[34 - Автор имеет в виду ЕЭС – Европейское экономическое сообщество, в которое Великобритания вступила в 1973 году. – Примеч. ред.]. За так называемый Brexit, вопреки результатам опросов общественного мнения, проголосовало 51,9 % граждан, принявших участие в референдуме, против – 48,1 %. Этот результат, формально не имевший немедленного юридического действия, вызвал обвал курса британского фунта и мировых биржевых индексов. Валютные и фондовые рынки с тех пор восстановились, но так до конца и не стабилизировались – и, вероятно, еще долго будут пребывать в состоянии хрупкого равновесия. Просто невероятно, что столь эпохальное решение было принято с таким огромным разделением во мнениях и со столь малым перевесом по числу голосов.
Остается открытым еще и вопрос, действительно ли сторона, захватившая бо?льшую площадь (получившая большинство голосов) – скажем, 51 %, – является победителем согласно этому определению и имеет ли она право представлять точку зрения всех 100 %? Если так, то кто позаботится об оставшихся 49 % людей? И действительно ли этот черно-белый метод является наилучшим способом определения в любом состязании мнений абсолютного победителя, представляющего в итоге интересы только большинства? В противоположность этому традиционный китайский подход основан на балансировке инь и ян и ориентирован на достижение всеобщего равновесия, а не абсолютного торжества одной из сторон. Обе стороны одновременно и выигрывают, и проигрывают (см. рис. 3.1).
В традиционном китайском символе инь-ян обращает на себя внимание именно плавное, волнообразное слияние противоположностей в гармоничном равновесии между собой. Ян перетекает в инь, а инь – в ян.
Рисунок 3.1. Символ инь-ян
Дао не механика, и действие с противодействием в нем не связаны строгой математической закономерностью. Однако в учении о Дао и действие, и противодействие считаются необходимыми для возникновения какого бы то ни было движения. Без постоянного взаимодействия и борьбы друг с другом, как и без эпизодического перетекания одного в другое, движение невозможно.
В древнекитайском каноническом тексте «И цзин» («Книга перемен») сказано: «Инь и ян составляют Дао» (?????). Это предполагает, что Дао, имманентный путь всего сущего, всегда содержит в себе оба противоположных и взаимодополняющих начала. Так же и в «Дао дэ цзин» Лао-цзы учит, что борьба противоположностей является движущей силой Дао, а их примирение – способом приложения Дао. То есть, как говорится, одной ладонью не поаплодируешь, и танго без пары не станцуешь.
Древняя китайская мудрость дает понять с предельной ясностью, что единство и борьба противоположностей – неотъемлемая часть и непременное условие жизни.
Китайцы относят тайцзи к числу так называемых «внутренних» боевых искусств, в которых психологическое состояние человека не менее важно, чем его физическая форма. В отличие от большинства видов спорта, где расчет делается на силу и рефлекторные навыки, получаемые в процессе регулярных тренировок, в практике тайцзи тот, кто применяет некий прием, совершает его силой мысли, которая управляет движением корпуса и конечностей. В этом отношении тайцзи – еще и упражнение в верховенстве разума над телом.
Определенно не будучи школой, направленной на укрепление сердечно-сосудистой системы, тайцзи тем не менее оказывает всестороннее благотворное влияние на здоровье человека. Круговые движения укрепляют мышцы спины, способствуя исправлению осанки занимающегося, а движение на полусогнутых ногах помогает укреплять мышцы икр и развивать их выносливость. Не менее важно и то, что, по китайским представлениям, тайцзи содействует правильному распределению потоков жизненной энергии ци. Восстановление баланса ци в организме с помощью тайцзи, целебных трав, акупунктуры, лечебного массажа или других средств традиционной китайской медицины ведет к оздоровлению.
Три принципа тайцзи
Движения в тайцзи используются по большей части круговые и по своей сути оборонительные. Три основные категории приемов – отводы ударов противника в сторону, толчки от себя и вытягивание на себя. Назовем их тремя принципами боевого искусства тайцзи.
Парирование ударов посредством их отвода в сторону – эффективнейшее средство самообороны. Затрачивая минимальное усилие, приложенное по касательной к направлению удара противника, защищающийся отводит прямой удар от туловища или головы за счет незначительной корректировки его направления, делающей его безвредным. Умение ловко отражать нападки также не менее важно для мудрых и опытных политиков: недаром их часто называют еще и изворотливыми.
В боксе, ведущем свою историю от древнегреческого кулачного боя, целью ставится свалить соперника мощным нокаутирующим ударом, от которого тот не успеет оправиться на счет «восемь». Наилучшей стратегией победы в боксе, соответственно, считается быстрый нокаут, позволяющий не затягивать поединок. В любом случае по итогам боя один боксер обязательно признаётся победителем, а его соперник – проигравшим.
Знаменитый американский футбольный тренер Винс Ломбарди[35 - Винсент Томас Ломбарди (англ. Vincent Thomas Lombardi, 1913–1970) – американский футболист и тренер, прославившийся пятью победами в чемпионате Национальной футбольной лиги США за семь сезонов в качестве главного тренера команды «Грин-Бей Пэкерс» в 1960-х годах; в 1971 году включен в Зал славы американского футбола. – Примеч. пер.] как-то сказал: «Победа – это не просто всё: это единственное, что существует». Перефразируя, стремление к «победе любой ценой» – главное в отношении множества западных бизнесменов и политиков к своей деятельности. Всё или ничего, триумф или провал. Третьего не дано.
Не хочешь прослыть неудачником? Тогда изо всех сил бейся за победу – желательно нокаутом! Подход к бизнесу, при котором в выигрыше оказываются обе стороны, стал получать распространение на Западе сравнительно недавно. А вот в Китае практика взаимовыгодных партнерств имеет древние традиции.
Стратегия тайцзи в корне отличается от боксерской. Вместо того чтобы забить соперника, используя грубую силу, мастер тайцзи обращает энергию агрессии оппонента против него самого. В результате чем сильнее соперник бьет, тем больнее потом ему падать.
Три принципа тайцзи раз за разом методично реализуются с помощью технических приемов, пока один из соперников наконец не утратит равновесия – из-за чего и будет повержен. Такой подход в полной мере согласуется и с другими китайскими традициями.
Еще древнекитайский военный стратег Сунь-цзы в своем фундаментальном труде «Искусство войны» советовал полагаться на слабости врага: «…заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его»[36 - Здесь и далее цитаты приводятся по русскоязычному изданию: Суньцзы. Искусство войны / Пер. академика Н. И. Конрада. – М.; Л.: 1950. – Примеч. пер.]. Такого же «плана игры» принято придерживаться и в тайцзи, где вы подстраиваетесь под соперника, выжидая момент, когда получите решающее преимущество над ним оттого, что он либо выдохся, либо опрометчиво раскрылся. В тайцзи для того, чтобы стать хорошим мастером, требуются терпение и прочная уравновешенность: без обоих этих качеств там долго не продержишься. Неудивительно поэтому, что есть много общего между принципами боевого искусства тайцзи и китайским стилем управления.
Три принципа ведения бизнеса по-китайски
Манера ведения боя в тайцзи во многом напоминает модель поведения китайцев не только в бизнесе, но и в повседневной жизни. На встречах и собраниях открытая конфронтация не приветствуется: все и всегда должны демонстрировать в отношении друг друга подчеркнутое добросердечие. И уж никак недопустимо выходить из себя, поскольку это нарушает ту самую гармонию, которую все присутствующие так старательно поддерживают. Хуже того: любая вспышка негативных эмоций делает вас уязвимым перед оппонентами и дает им возможность воспользоваться проявленной вами слабостью.
Вести с китайцами переговоры – занятие тягомотное. Прямолинейно обсуждение ими не ведется в принципе. Список вопросов, подлежащих согласованию, нарастает, как снежный ком, и это намеренная тактика отвлекающих маневров. Условия, кажущиеся западной стороне незыблемыми, такие как крайние сроки поставки или исполнения работ, тоже ставятся под сомнение и оказываются предметом торга: это тактика проволо?чек. При помощи разных приемов отвлечения (аналог «отведения удара» в тайцзи) и проволочек (аналог «вытягивания соперника на себя») китайским бизнесменам часто удается заморочить голову противоположной стороне переговоров, занять по отношению к ней выигрышную позицию и «протолкнуть» собственную повестку дня. В таком «бизнес-тайцзи» стороны попеременно переходят от давления на противника к вытягиванию его на себя, многократно обмениваясь ролями.
Примерами атакующих приемов могут служить жалобы на ненадлежащее качество продуктов или услуг и просьбы пойти на уступки – предоставить скидки или другие более выгодные условия. Пример оборонительного маневра – сменить тему разговора, избегая обсуждать предложение противоположной стороны.
Чувствуя, что оппонент переходит в наступление, защищающийся отводит в сторону атакующий выпад во избежание прямого вреда – и следом тянет соперника на себя, обнажая его слабость и ставя в неловкое положение. Рассмотрим эту тактику на практических примерах обмена ходами.
Клиент выражает бурное недовольство: «Ваш продукт – это какой-то ужас! У меня все станки от него едким нагаром покрылись!» – Почва для толчка подготовлена, и клиент идет в атаку: «Чтобы мы хоть раз еще партию этого вашего продукта попробовали закупить, вы должны довести его до ума».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: