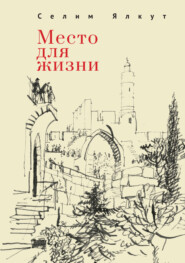скачать книгу бесплатно
Женщины едят долго, дети расхватали пирожные и унеслись на улицу. Добрая половина угощения остается нетронутой. Набирают эклеров и отправляются к Тамарке. Это еще одна подруга, но не близкая. По дороге встречают незнакомого деда, отдают все ему и возвращаются домой. Света довольна, не нужно носить. Суббота, ей не положено.
Вечером уже перед сном Галя мечтает. Она хочет съездить домой в Бендеры, навестить своих. Там остались родители мужа. Он – русский, инженер, но пошел шофером на междугородние рейсы, курил, умер в поездке от язвенного кровотечения. Говорят, был бы дома, спасли. Родители его живы. Галя точно знает, что живы, звонила уже после того, как закончились боевые действия в Приднестровье. Еще ей нужно обязательно навестить свой детский сад. Об этом она постоянно и сладко мечтает. Еврейский закон велит детям Израиля жертвовать на благотворительность десятину доходов. Без имени дарителя, не возбуждая тщеславия и гордыни. Эта десятина – благодарность Б-гу за жизнь – свою, близких, народа Израиля. Можешь отдавать сам, можешь отписывать синагоге, а они уже распорядятся по своему усмотрению. У Светы всегда полно знакомых, приезжают с бывшей Родины. Десятиной она распоряжается без посторонней помощи. И вообще, с Б-гом у нее отношения свои. Единственное нарушение – не удается соблюсти анонимность, как скроешь от гостей личность жертвователя. Поэтому Света высматривает, что нужно, покупает понемногу и подкладывает гостю. Отказов она не принимает, это просто невозможно. Это – не ее, как они не понимают. Не хотят? Значит, она отдаст в синагогу. Последний аргумент убеждает даже самых щепетильных.
У Гали свой замысел. Она должна съездить в Бендеры и привезти подарки сразу на всех. – Не возись с этим. Будешь сушить мозги, кому что. – Советует Света. – Подари деньгами. Меньше десяти долларов, конечно, нельзя.
– Они там бедные. – Вздыхает Галя.
Подруги считают. Выходит, только в садик – на сорок человек, дети, воспитатели. Еще дорога, потом Колиным родителям. Нет, не уложится она в тысячу. Но и до тысячи еще год собирать. Галя уже начала и твердо намерена довести дело до конца.
Вечером жара спадает. Комаров сейчас почти нет. Если включить специальный электрический отпугиватель, то окна можно открыть. И теперь, если устроиться на линии ведущего в кухню коридора, можно уловить медленное, но упрямое движение воздуха, крепнущее к ночи. Вот и пламя свечи пошло в сторону, зашевелилась тени на потолке. Медленно втянулся в комнаты счастливый сквозняк праздника Субботы.
На краю пустыни
Клавдии Бренер
В первые годы эмиграции Надя изрядно натерпелась. Все было на ней. Дочь сразу нашла работу, причем по специальности. Это была удача. Но домашние дела остались на Наде. Муж не в счет. И не нужно ему. Издал книжечку и живет. Снимает комнату в Тель-Авиве еще с каким-то. Она называет его покойный муж. Тут, конечно, есть ирония, но грустная. Учишься защищаться от одиночества. Если бы он помогал. В Союзе не так было заметно. Живет человек, когда все устроено, чего не жить? А здесь проявилось – при больных родителях, при отсутствии квартиры. Где они жили, квартирой назвать нельзя. Рядом с базаром. Она недавно была там и вспомнила. Сама бы не пошла, приятель приехал, она его водила по городу. Ходить она отвыкла, это да. На работу везут, с работы везут, с автобуса на автобус. А больше, что тут смотреть? Теперь вспомнила. Простыни свисают из окон. Здесь так сушат. Флаги капитуляции. Прозвучит труба, и они выйдут из этих дверей с поднятыми руками. Без ничего. Какой-то хлам, конечно, есть, но зачем, когда жизнь проиграна?
Сколько с тех пор прошло? Если честно, немного. Это в Союзе люди жили без всякого желания что-то изменить. Год и три, и десять. Она сама так жила и считала, все в порядке. Дом – один из первых на массиве, третий, если совсем точно. Стоял на песках. Ни метро, ничего. На работу ехала речным трамваем. И, казалось, все замечательно. Кто мог тогда подумать?
Сначала она мыла полы. Все так начинают. Подруга ездила к себе в Донецк. Пойди там скажи, что приходится чистить подъезды. А спрашивают. Так она – работаю с мрамором. Здесь полы и лестница под мрамор, вот она и придумала. Хотя, если постоянно держать чистоту, убирать нетрудно. Даже в той трущобе был порядок. Но вообще, это не передать. И главное, кажется, что не выбраться. Было такое настроение, она помнит, слава Б-гу, некогда опустить руки, пожалеть себя. И так каждый день. Сначала отец, потом мама. Здесь им продлили жизнь, если разобраться и поискать смысл, первые годы – это их. Всем сразу не может быть хорошо. Родители за голову держались, сколько здесь выбрасывают всякой еды. Невыносимо это наблюдать. На праздники особенно. Отец дважды пережил смертельный голод, именно – смертельный, целые семьи вымирали. Добрейший человек – он не мог видеть, как здесь обращаются с едой. Привычки формируются обстоятельствами. А отвыкнуть они не успели.
Евреи говорят: – Савланут, савланут. Потерпите, и все будет, как надо. Теперь родителей нет, дочь с мужем и внучкой в другом городе. Это, конечно, по союзным меркам, недалеко, но все-таки. И проблем, фактически, нет. Она – уважаемый человек, она достигла потолка. Больше ей не светит, и не нужно. Того, что есть, хватает. Недавно ей говорят: конечно, тебе хорошо. Это ей хорошо? Одной? Звонит какой-то Иосиф на автоответчик. Женщина, я хочу оказать вам помощь. Живет, наверно, где-то рядом, подглядывает, а показаться боится. Можно вообразить. Спасибо, не надо. А чему тогда завидовать? Говорят, есть чему. Она – начальник смены на заводе. Пошла рабочей, счастлива была, что взяли. И вот, за пять лет. Инженерный диплом нужен, конечно, но дело не в этом. Юда присмотрел своим подбитым глазом и предложил. Будете начальником. А это сорок человек. Два аргентинца, три марокканца, остальные все наши. Недавно она сказала одному, между прочим, полный русак. Дай название своей улицы. Он говорит, что-то там на а. Как – на а, эйн или алеф, здесь и так на а, и так. А он: – Че?рт его знает.
– А если без че?рта, ты что, не знаешь, как пишется твоя улица?
– Не знаю. А зачем? Пусть русский учат. Десять лет я здесь, а они ни слова, ни бум-бум. Между прочим, я Чарли своему по-русски говорю, садись, и он садится. В лужу садись, в лужу садится. А чего? В луже приятно, чисто, один дождик за год. Собака понимает. А этим скажешь по-русски: – Садись. Думаешь, сядут? Знаешь, пусть они себе на иврите, а я по-нашему.
Причем такой Серега не исключение. Чистых русаков у нее трое. Это Серега, Миша из Одессы и Абрамыч. Миша страдает, что попал, приходится работать.
– Какая жизнь была, Надюша, какая жизнь. Изюм в шоколаде. Утром референты ругаются, с дивана крошки не убираем. А мы только встали. В Египте три раза был. С мадам был, с подругами. Это же Одесса, прыг на пароход, и ты там. Главное, чтобы тихо. А здесь, пока тур возьмешь, пока доедешь, все уши просвистят, осторожно, бдительно, чтобы, не дай Бог, не тронули, как еврея. Это мне – русскому. А там без всякой охраны. Свободный человек, звучал гордо. Почему уехал? Это у вас уезжают, у нас бегут или увозят. Меня увезли. При деликатных обстоятельствах. А здесь я стал пролетарием. Это же надо, кошмар. Я ничего тяжелее вилки не поднимал. Ё-моё. Какое ругательство, это крик души. Вот тебе, Миша, квартира, вот тебе тачка. Здесь распишись, здесь, здесь. Раз-бор-чиво. На тридцать годиков вперед. Я говорю, Маня, им верить нельзя. Это же банк, это кровососы. Что, ты не видишь? Не видишь? Откуда. На пирамиду хотел залезть, не пустила. Ревнует. Какой смысл? А это смысл? Ей абы до хаты дотащить. А что потом пахать за это годами, она не думает. Ты – мужчина. Как вам нравится? Ах, Одесса. А Юде – эксплуататору, я что-нибудь тяжелое причиню, исключительно из классовой ненависти…
Юда – бывший полковник израильской армии, седой толстяк, хромой после ранения, с вмятиной на виске, потому один глаз постоянно прикрыт, будто дремлет. Зато другой сверкает. Сидит у себя наверху в голубятне. А потом спускается. Причем, неслышно, в самый неподходящий момент. Есть укромные места у автоматов с водой. С рабочими Юда не общается, он их выше, засек и сразу к Наде: – Они у тебя опять молятся. Или ты библиотеку открыла, чтобы они там сидели и читали?
Надя срывается в укрытие. Там Володя, ясно, уже не минуту и не две.
– Володя, – говорит Надя с укором (Володя ей симпатичен). – Я сколько раз прошу. Юда бегает. И опять вы. Возвращайтесь на место и примите рабочую позу. Хотите под увольнение?
Володя на ходу что-то сочиняет. Голова не здесь: – Надечка, вы замечательно выглядите. Как всегда и еще лучше. Я вам сегодня не говорил? Ну, так имейте в виду.
Это значит – отвяжись. Надя уходит, она его предупредила. Володя – журналист из Махачкалы. Какой журналист она не знает, но человек хороший. Марик – его друг, еще один здешний тип, здоровается так:
– Приветствую тебя, кавказский мой поэт.
Если Володя с Юдой заведется, будет плохо. Юда решает, кого сократить. Самое подлое, что может быть. Чуть уменьшили заказ и уже увольняют. Это для Нади объяснение, чтобы передала рабочим, а на самом деле предлог, потому что почти сразу берут новых. Юда приходит и объявляет. Двое. Абрамыча называет непременно. Это его карта в игре, Юда знает, что Надя за Абрамыча вступится. Формально Юда прав (равнодушные всегда правы), Абрамыч часто не выходит на смену. Он – техник из Свердловска, или, как его теперь, Екатеринбурга. Жена – еврейка. Уговаривала его, уговаривала. И в Америку, и сюда. А он – нет. Абрамов Николай Петрович, куда ехать. Пока не изнасиловали дочь. Теперь уже врачи настоятельно рекомендовали. У девочки постоянные нервные срывы. Думали, здесь пройдет. Лекарства, пожалуйста, врач русский, Абрамов говорит, что неплохой, но пока результата нет. Абрамов звонит вечером Наде и просит прикрыть. Он должен быть с дочерью. Наде его жаль до слез. На работе Абрамов безотказный, он увалень, с покорным погасшим взглядом. Добряк, сразу видно, но трахнутый этой жизнью (Надя, пока не знала второго смысла слова, позволяла при себе употреблять). Володя ему говорит: – Тебя, Коля, как подушку для иголок нужно пользовать. Ты большой и мягкий, воткнут, а ты и не заметишь.
Тогда же Володя с Мариком решили звать его Абрамычем. – Очень подходит. – объяснял Володя. Но если ты против, Коля, скажи. А так будет на одного еврея больше. Назло врагам. Ты же наш человек.
– Зови. – Разрешил Абрамов. Надя была рядом, он для нее подтвердил. – Пусть зовут. Москали проклятые.
– Почему, москали?
– А так. Потому что – Абрамыч.
Теперь Юда объявил: – Цыпина и Абрамов. – Против первой кандидатуры Надя не возражает. Эта Цыпина – завистливая, примитивная дура. Еще и заносчивая. В прошлом году завалила процесс. Юда начал так. – У тебя, наверно, муж очень богатый. И тебе работа наша не нужна. Так что, иди.
Надя тогда Юду еле уговорила. И после этого Цыпина решила с ним сама строить отношения. Мимо Нади. Это же видно, она думает, здесь ей Союз. Короче, у Юды свои резоны: – Значит, Цыпина и Абрамов.
И ждет, что Надя вступится. Она опять объясняет ситуацию. Юда, вообще, молодец, потому что сухарь и формалист. Национальность никакого значения не имеет, другой давно бы русских повыставлял. А этот – претензии только по работе. И, конечно, психолог. В армии выучился: – Хорошо, не хочешь Абрамова, давай свою кандидатуру.
Как Надя не крутится, а приходится дать. Ахмед – марокканец. Тоже много пропускает. Кого-то она должна назвать. Юда стрельнул глазом.
– Почему Ахмед?
– Много болеет. А Абрамова нельзя увольнять. Считайте, это личная просьба.
– Хорошо, пусть будет Ахмед. Ты сказала.
Наде тогда было паршиво. И тут подходит Абрамов: – Я слышал, Ахмеда увольняют. Я слова не имею, Надечка. Но хороший человек, неужели ничего нельзя сделать.
– Абрамов, отойдите от меня. – Говорит Надя. – На большое расстояние. Прошу ко мне сегодня не обращаться и ни о чем не спрашивать.
– К Юде у меня здоровое классовое чувство. – Говорит Марик. – Как в мафии. Ничего личного. Только классовое. Он по одну сторону баррикад, я по другую. – И Марик ребром ладони показывает на столе, где он, а где Юда. У Марика длиннющие пальцы, рука тонкая, совершенно непохожа на рабочую. Юда ест, хоть за отдельным столом, но в общем зале. Там же, где все. И так же стоит в очереди с подносом. Никаких себе поблажек.
– Я теперь могу оценить, как там в Союзе. Это же благодать, для начальства отдельный кабинет. Ты их не видишь, они тебя. Кусок в горло не лезет, когда эта рожа рядом. Двух людей я не перевариваю. – Марик разглагольствует, он из всей бригады самый живой и общительный. – Юду как пролетарий эксплуататора, и Наримана – лично. И всю их гадскую систему, со всеми этими автобусиками, с этими обедами. Никакой романтики.
Действительно, все организовано предельно. На работу и с работы автобусом, буквально к самому дому. И сидя, конечно, чтобы, не дай Б-г, не устать раньше времени. Чтобы доехать полному сил, здесь их из тебя высосут. Автоматы кругом, обед как в приличном кафе. Юда тем же питается, так что без обмана. Там, на кухне, хоть наших половина, а тоже работой дорожат.
– А Наримана я очень не люблю. Это уже по-человечески. – Повторяет Марик. – Нариман – бакинский еврей. Угодливый до тошноты. К Наде сразу: – Тетя Надечка.
– Нариман, у меня все племянники дома.
Отошел и снова проверяет: – Тетечка Надя.
– Я же вам сказала.
– Знаешь, напиши на Ольга, что плохо убирает.
– Почему, плохо?
– Ты видишь, я с утра иду, тряпка совсем сухой. Значит, плохо убирал.
– Ладно, давай работай.
Вечером опять подходит, льстивый: – Слушай, дорогая, не пиши на Ольга. Я подумал. Лучше не надо. Зачем неприятность.
Нариман очень туп. В цеху он, как был уборщик, так и остался. Рабочие получают намного больше, и Нариман хотел бы, но явно не справляется. Как-то Володя устроил переполох.
– Слушай, Нариман. Я тебе скажу, если ты не трепло.
– Какой трепло. Что такое?
– Неважно. В общем, слушай, только никому. Ты понял? Клянись Аллахом. В Баку открывают заводской филиал. Особняк купили. Сад. Шофера взяли. А представителя нет, ищут. И я подумал…
Тут и Нариман сообразил, что к чему.
– Ты понял? Правильно. Баку знаешь? Знаешь. Язык, писать умеешь. Производство, что тебе рассказывать. Молодой. Интересный. Красивый даже. Галстук на тебя наденут. Бабочку. Вот сюда. Я подумал, конечно, Нариман. Все подходит. Но есть один трудный момент.
– Слушай, скажи.
– Ты должен математику знать. И возьмут.
– Как знать?
– Экзамен будет. Тест нужно пройти. Здесь, знаешь, блат не годится, только тест. Могу показать, что бы ты заранее знал. Если ответишь правильно, значит, твой шанс.
– Давай, слушай.
– Вот, смотри. Рисую треугольник. Понял?
– Что?
– Треугольник. Видишь?
– Этот, да?
– Этот, этот. А ты мне докажи, что это треугольник.
– Как, докажи?
– Это и есть тест. Они тебе скажут, докажи.
– Что, так не видно – треугольник.
– Мало, что видно, а ты докажи.
– Если видно, зачем доказывать. Зачем время портить? Слушай. Мамой клянусь, что треугольник.
– Это не надо. Откуда они знают твою маму. Хорошо, дальше думай, потом скажешь. А пока подойди к Наде. Только не говори прямо, просто окажи внимание. Ты же умеешь. Она тебе будет характеристику писать. Скажи что-нибудь хорошее женщине. Приятное. Чтобы не бегала, а то, как лошадь, носится. И чтобы про меня, ни в каком виде. Ты понял?
Марик не одобряет розыгрыша. – Что ты развлекаешься с этим стукачом? Охота тебе, не видишь, кто такой. – Марик с юмором, но тут не понимает. Он играл в симфоническом оркестре. Имел хорошую скрипку. Вывезти не дали. Он готовился, продумал. Но кто-то стукнул, явно из своих. Забрали прямо на таможне, и разрешение не помогло. Теперь Марик без инструмента. Такой, что ему нужен, стоит многие тысячи. Марик махнул рукой и пошел в пролетарии.
В Надином подчинении есть еще один. С гонором. Бывший полковник.
– Если не врет, – говорит Володя, – откуда в Советской Армии полковник-еврей. Илья, признайся, что ты – майор. Только не обижайся. Майор – тоже человек. Вот Юда – полковник. Сразу видно.
Но Илья не простой полковник. Он конструктор-артиллерист. Работал в кабэ. Он и не думает обижаться.
– Ты, Володя, вшивый журналист. Слуга партии и народа. Зачем мне на тебя обижаться? Между нами пропасть. Меня бы в жизни не выпустили, если бы Союз не развалился.
– И что ты такого наделал?
– Ого. Вызывает генерал. Конечно, только на вы. По цивильному. Доктор технических наук. Значит так, пушка выстрелит, вы сядете на волгу. В тот же день.
– Ну и как?
– А так.
– Волгу дали?
– Москвич. Потому что власть такая. Обещает одно…
– Чего ты все на власть. Признайся, у тебя ствол разорвало. Или колесо отлетело. Скажи, сейчас можно.
– Я бы сказал, Надя рядом. И, между прочим, на Госпремию выдвигали. Это тебе не стишки кропать на субботник. Камень на камень, кирпич на кирпич…
– Ну и как? Дали?
– Я тебе говорю. Москвич.
– Что ты давишь на старшего офицера. – Вмешивается Марик. – Спасибо скажи. Это из его пушки Юде глаз выбили. – Если бы из моей, от него бы только пуговицу хоронили.
Полковник долго не мог смириться. С ним Наде пришлось говорить отдельно:
– Никому вы здесь не нужны, поймите. С вашим гонором и вашими манерами. Нет, так идите. Никто не держит. Но вы квартиру хотите, машину. Работайте спокойно и не выступайте. Что в Союзе лучше? Так что, помолчите. Герой …
Теперь полковник образумился. Квартиру, машину купил. И сама система приводит его в восторг. Военная организация, порядок, все четко. Четыре смены оттрубил, по двенадцать часов, трое суток дома. Наде он сказал спасибо. Уберегла от неверного шага.
Полковник любил высказаться. Не матом, конечно, но мог. Надя пресекала в любом случае. Это был важный принцип в ее политике с бригадой, с любым, граница, которую она никому не давала перейти. Чтобы она этого не слышала.
– Что и блин нельзя? Ну вы, Надечка, слишком. Здесь хамят все. Конечно, не так, как у нас в Саратове. Но, чтобы блин нельзя. Вы, Надя, на маслянице не бывали. Потому такая застенчивая.
– Славянофил. – Говорит Володя. – Детдомовец.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: