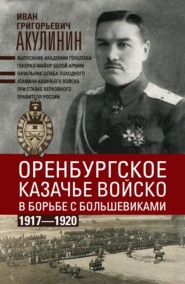скачать книгу бесплатно
Силы, которые атаман Дутов мог противопоставить большевистскому натиску, были незначительны и состояли из небольших офицерских, юнкерских и добровольческих отрядов, а также нескольких станичных дружин.
Как раз в это время в войско стали прибывать с Австро-Венгерского и Кавказского фронтов строевые части – полки и батареи, но рассчитывать на их помощь оказалось совершенно невозможно: они и слышать не хотели о вооруженной борьбе с большевиками.
У казаков-фронтовиков, утомленных войной, а частью настроенных пробольшевистски, была одна мысль, одно стремление – поскорее попасть в родные станицы. Распропагандированные на фронте, они не отдавали себе ясного отчета в происходящих событиях, не понимали сути большевизма со всеми его пагубными последствиями как для России, так и для казачества. Среди них появились уже настоящие большевики, которые вели разлагающую пропаганду сначала в полках, а потом и в станицах.
Большинство казачьих эшелонов прибыло в войско без оружия: большевики их разоружали в пути – в Москве, Киеве, Харькове, Самаре, Ташкенте и других крупных центрах, где имелись в наличии большие гарнизоны. (15-й Оренбургский казачий полк, бывший на Юго-Западном фронте, чтобы не отдавать большевикам оружия, прибыл в войско с одной из войсковых батарей походным порядком, пройдя через Южную и Юго-Восточную Россию.) К чести казаков надо сказать: выдачи офицеров нигде не было, несмотря на энергичные требования и угрозы большевистских комиссаров, почти в каждом городе, через которые проходили казачьи эшелоны.
Таким образом, в начале борьбы Оренбургского войска с советской властью строевые части в защите войска никакого участия не принимали. Наоборот, многие казаки-фронтовики и даже некоторая часть – правда, незначительная – офицеров, как, например, братья Каширины, старались помогать большевикам.
Вся тяжесть борьбы в начальный период легла на офицерские и добровольческие отряды; станичные дружины оказались малобоеспособными и при первом случае расходились по домам.
По причине таких неблагоприятных обстоятельств натиск большевиков сдержать не удалось, и 31 января 1918 года Оренбург был сдан.
Атаман Дутов с Войсковым правительством и группой офицеров переехал вглубь территории войска – во 2-й округ – и обосновался в городе Верхнеуральске, удаленном от железных дорог и больших центров. Часть офицеров, добровольцев и юнкеров, во главе с начальником Оренбургского казачьего военного училища Генерального штаба генерал-майором Слесаревым, ушла походным порядком по левому (киргизскому) берегу реки Урал к уральским казакам, которые в это время не выступали против большевиков. Многие офицеры – в одиночку и небольшими партиями – укрылись по станицам, хуторам и киргизским аулам.
В начале февраля Войсковое правительство созвало в городе Верхнеуральске Чрезвычайный Войсковой круг, на котором были представлены главным образом 2-й, 3-й и 4-й округа. Большинство депутатов 1-го округа на заседания круга прибыть не могли: к этому времени все станицы в районе Оренбурга и Орска были заняты большевиками. На вопрос Войскового правительства, что делать дальше, Войсковой круг вновь подтвердил свое декабрьское решение: продолжать борьбу с большевиками во что бы то ни стало.
Но опять-таки никаких действительных средств на ведение борьбы Войсковое правительство от круга не получило. Были приняты строгие резолюции, выпущены воззвания с призывом к населению – вооружаться против большевиков и объединяться вокруг Войскового правительства.
С переездом в Верхнеуральск Войсковое правительство не имело в своем распоряжении никаких денежных средств – ни для своего существования, ни на ведение борьбы с большевиками. Необходимо было изыскать средства. Первый взнос в пустую войсковую казну был сделан Санарским лесничеством в размере 30 тысяч рублей. Попытка атамана Дутова побудить местных купцов прийти на помощь Войсковому правительству успеха не имела: верхнеуральские купцы, как и оренбургские, крепко держались за свои кошельки, совершенно не отдавая себе отчета в том, что с приходом большевиков они потеряют все.
Чувствовался недостаток в денежных знаках, особенно в мелких купюрах. Население прятало деньги по кубышкам и не выпускало их из рук. В местном казначействе, после потери связи с центрами, не хватало денежных знаков даже для очередных расплат по ассигновкам казенных и общественных учреждений.
Атаман Дутов приказал сделать выемку из уездного казначейства некоторого количества «займа свободы», билеты которого имели право хождения с кредитными билетами – царскими и «керенками».
В местном отделении Сибирского банка хранилось небольшое количество золота (что-то около полупуда) в слитках, принадлежащее местным золотопромышленникам. На случай перехода города в руки большевиков золото было передано в распоряжение Войскового правительства, о чем был составлен особый акт. (Никакой практической выгоды из этого золота Войсковое правительство не извлекло. Впоследствии весь «золотой запас» был сдан в Омск Омскому правительству. С владельцами золота был произведен расчет по курсу дня.)
В целях изыскания средств для пополнения войсковой кассы круг вынес ряд постановлений. Так, было постановлено, чтобы все золото, добываемое золотопромышленниками на казачьей территории, сдавалось, по особой расценке (для данного момента по 33 рубля за золотник), Войсковому правительству; точно так же все доходы, получавшиеся от ископаемых – каменного угля, железной руды и пр., – должны были поступать на пополнение войсковой казны. (На территории Оренбургского войска находится знаменитая Магнитная гора с неисчерпаемыми залежами лучшей в мире железной руды; ряд золотоносных площадей и каменноугольные копи.)
Круг рекомендовал Войсковому правительству обратить внимание на обложение торгово-промышленных предприятий, заводов, паровых мельниц, а также усилить вырубку и продажу леса из войсковых боров. Затем Войсковому правительству поручалось выработать и провести в жизнь заем в 10 миллионов рублей под именем «защиты войска». Для немедленных сборов денежных средств, необходимых на организацию самозащиты войска, решено было образовать «фонд спасения войска», путем добровольных пожертвований.
Депутаты круга обязались всеми силами способствовать притоку денежных средств в распоряжение Войскового правительства. Почти все из намеченных Войсковым кругом мероприятий – ввиду наступивших событий – остались на бумаге.
Во время февральской сессии круга войсковой атаман А.И. Дутов неоднократно просил освободить его от всех возложенных на него обязанностей, но Войсковой круг настоял, чтобы он оставался во главе войска и продолжал дело борьбы с большевиками. Просьба членов Войскового правительства об отставке также не была уважена.
Ввиду неприбытия в город Верхнеуральск войскового старшины Анисимова в состав Войскового правительства было избрано два новых члена из представителей круга: хорунжий А.С. Пономарев (по специальности агроном) и преподаватель городского училища И.С. Белобородов (окончивший учительский институт).
Из других мероприятий Войскового круга следует отметить постановление о формировании полков, для защиты войсковой территории, причем полки должны были формироваться и действовать на основах воинской – а не революционной – дисциплины. Никаких митингов и собраний с вынесением всякого рода резолюций не допускалось. Сотенные, полковые и прочие комитеты в войсковых частях запрещались.
Во время пребывания Войскового правительства в городе Верхнеуральске большевики созвали в Оренбурге казачий съезд из казаков 1-го округа. Съезд, на котором верховодили депутаты круга: Седельников, Федоринов и бывший член Войскового правительства Копытин – вынес постановление о признании советской власти.
В Челябинске также был созван съезд рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, который обратился к казакам с призывом прислать делегатов от станиц.
После захвата большевиками города Троицка окружное правление 3-го округа, во главе с окружным атаманом войсковым старшиной Половниковым, было арестовано и посажено в тюрьму. Впоследствии весь состав окружного правления был расстрелян.
Казаки 3-го округа созвали окружной съезд в станице Кособродской. На этом съезде депутат Свешников (молодой студент, исключенный из Оренбургского военного училища за революционные выступления в первые дни революции) ратовал за соглашение с большевиками.
Окружной атаман 2-го округа, молодой хорунжий Захаров, и все окружное правление дружно поддерживали Войсковое правительство, но почти никакой власти и никакого влияния за пределами города Верхнеуральска окружное правление не имело. Даже Верхнеуральская станица, расположенная за городской чертой, находилась всецело под влиянием братьев Кашириных, которые с помощью солдат-дезертиров и сочувствующих большевикам мещан образовали Совет рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, который с прибытием в Верхнеуральск Войскового правительства прекратил свое существование.
Городская управа к приезду атамана Дутова и к созыву в городе Верхнеуральске Войскового круга отнеслась весьма сдержанно. Гласные городской думы боялись навлечь на себя гнев большевиков.
Оценивая общее положение в Оренбургском войске к марту 1918 года, можно сказать, что Войсковое правительство в это время, в сущности, было предоставлено самому себе.
Население, за исключением 5–6 верных и стойких станиц, например Карагайской, Петропавловской, Краснинской, Кассельской, Остроленской, никакого участия в борьбе с большевиками не принимало: одни станицы, боясь большевистских расправ, держали «нейтралитет», другие явно сочувствовали приходу большевиков, а третьи даже помогали им, как, например, жители станицы Арсинской и отчасти Верхнеуральской. (Братья Каширины, казаки станицы Верхнеуральской, оказывали свое влияние на ее жителей.)
Никакой вооруженной силы в распоряжении Войскового правительства не было, кроме небольшой личной охраны атамана Дутова и офицерской сотни, собранной на случай самообороны, если бы в городе вспыхнуло восстание. К счастью, из-под Троицка прибыл в Верхнеуральск партизанский отряд войскового старшины Мамаева, который дал толчок к дальнейшим формированиям. Вскоре образовались еще три небольших отряда: подъесаулов Бородина, Михайлова и Енборисова.
В конце концов атаману Дутову с большим трудом удалось собрать около 300 бойцов. К этому ядру время от времени присоединялись станичные дружины, увеличивавшие силы Войскового правительства до 1500–3000 человек.
Необходимо отметить, что в числе партизан было много офицеров не казаков – преимущественно уроженцев Оренбургской губернии; партизанский отряд подъесаула Енборисова состоял исключительно из рядовых казаков; в других отрядах преобладал офицерский состав, но были также юнкера, кадеты, казаки и просто добровольцы.
С этими силами Войсковое правительство держалось на территории 2-го округа до весны. За это время большевистским отрядам, пытавшимся уничтожить «гнездо контрреволюции», было нанесено несколько чувствительных ударов.
Само собой разумеется, что главная тяжесть во всех боях лежала на партизанах. Наскоро собранные и почти безоружные станичные дружины, рассыпавшись лавами, служили больше для декорации и лишь во время преследования противника пускали в ход шашки и нагайки.
Во всех боевых стычках с большевиками главной целью партизан и станичников было стремление достать побольше оружия и патронов (база на противника). Вначале не только дружины, но и партизанские отряды вооружены были слабо: винтовок и шашек на всех не хватало. После нескольких удачных боев (особенно под станицей Кассельской) партизаны раздобыли достаточное количество винтовок и пулеметов, которыми большевики были снабжены в изобилии. Артиллерии в этот период борьбы у казаков совсем не было.
Для ликвидации «дутовщины» большевистские верхи вынуждены были стянуть несколько отрядов. Из них наибольшей организованностью и активностью отличались два отряда: один – изменника Оренбургского войска подъесаула Николая Каширина, а другой – талантливого авантюриста «полковника» Блюхера. (Кто такой был Блюхер – в то время в точности никто не знал. Оренбургские казаки, перешедшие в ряды большевистских отрядов, считали его полковником. Среди жителей города Оренбурга откуда-то пошла молва, что Блюхер – офицер австрийского или германского Генерального штаба, потомок знаменитого прусского фельдмаршала Блюхера.)
В первых числах марта к Верхнеуральску стали приближаться две большевистские группы: одна – со стороны Троицка, а другая из Башкирии.
Чтобы не быть зажатым в клещи, атаман Дутов во главе партизан и станичных дружин бросился против Троицкой группы и, после нескольких стычек у станицы Сухтеленской, обратил ее в паническое бегство.
Но в это время в Верхнеуральске местные большевики, воспользовавшись уходом партизан из города, произвели восстание, поддержанное солдатами-дезертирами из окрестных хуторов и рабочими двух ближайших заводов – Белорецкого и Тирлянского. В распоряжении Войскового правительства не было ни одной воинской части, кроме нескольких десятков офицеров и казаков, державших караулы. Правда, в Верхнеуральской станице имелась наготове вооруженная дружина, но она осталась пассивной; часть казаков-фронтовиков, руководимых подъесаулом Кашириным, примкнула к восставшим. (Накануне восстания в станичном правлении Верхнеуральской станицы был убит казаком-провокатором комендант города поручик Гончаренко.)
После небольшой уличной перестрелки Верхнеуральск перешел в руки большевиков. Войсковое правительство переехало в станицу Краснинскую, в 20 верстах к северо-востоку от Верхнеуральска, а окружное правление 2-го округа – в станицу Кассельскую. (Член Войскового правительства И.С. Белобородов, не успевший вовремя выехать, был схвачен большевиками и посажен в тюрьму, а затем, через несколько дней, расстрелян.)
Атаман дважды делал попытку вернуть Верхнеуральск, но безуспешно. Засевшие в нем большевики успели получить значительные подкрепления, и все атаки казаков были отбиты.
Через несколько дней Верхнеуральская группа большевиков, в свою очередь, попыталась овладеть станицей Кассельской с тем, чтобы отрезать атаману Дутову путь отступления на юг. Но после горячего боя, продолжавшегося целый день, вынуждена была, под дружным натиском партизан и станичников, отступить в беспорядке обратно в Верхнеуральск, побросав по дороге пулеметы, винтовки и разное имущество.
Как раз в это же время другая большевистская банда, блуждавшая в районе станиц Магнитной и Наваринской, была разгромлена казаками соседних поселков, сформировавших по собственному почину свои отряды.
Здесь уместно отметить следующее явление, наблюдавшееся во всех округах Оренбургского войска.
Очень часто большие и богатые станицы если и не держали открыто сторону большевиков, то всеми способами уклонялись от борьбы с ними, и наоборот – небольшие и бедные станицы проявляли к большевикам крайнюю ненависть и при первой возможности готовы были драться с ними.
Несмотря на ряд частичных успехов, общее положение Войскового правительства ухудшалось с каждым днем. Силы большевиков возрастали, а силы партизан и станичных дружин таяли; ощущался постоянный недостаток в боевых припасах, добывать которые приходилось с бою, что влекло за собой лишние кровопролития. Не хватало также перевязочных средств и медикаментов для раненых и больных, число которых с каждым днем увеличивалось. (Для ознакомления с обстановкой в других округах были командированы тайным образом, под видом простых казаков, два члена Войскового правительства: Богданов в пределы 1-го округа, к Оренбургу, и войсковой старшина Рудаков в район 3-го округа, к Троицку.)
К началу апреля Войсковое правительство с партизанами было окружено в станице Краснинской большевистскими отрядами со всех сторон. Атаман Дутов собрал совещание из членов Войскового правительства и старших начальников, на котором было принято решение пробиваться на юг; а в дальнейшем, если бы не удалось удержаться на войсковой земле, уйти в киргизские степи, где и отсиживаться до того момента, когда появится возможность вернуться обратно в войско для новой борьбы.
Был намечен приблизительный маршрут движения – через станицы, лежавшие по левой стороне Урала, – и день выступления – 4 апреля. Но тронуться с места и выйти из района станиц, все время поддерживавших Войсковое правительство, не так-то было легко. В станицах, которые принимали непосредственное участие во всех последних боях, прекрасно понимали, что с уходом Войскового правительства весь гнев большевиков обрушится прежде всего на них.
При уходе из этих станиц войсковому атаману и его ближайшим помощникам приходилось выступать на станичных сборах с объяснениями о причинах передвижения в другие места.
Старики умоляли атамана не покидать их «на съедение большевикам», женщины и дети поднимали плач…
Атаман Дутов, который хорошо умел говорить с казаками, старался разъяснить станичникам, что его уход с партизанами в другие места вызывается боевой обстановкой и предпринимается с целью продолжения дальнейшей борьбы с большевиками там, где это обещает наибольший успех.
Тяжелее всего было покинуть станицу Краснинскую, которая в силу обстановки довольно долго служила атаману Дутову «ставкой».
Для поддержания духа и успокоения стариков в некоторых станицах Войсковое правительство вынуждено было оставлять немного винтовок и патронов.
При таких условиях сохранить скрытность передвижений партизанских отрядов было чрезвычайно трудно. Большевики зорко следили за каждым их шагом, чтобы в удобный момент ударить по ним.
Местность, по которой приходилось двигаться, была холмистая, большей частью открытая, лишь изредка попадались небольшие перелески. Движение задерживалось весенней распутицей, хотя конница, имея пулеметы на легких тарантасах, шла сравнительно легко и маневрировала совершенно свободно. Но колесная колонна Войскового правительства с разными учреждениями, транспортом раненых и обозом беженцев передвигалась довольно медленно, особенно на участках, покрытых еще снегом или залитых водой. (К Войсковому правительству присоединилось и окружное правление 2-го округа.) Происходили частые задержки на переправах через разлившиеся речки и набухшие овраги, тем более что переходы совершались большей частью ночью.
Атаман Дутов выступил из станицы Краснинской 4 апреля утром. Благодаря удачно выбранному направлению, ночным маршам, хорошо организованной разведке и вовремя пущенным ложным слухам ему удалось пройти несколько станиц и поселков (станицы – Кассельскую, Остроленскую, Требиатскую, Наваринскую и поселки – Кацбахский, Измаильский и Кульмский), искусно обходя большевистские «заставы», в том числе отряд подъесаула Каширина, поджидавшего «своего атамана» на переправе через реку Гумбейку (приток Урала) у станицы Черниговской, в то время, когда вся колонна Войскового правительства форсировала эту реку в ночь с 5 на 6 апреля у станицы Наваринской.
В поселке Бриенском атаман Дутов решил остановиться на дневку, чтобы дать людям и лошадям небольшой отдых, хотя обстановка требовала безостановочного движения.
И действительно, на следующий день на рассвете – это было 10 апреля – перед поселком Бриенским появился Николай Каширин, с отрядом из трех родов оружия, а другой большевистский отряд спешно двигался от станицы Кваркенской наперерез пути отступления атаману Дутову.
В произошедшей оплошности повинен был отчасти «полевой штаб» атамана Дутова, ограничившийся выставлением на ночь одной заставы, которая «проспала» появление большевиков. Тревога была поднята часовым на церковной колокольне. (Начальником полевого штаба атамана Дутова был Генерального штаба полковник Н.Я. Поляков (не казак), занимавший во время мировой войны должность начальника штаба Оренбургской казачьей дивизии.)
Среди жителей и беженцев началась паника. Чтобы дать возможность вывезти обозы с ранеными и беженцами в более или менее безопасное место, пришлось принять бой в чрезвычайно невыгодных условиях.
Учитывая критическое положение застигнутой врасплох колонны Войскового правительства и свое численное превосходство, большевики с места повели энергичное наступление: пехота с фронта, конница в обхват флангов, при этом отдельные конные группы из казаков-изменников проявили большую дерзость, все время стараясь ударить в тыл партизанам.
Но партизанские отряды, объединенные под командой полковника Акулинина, так ощетинились, что сразу же осадили большевистский натиск и не позволили им развить наступление – ни на фронте, ни на флангах.
Занимая один рубеж за другим, полковник Акулинин задержал большевиков на целый день, чем дал возможность атаману Дутову к вечеру 10 апреля собрать в поселке Елизаветинском (в двух переходах от поселка Бриенского) все обозы и транспорты.
Поселок Елизаветинский был последним этапом на войсковой территории, дальше начиналась Тургайская область.
В ночь на 11 апреля атаман Дутов с отрядами выступил из поселка Елизаветинского к Адамовской волости и, миновав ряд переселенческих хуторов, население которых сочувствовало большевикам, углубился в пределы киргизской степи. (Крестьянские хутора Тургайской области возникли вдоль восточной и южной границ Оренбургского войска на киргизских землях. Незадолго перед мировой войной сюда были переселены крестьяне из внутренних губерний Европейской России по плану Главного переселенческого управления.)
Дальнейшее движение происходило исключительно днем, от одного киргизского аула к другому. Общее направление было взято на город Тургай.
Большевики прекратили преследование партизан на грани Оренбургского войска и Тургайской области.
При движении по степи казаки ни в чем не терпели недостатка – ни в пище, ни в фураже, ни в крове.
Отношение киргизов к казакам было вполне доброжелательное, если только они заранее узнавали, что идут не «большевики», а «меньшевики».
(Западную часть Тургайского уезда, где проходил атаман Дутов, населяют наиболее культурные киргизские племена – аргыны, которые были настроены антибольшевистски. Враждебные им кипчаки, кочующие в восточной части Тургайской области, наоборот, держали сторону большевиков.) После Октябрьского переворота в представлении киргизов вся Россия разделилась на два лагеря: большевиков (красных) и меньшевиков (белых).
В конце апреля атаман Дутов вступил в степной городок Тургай, где неожиданно для казаков оказались казенные склады с продовольствием и артиллерийскими припасами, оставшимися здесь после ухода карательного отряда генерала Лаврентьева, усмирявшего в 1916 году взбунтовавшихся киргизов. (Как известно, киргизский бунт возник – не без немецкой агитации – на почве призыва киргизов в армию для тыловых работ во время мировой войны. Бунтовали главным образом кипчаки, из аргын к ним примкнуло только два племени. Для усмирения бунтовщиков был послан в Киргизский и Тургайский уезды карательный отряд из трех родов войска под командой генерала Лаврентьева, который быстро навел порядок в степи.)
За время месячной стоянки в Тургае люди отдохнули, конский состав пополнился киргизскими аргамаками, материальная часть – седла, тарантасы, оружие – подновлена. Были произведены и организационные изменения.
Все партизанские отряды соединены в один – под командой войскового старшины Мамаева, который теперь имел в своем распоряжении конную сотню, пулеметную команду и пешую сотню, передвигавшуюся на тарантасах (по 4 стрелка на тарантасе, не считая кучера).
Все боеспособные беженцы были зачислены в пешую или конную сотни, остальных, в виде нестроевой команды, оставили при обозе. С местными властями – русскими и киргизскими – у Войскового правительства установились самые хорошие отношения.
Советы еще не успели укорениться в степи. Старейшины окрестных племен относились к атаману Дутову с большим уважением и всегда были рады видеть его у себя в аулах в качестве почетного гостя.
В Тургае атаман Дутов простоял до конца мая, внимательно следя за всем, что происходило в войске.
В то время, когда атаман Дутов вел борьбу с большевиками в пределах 2-го округа, офицеры, укрывшиеся по станицам и хуторам в районе Оренбурга, подняли восстание в верхних станицах (станицы, лежащие по реке Уралу и реке Сакмаре выше Оренбурга) 1-го округа и под командой войскового старшины Лукина организовали поход на Оренбург.
Вначале дела у восставших шли хорошо. Комиссары из станиц были изгнаны, Советы уничтожены. 4 апреля, после жаркого боя, был взят Оренбург, но плохо организованные и слабо вооруженные станичные дружины не могли удержать город в своих руках и отступили.
Энтузиазм среди казаков сразу пал, сменившись всеобщей растерянностью. Дружины поспешно разошлись по домам, несмотря на попытки офицеров удержать их и привести в порядок.
Начался развал станиц: по требованию советских комиссаров большая часть оружия была у казаков отобрана, многие офицеры и казаки – участники похода – выданы и расстреляны. В числе первых жертв погиб войсковой старшина Лукин, схваченный большевиками в поселке Нежинском.
Таким печальным финалом завершился первый период борьбы Оренбургского войска с советской властью.
Главнейшими причинами, повлекшими за собой поражение казаков, приходится считать следующие:
1. Непонимание казаками-стариками надвигавшейся на них в лице большевиков опасности; их неумение сорганизоваться и объединиться вокруг Войскового правительства, слабая поддержка ими офицеров и партизанских отрядов, хотя подавляющее большинство стариков было настроено антибольшевистски.
2. Отказ казаков-фронтовиков драться с большевиками по возвращении в войско, причем многие из них оправдывались тем, что свой долг они исполнили в войне с внешним врагом, а войсковую территорию должны были, по их мнению, защищать старики, неспособные и все те, кто «сидел дома».
3. Сочувствие большевизму со стороны некоторой части фронтового и станичного казачества, особенно казачьей полуинтеллигенции.
4. Боязнь большинства станиц открыто вступить с большевиками в единоборство ввиду их массового превосходства и успехов по всей России, отсюда желание: «нейтралистами», делегациями, контрибуциями и разными другими хитрыми махинациями, с одной стороны, отделаться от борьбы в рядах Войскового правительства, а с другой – откупиться от большевиков и тем «спасти свои животишки».
5. Неприязнь между стариками и фронтовиками, возникшая после возвращения последних с фронта домой на почве расхождения во взглядах на большевизм и революцию.
6. Недоверие и даже враждебное отношение со стороны некоторой части фронтового казачества вообще к «начальству», что встречало резкое осуждение среди стариков.
7. Отчужденность, а в некоторых станицах и открытая вражда между зажиточными и бедными казаками, возникшая под влиянием агитации со времени провозглашения лозунга «организовать трудовое казачество».
8. Растерянность начальства на местах, которое ничего не предпринимало для борьбы с большевиками без указаний свыше. К организации станичных дружин приступили лишь после получения приказа Войскового правительства, а партизанские отряды формировались в порядке частной инициативы активной частью офицерства. Особенно поразительную бездеятельность проявили окружные правления во главе с окружными атаманами, среди которых не оказалось ни одного деятельного человека.
9. Неподготовленность всего войскового аппарата к новым формам борьбы, когда, наравне с чисто военными мерами, требовалось применение революционных методов, как то: распространение среди населения воззваний, листовок, издание газет, посылка агитаторов и проведение террора – в отношении главарей большевистского движения. (В Оренбурге вожаки местных большевиков за призыв к восстанию были арестованы в самом начале движения, но их, вместо того чтобы немедленно предать военно-полевому суду, посадили в гражданскую тюрьму, откуда они благополучно бежали, не без содействия тюремной стражи.) Вместо этого – и в тылу, и на фронте – все делалось по старому шаблону: писались приказы, рассылались циркуляры, составлялись журнальные постановления, которые в большинстве случаев в жизнь не претворялись и оставались мертвой буквой.
10. Обременение Войскового правительства, по настоянию Войскового круга, разного рода хозяйственными, домашними делами, когда, по обстановке, требовалось все внимание сосредоточить на фронте.
11. Слабая поддержка антибольшевистской борьбы интеллигенцией и особенно торгово-промышленным классом, которые рассчитывали «выехать на казачьих спинах», ничем не жертвуя: ни жизнью, ни деньгами, ни имуществом.
12. Недоверие и скрытая вражда к атаману Дутову, как «контрреволюционеру», со стороны некоторых социалистических кругов, вносивших разложение в общий фронт борьбы.
13. Поддержка большевиков рабочими в городах и крестьянами в деревнях, соседних с Оренбургским войском губерний и областей.
14. И, наконец, большое значение имела большевистская пропаганда, которая вносила разложение в казачью среду и привлекала на сторону Советов тех из казаков, кто хотел использовать большевизм в своих интересах или искренно поверил в правоту коммунистических лозунгов.
В заключение необходимо принять во внимание географическое положение Оренбургского войска. Оно лежит между Европейской Россией, с одной стороны, Сибирью и Туркестаном – с другой и прорезано двумя железнодорожными магистралями: на севере (у Челябинска) Великим Сибирским путем, а на юге (у Оренбурга) Ташкентской железной дорогой.
До революции земля Оренбургского казачьего войска входила в состав Оренбургской губернии и занимала ее южную, юго-восточную и отчасти северо-восточную части, простираясь от границ Уральского войска (у Илецкого городка) до границ Сибирского войска (у Звериноголовской станицы). На юге и юго-востоке войско примыкало к киргизской степи Тургайской области.
Установление прочной связи «революционного пролетариата» Петрограда и Москвы с рабочими центрами Сибири (Омск, Иркутск, Владивосток) и Туркестана (Ташкент) представляло для советских верхов задачу первостепенной важности. Без этого они не могли рассчитывать на взаимную поддержку и на быстрое распространение своей власти на восточной и юго-восточной части России.
Кроме того, большевики тянулись в Сибирь за хлебом и жирами, которые там имелись в изобилии, а в Европейской России в них ощущался недостаток, особенно в столицах. В Туркестане большевикам нужен был хлопок для фабрик и заводов.
Эти обстоятельства поясняют, почему большевики, оставив в покое до поры до времени уральских и сибирских казаков, территории которых лежали в стороне, сразу навалились на Оренбургское войско, преграждавшее им путь в Сибирь и Туркестан.