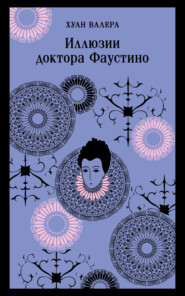скачать книгу бесплатно
Несмотря на приверженность к романтизму, в нем сидел этакий нудный, педантичный классицист вроде Моратина Младшего[50 - Моратин Младший Леандро Фернандес де (1760–1828) – испанский писатель и переводчик, поэт и драматург неоклассического направления, поклонник идей Просвещения.], который жужжал ему прямо в ухо и сбивал с толку: «Ах, друг мой Пипи! Лучше уж быть официантом в кафе, чем дрянным поэтом». Может показаться невероятным, но наш доктор ни в грош не ставил свои вирши и не спешил их публиковать, не будучи уверенным в их достоинствах и надеясь, что создаст когда-нибудь настоящие стихи.
Только одна строка, которую он часто повторял про себя, была достойна его таланта: «Я чувствую, как в голове моей зажегся хаос!» Страшное признание! Фраза эта отражала ужасный хаос докторских идей и мыслей.
Иногда ему казалось, что он ровно ничего не знает, ничему не научился и вообще ни на что не годен: не мыслитель и не практик. Но чаще он думал иначе: думал, что все познал, все понял. Однако это его не радовало, а скорее угнетало.
Неужто я все познал, и книги больше ничему меня не научат? Неужели все, что я читаю, вздор? Может быть, между знанием и незнанием нет разницы? Может быть, все, что я знаю, это только отзвук, эхо, проявление того, что уже заложено в моем сознании? Значит, писатель всего только переиначивает по своей методе существующую концепцию мира. Выходит, я знал эту концепцию до того, как прочел о ней в книгах. Но я как раз жажду узнать то, чего не могу найти в книгах.
Всякий раз, когда мысли принимали подобный оборот и ему казалось, что он уже наполнен до краев, перенасыщен знаниями и они ему обрыдли, его охватывало страстное желание общаться с высшими существами, знающими больше простых смертных, и уже с их помощью проникнуть в тайны видимого и невидимого мира.
Доктор Фаустино считал себя таким благородным и важным, что не мог объяснить, почему духи относились к нему столь пренебрежительно, и чувствовал себя оскорбленным. Однако духи действительно не откликались на его заклинания и не общались с ним. Можно было подумать, что доктор помешался. Но нет: он не был безумцем, хотя часто пребывал в состоянии крайнего возбуждения.
Отрешившись от беспочвенных спекуляций, он снова возвращался на землю и начисто забывал о всякой чертовщине, ибо не верил, что найдется какой-нибудь другой дьявол-простофиля вроде Мефистофеля, который просто так, задаром предоставит деньги, удовольствия, славу, богатство и любовь ему, Фаустино, почти тезке знаменитого Фауста. Он хотел достигнуть всего этого сам, не надеясь ни на черта, ни на дьявола, ни на науку, ни на поэзию, а рассчитывая только на житейскую изворотливость. В глубине души он презирал ее, но в то же время его угнетало сомнение: хватит ли у него этой изворотливости?
Чтобы избавиться от этого сомнения и поверить в свои силы, ему нужно было поехать в Мадрид; оставаться дольше в Вильябермехе было невозможно. Доктор часто разговаривал об этом с матерью.
– Какие же у тебя планы? – спрашивала почтенная сеньора.
– Никаких.
– Хочешь заняться адвокатурой?
– Ни за что.
– Может быть, выгоднее избрать карьеру журналиста или поступить на службу?
– Тоже не годится.
– А поэты зарабатывают что-нибудь?
– Не знаю, могу ли я стать настоящим поэтом, но даже лучшие поэты зарабатывают мало либо совсем ничего не зарабатывают.
– Впрочем, чтобы заниматься поэзией или прозой и составить себе имя, можно и не уезжать отсюда. Не так ли?
– Разумеется, – соглашался доктор.
– Тогда оставайся здесь, не покидай меня одну. Я так тебя люблю.
И доктор уступал уговорам и просьбам матери. Он понимал, что в Мадриде весь его капитал испарится за каких-нибудь полгода и тогда хоть милостыню проси. Думая об этом, он опускал голову и печально улыбался.
Оставшись один, Фаустино спрашивал себя: «На что я годен?» и приходил к заключению, что, кажется, он ни на что не годен.
Мать, оставшись наедине с собой, рассуждала примерно так: «Мой сын прекрасен телом и душой, он мил, любезен, у него большие способности (это я говорю не потому, что он мой сын), но он такой странный, такой фантазер. На что он годен? Боюсь, только на то, чтобы терзаться сомнениями».
III. План доньи Аны
Прошел год после того, как Фаустино получил степень доктора. Год прошел в мечтах о Мадриде, но он все не ехал, ибо средств по-прежнему не было. Целый год был заполнен диалогами и монологами вроде тех, что мы приводили в предыдущей главе.
Мантия, шапочка с кисточкой и прочие знаки докторского отличия, роскошная униформа офицера копейщиков и не менее роскошный костюм члена клуба верховой езды томились в шкафу, где им грозила опасность быть траченными молью. В том же положении пребывали сюртуки и фраки; щегольские наряды висели втуне, ибо доктору некуда было ходить, незачем наряжаться. Будучи человеком опрятным, он проявлял, однако, полное небрежение к одежде и ходил в платье, которое мало приличествовало доктору и аристократу: он носил куртку, широкополую шляпу, а зимой еще и плащ.
К беднякам он относился мягко, сострадательно, любезно, и мелкий люд отвечал ему на это своей любовью. Зато местные богатеи ненавидели его и позволяли себе насмехаться над ним. Он не наносил им визитов, не посещал казино, ни одна хорошенькая девушка не слышала из его уст любовного признания.
Больше всех его ненавидели дочери нотариуса – две девицы, мнившие себя красавицами и аристократками. Выражаясь по-местному, они много о себе понимали. Их отец, дон Хуан Крисостомо Гутьеррес, был очень богат, ибо, получая недурное жалованье, промышлял ростовщичеством. Обе дочери, Росита и Рамонсита, выглядели настоящими принцессами. Они выписывали себе дорогие наряды не только из Малаги, но и из Мадрида. На людях они вели себя так важно, с таким апломбом, что когда в селении обосновался наряд гражданской жандармерии, то обыватели за неимением лучшего образца для сравнения – кто же может быть более импозантным и почитаемым, чем жандарм? – дали обеим дочерям общее прозвище Жандарм-девицы, под которым они известны и по сию пору.
Жандарм-девицы безудержно злословили по поводу несчастного доктора: называли его достославным Пролетарием и доном Нищим, а ввиду того, что от его адвокатского звания не было проку, – Холодным Адвокатом.
Доктор никогда не появлялся на прогулках, которые совершались на площади, а предпочитал шататься в одиночестве по безлюдным дорогам и тропинкам. Особенно он любил забираться на холм Аталайю, где находились развалины древней сторожевой башни. Оттуда открывался прекрасный вид на поля, тянувшиеся до самого горизонта. Каменистый холм был почти лишен растительности, если не считать чахлых кустиков дрока, розмарина и тмина. В расселинах камней кое-где пробивались дикие ирисы, какие-то темно-лиловые цветы с одним-единственным лепестком – их называют здесь светильниками – и спаржа. Это дало повод Жандарм-девицам для нового прозвища: они стали величать доктора граф Спаржа Аталайский.
Нашлись люди, которые поведали ему об этом, но доктор был неуязвим и даже не удостоил насмешниц ни улыбкой, ни ответной шуткой. Он был целиком поглощен своими невеселыми думами и заботами – философского свойства и чисто практического.
Его философские размышления сводились к тому, что он познал все, что человеческое знание – пустяк, что прочти он хоть миллион книг – ничего не изменится. Он мечтал о том, чтобы обрести спокойствие духа. Но этого можно было достигнуть в любом месте: в Вильябермехе, в Париже, в Лондоне. Таким образом, мысль о поездке в Мадрид сама собой отпадала.
Однако, поскольку он этого не достиг, все желания, томления, вожделения, свойственные молодому человеку в двадцать с небольшим лет, завладели его сердцем и побуждали ехать в Мадрид. Жажда любви, удовольствий, честолюбивые мечты, стремление прославиться, стать знаменитостью, снискать благосклонность и любовь прекрасных дам, блестящие салоны, где он привлекает всеобщее внимание, таинственные будуары, двери которых завешены роскошными фламандскими коврами, аплодисменты, которыми публика встречает его великолепные стихи и речи, достойные его гранадского учителя, восхищение кавалеров и дам при виде того, как он гарцует в Прадо на горячем скакуне, – эти и тысячи других картин проносились в его голове и выбивали из привычной колеи. Унизительная бедность рушила воздушные замки. И доктор чувствовал себя несчастнее самого принца Сихисмундо[51 - Принц Сихисмундо – главный герой драмы Кальдерона «Жизнь есть сон», в центре которой конфликт между судьбой и долгом, властью и личностью.]. Действительно, видеть себя запертым в Вильябермехе из-за постыдной бедности было еще более унизительно, чем оказаться в клетке по злой воле отца-тирана. Уединившись у себя в доме или спрятавшись от людей на холме, в зарослях спаржи, дарованных ему дочерьми нотариуса, он читал, вникал в смысл и упивался горечью прекрасных децим:[52 - Децима – в испанской поэзии строфа из десяти строк, написанная чаще всего четырехстопным хореем.]
Живее! Бог мой, я намерен…[53 - Начало монолога, написанного децимами, принца Сихисмундо из первого акта «Жизнь есть сон».]
«Как жаль, – думала донья Ана, – что мой сын не может подавить в себе честолюбивые желания и навсегда остаться подле меня. Разве будут его любить больше, чем я? Разве станут его так же уважать и почитать, как уважают и почитают его наши верные старые слуги и эти несчастные, но честные поденщики? Ну, где еще он услышит такие ласково-почтительные и искренние слова: «Да хранит вас бог, хозяин», «Благослови вас бог за вашу доброту, сеньорито». И его доброе «с богом, друзья мои» завоюет ему здесь большую любовь, чем все речи, стихи и романсы, которые он сочинит в Мадриде. Правда, чего ему здесь не хватает?» Так рассуждала донья Ана и по-своему была права. Родовой дом только снаружи выглядел мрачной развалиной, зато внутри было просторно и удобно. Донья Ана располагалась во втором этаже, доктор жил совершенно отдельно – в нижнем.
Здесь был просторный зал; вдоль стен стояли старинные кресла орехового дерева, обитые тисненой кожей и украшенные бронзой; на стенах висели золоченые канделябры, портреты славных предков, писанное маслом родословное древо; посередине располагались жаровня из блестящей латуни и стол, уставленный ароматницами, кувшинами и китайскими вазами. Другой зал предназначался для гимнастических упражнений. На полу лежал мат, с потолка свисала трапеция, в одном углу можно было видеть учебные сабли, рапиры, проволочные маски, панцири, латные рукавицы, в другом – охотничьи сапоги, гири для выжимания.
Третий зал был отведен под библиотеку и кабинет для занятий. Несколько шкафов крашеного дерева были заставлены книгами разного содержания и происхождения. Те, что привез с собой из Франции продавшийся дьяволу командор Мендоса, неприкаянная душа которого обреталась на чердаке, были нечестивыми: Вольтер, энциклопедисты и прочие. Те, что служили для образования и воспитания доньи Аны, приобретенные большей частью у французского священника, были своеобразным противоядием вольнодумным книгам командора Мендосы. Тут можно было найти благочестивые сочинения Бержье и других защитников церкви, произведения Фенелона, Массильона и Боссюэ[54 - Бержье Никола-Сильвестр (1718–1790) – французский теолог, защищавший католическую доктрину от критики атеистов. Посещал салоны просветителей, также создал «Словарь теологии» к «Энциклопедии» под редакцией Дени Дидро.Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651–1715) – французский писатель, королевский наставник, богослов. Самый известный роман – «Приключения Телемака».Массильон Жан-Батист (1663–1743) – французский проповедник. Уже посмертно его внук выпустил сборник сочинений и проповедей Массильона, в центре которых обязанности обладающих властью.Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) – французский проповедник, богослов, писатель. Считал абсолютизм формой правления, обусловленной божественной волей.]. Отдельно хранились книги по юриспруденции и огромное количество томов испанских авторов, от знаменитых «Посланий» епископа из Мондоньедо[55 - Имеются в виду нравоучительные «Семейные послания» испанского священника, писателя-моралиста Антонио де Гевара (1480–1545), епископа Гуадиса и Мондоньедо, написавшего множество дидактических трактатов для короля Карла V.] до великолепных стихов священника Фруимского[56 - Священником Фруимским называли галисийского поэта Дьего Антонио Сернадос-и-Кастро (1702–1777), являвшегося приходским священником в Фруиме. Писал о несправедливости и Галиссии, через простые пьесы учил чтению и религии.], и, наконец, книги по медицине, химии, физике и другим естественным наукам, которые доктор купил у вдовы ученого медика, умершего от холеры в 1834 году.
В спальне у доктора стояла еще одна полка; здесь были любимые поэты: от Гомера до Соррильи, Эспронседы и Ароласа[57 - Соррилья Хосе (1817–1893) – испанский поэт и драматург, в своих работах воспевал Испанию и христианство.Аролас Хуан (1805–1849) – испанский поэт-романтик, монах, педагог.].
В нижнем этаже была комната, где доктор проводил большую часть времени, особенно зимой. Она называлась нижней господской кухней, но не потому, что в ней что-то готовили, а потому, что там стоял огромный камин с пирамидообразным кожухом. Камин был так велик, что в него можно было одновременно запихнуть целое бревно, множество жмыха и несколько охапок сухой виноградной лозы, что часто и делал доктор. Стенки сильно выступали вперед, и по обеим сторонам камина удобно размещались кресла с подлокотниками. В одном из них доктор проводил долгие часы за чтением или просто размышляя. Тут же был стенной шкаф, дверца которого откидывалась сверху вниз и, опираясь на подставки, образовывала подобие конторки, куда можно было положить бумагу, книги, поставить чернильницу.
В другое кресло обычно усаживалась донья Ана, когда хотела поболтать с сыном. Общество дополняли стареющие спаниели, борзые и гончие, располагавшиеся у очага полукругом.
Кухня была не лишена своеобразного очарования: деревенская простота сочеталась здесь с некоторой изысканностью. На кожухе камина красовался герб рода Мендоса. На одной стене висело несколько клеток с певчими птицами, на другой – мушкеты, охотничьи ножи, пистолеты и другое оружие, и повсюду – головы оленей, лисиц, волков и куниц. Чучела не отличались хорошей выделкой. Это свидетельствовало о том, что здесь висели охотничьи трофеи, а не украшения, купленные в лавке.
Все это доставляло удовольствие владельцу, а между тем он рвался в Мадрид. Но разве в захудалой гостинице он может рассчитывать на такую роскошь и комфорт!
Несмотря на свою бедность, хозяева ели совсем недурно. На рынок, слава богу, ходить надобности не было, в доме в изобилии имелись продукты земледелия и животноводства: старое доброе вино, сочные окорока, колбасы, сосиски, вяленое мясо и горы другой снеди, заготовленной доньей Аной. В их хозяйстве были две голубятни: одна – в башне родового дома, другая – на ферме; на той же ферме стояло несколько десятков ульев с душистым медом, росло множество плодовых деревьев, на скотном дворе резвились куры, индюшки, утки, выкармливаемые отходами пшеницы и прочим зерном.
Все это, несмотря на долги и материальные затруднения, содержалось в полном порядке благодаря бережливости, экономии и зоркому глазу доньи Аны. В доме ничего не пропадало даром: ветхую мебель не выбрасывали, старые матрасы, простыни, одеяла и полотенца чинили и латали, увеличивая срок их службы. Донья Ана немало трудилась, чтобы подольше сохранить белье, и не жалела благоухающей лаванды. И все же доктор жаждал покинуть дом и отправиться на поиски приключений.
Всю зиму донья Ана думала об этом, вела деятельную переписку, не посвящая в нее сына. Наконец однажды вечером – это было весной, когда мать и сын были одни в зале со старинной мебелью, портретами предков и картиной, изображавшей родословное древо, донья Ана обратилась к сыну со следующими словами:
– Послушай меня внимательно: я хочу говорить с тобой о весьма важном деле.
Доктор, устроившись в кресле против матери, приготовился слушать с почтительным вниманием.
– Я с горечью замечаю, что ты несчастлив здесь со мною, и очень от этого страдаю. Конечно, тебе здесь покойно и удобно, но нет того, что могло бы удовлетворить твое честолюбие, жажду славы и любви. Я не упрекаю тебя за то, что ты хочешь меня оставить. Это естественно. Но согласись: ехать в Мадрид без гроша в кармане было бы чистым безумием. Когда говорят «бедность не бесчестье, но болезнь похуже проказы», то желают сказать этим, что жестокая нужда может толкнуть даже благородного и порядочного человека на низкий поступок, чего я, разумеется, не пережила бы. Поэтому я нашла средство. Ты можешь ехать в Мадрид без риска окончательно там разориться и погибнуть.
– Какое же это средство? – взволнованно спросил доктор Фаустино.
– Сейчас объясню, – отвечала мать. – Тебе известно, что в городе ***, в четырнадцати лигах отсюда, живет моя горячо любимая кузина, донья Арасели де Бобадилья. Хотя ей за шестьдесят, все зовут ее барышня Бобадилья. Это потому, что она не нашла в свое время жениха, достойного ее руки и сердца. Твоя тетка живет на широкую ногу: дает балы, устраивает в деревне корриды по случаю ярмарок и празднеств. Не позже, чем через неделю, ты получишь от нее приглашение на один из таких праздников и можешь пробыть там, сколько тебе вздумается.
– Какая же мне выгода гостить у тетки и присутствовать на празднике?
– Имей терпение: сейчас все объясню. У барышни Бобадильи есть брат дон Алонсо, владелец богатого майората. Он хороший хозяин и сумел увеличить доходы благодаря разумной обработке земли и успехам в разведении скота. Дон Алонсо живет в том же городке, что и Арасели; лет пятнадцать тому назад он овдовел; у него есть восемнадцатилетняя дочь Констансия, красавица и умница выше всяких похвал, к тому же она так добра, добродетельна и скромна, что даже злые языки ее хвалят.
– Ну и что же?
– Скажу без обиняков. Я договорилась насчет твоей женитьбы. Отец ее боготворит, а у него миллионное состояние.
– Значит, вы хотите сделать из меня Кобурга?
– А почему бы и нет? У тебя будут деньги, которые дадут тебе крылья. Ты поднимешься так высоко и так высоко вознесешь свою жену, что она никогда не пожалеет, что дала тебе эти крылья. Девушка знает тебя по портрету, где ты выглядишь так славно в мантии и в шапочке. Кузина Арасели, которая показывала ей портрет, пишет, что ты ей очень понравился.
– Я рад, матушка, очень рад, но понравится ли она мне?
– Ты познакомишься с ней, присмотришься. Тебя никто не неволит. Еще ничего не решено. Возможно, дону Алонсо кое-что известно о наших планах, но он делает вид, что ничего не знает. Вы еще не обручены. Вы увидитесь, познакомитесь и, если не понравитесь друг другу, расстанетесь – тоже не беда.
– Да, но я потеряю время, силы, деньги на поездку, – возразил доктор. – Может быть, отказаться, пока не поздно?
– Но я обещала, что ты приедешь. Так что не подводи меня.
– Если вы обещали, я еду. Ничего не поделаешь.
– Ну вот и хорошо. Я предчувствую, что ты, как мальчишка, влюбишься в Констансию. О ней я не говорю: Арасели пишет, что она горит желанием увидеть тебя. Верный признак, что готова к свадьбе.
– Если Констансия мне приглянется и если она так богата, как ты говоришь, то мы поладим.
Поскольку в том городке, куда ехал Фаустино, не было университета, знаки докторского отличия – мантия и шапочка с кисточкой – были ему не нужны.
Наступил день отъезда. Мать и сын нежно обнялись и простились. Доктор отправлялся на своей лошадке, украшенной богатой сбруей. На нем было дорожное платье: куртка, брюки с кожаными леями, широкий пояс. Респетилья, исполнявший роль оруженосца, ехал на сером муле и одет был чуть похуже. Шествие замыкал другой слуга с тремя мулами, запряженными цугом, навьюченными багажом и массой подарков для доньи Арасели и для самой доньи Констансии: тут было ореховое печенье, миндальные пирожные, слоеные пирожки, домашняя пастила, фруктовые соки в бутылках, залитых сургучом, виноградный сироп, рыбьи паштеты, компот из айвы и множество других вкусных вещей, которыми славится Вильябермеха.
Путешественники отправились в дорогу спозаранку, но отъезд их не прошел незамеченным: любопытные Жандарм-девицы, постоянно торчавшие у окон, наблюдали за ними из-за жалюзи балкона. Выехать из селения, минуя дом нотариуса, было невозможно.
– Росита, – обратилась Рамонсита к сестре, увидев доктора, – ты не знаешь, куда это направился граф Спаржа?
– На завоевание более плодородных и доходных земель, – ответила Росита.
Доктор услышал эти слова и покраснел как маков цвет. Он подумал, что они знают, куда и зачем он едет, и потому смеются над ним. Но Жандарм-девицы ничего не знали.
IV. Донья Констансия де Бобадилья
Четырнадцать лиг, отделявших доктора Фаустино от его тетки Арасели, остались позади, и никаких происшествий не случилось.
Караван, вернее – праздничный сватовской поезд ночью сделал остановку в придорожной гостинице в десяти лигах от Вильябермехи. Там они поужинали жареными цыплятами с рисом и перцем, которые показались им особенно вкусными после утомительного пути, и свежими сардинами, купленными у торговца из Малаги, оказавшегося, к счастью, в той же гостинице. Сардины, зажаренные на углях, были действительно вкусны и возбудили жажду. Доктор, его оруженосец, слуга и торговец из Малаги, которого тоже пригласили к ужину, по-братски, как в старину, разделили трапезу за одним столом и изрядно выпили из докторского бурдюка. Потом, растянувшись на матрацах, набитых сеном, и приладив в изголовье конскую упряжь, постояльцы блаженно заснули.
Едва занялась заря, а господин и его слуги были уже на ногах. Слуги, несмотря на ночное возлияние, заморили червячка, начав с двойной порции анисовой водки, а господин выкушал чашку шоколада.
Вытряхнув матрасы, заплатив за постой, приготовив лошадь и мулов, путешественники снова отправились в дорогу. Звезды уже побледнели в рассеянном свете занимающегося зарей неба.
Было чудесное весеннее утро. Слышалось пение щеглов, соловьев, свист ласточек. Воздух был прозрачен и чист, свежий ветерок и розовый свет неба радовали душу и тело. Даже с доктора слетела его обычная меланхолия.
Когда путь долог, ехать по дороге скучно, и караван то и дело сворачивал, двигался по узким тропам и тропинкам через оливковые рощи, минуя луга и фермы, то следуя вдоль ручья, то взбираясь на холмы и кручи.
Респетилья ехал впереди и хорошо выбирал дорогу, за ним – доктор Фаустино. Далее следовал слуга с упряжкой из трех мулов, навьюченных багажом и подарками. Доктор ехал, ни о чем не думая, в каком-то блаженно-рассеянном состоянии.
Солнце уже взошло. Путники проехали еще несколько лиг. Было десять часов утра. Тут доктор спустился с облаков на землю, очнулся и вспомнил о завтраке.
– Надо немного проехать, там будет источник с хорошей водой и тень. Если вам угодно, тогда мы и позавтракаем, – сказал Респетилья.
И действительно, скоро они увидели источник, спешились, расположились в тени развесистого дуба и закусили холодной бараниной, крутыми яйцами и сочной ветчиной. Огромный бурдюк, сильно похудевший еще прошлой ночью, совсем отощал, и бока его слиплись.
Читатель может посетовать на меня за то, что я так долго и подробно описываю, как путники ехали, спали, ели. Читатель хочет, вероятно, чтобы я поскорее закончил описание путешествия и перенес моего героя в дом доньи Арасели. В оправдание свое скажу, что когда доктор Фаустино позавтракал и снова отправился в путь, то, уже приближаясь к селению, где он намеревался заключить брачный союз, который мог существенным образом переменить его судьбу, он пустился в размышления столь важного и решающего свойства, что я должен рассказать о них хотя бы вкратце. Поэтому я воспользуюсь некоторыми подробностями, может быть излишне пространными, о которых мне поведал дон Хуан Свежий. Их так много, что я не буду отягощать историю собственными домыслами и ограничусь кратким изложением самого главного, ибо не хочу прослыть многословным.
Но прежде всего необходимо остановиться на одном пункте, которого мы еще не касались. Читатель уже составил себе представление о духовном и моральном облике доктора, но почти ничего не знает о его внешности.
Он был высок ростом, сухощав, крепок и светловолос, правда, без всякой рыжеватости, столь характерной для бермехинцев. Хотя доктор жил в эпоху разгула романтизма, он не стал отращивать длинную шевелюру, но и не стригся коротко, что давало возможность любоваться природными, мягкими, как шелк, завитками. В нем блестяще проявилось одно из выдающихся качеств, которое этнографы считают исключительной принадлежностью арийцев: он был euplocamos[58 - Пышнокудрый (греч.).] по преимуществу. Его светло-золотистая борода была довольно густа, а усы, которых не касалась бритва, были мягки, как юношеский пушок. Лоб чистый, открытый, нос с небольшой горбинкой, маленький рот, великолепные зубы, белая матовая кожа, нежная, как у женщин, румянец на щеках, и огромные синие глаза, полные томной меланхолии. Словом, все находили, что юноша недурен собою, хотя несколько застенчив. Правда, он отлично держался в седле и больше был похож на англичанина в андалусийском платье, чем на испанца. Это тоже было кстати, ибо выглядеть андалусийцем среди андалусийцев не бог весть какое достоинство. Весь облик нашего доктора был несколько необычным и иностранным, что особенно привлекает и восхищает женщин.
Между тем доктор продолжал путь и размышлял таким образом: «Уступая матушке, я дал вовлечь себя в предприятие, на которое сам никогда бы не решился. Допустим, мы понравимся друг другу, но что я могу предложить девушке взамен ее согласия стать моей женой? Родовой дом, несколько ферм, доходов от которых едва хватает для уплаты долгов? Смешно. Лучше уж ничего не иметь, но и это не имущество. Звучность моего имени мало что значит для нее, ибо она сама славна предками. В Испании каждый встречный-поперечный может иметь славных предков: были бы деньги и охота доказывать, что ведешь свое начало чуть ли не от самого Сида. Если бы у меня был титул – хотя бы графа Спаржи, который мне пожаловали дочери нотариуса, – тогда другое дело. Это уже кое-что. Молодым девицам льстит мысль о том, что их будут величать графинями и герцогинями и писать на визитной карточке «Супруга доктора, коменданта крепости и замка Вильябермехи». Вот и получается, что я ничего не могу принести ей, кроме своих надежд. Конечно, если Констансия благосклонно примет эти надежды и отдаст мне взамен свою руку, сердце, пять-шесть тысяч годового дохода, которые обещал ей отец, то, может быть, стоит на это согласиться? В самом деле: ведь она получит недурного мужа, а отцовские деньги и мои знания, ум и труд будут помещены в заклад под проценты, так сказать, на паритетных началах. Так что и она ничего не потеряет».
Здесь мечтания доктора так стремительно взлетели ввысь, что за ними было не уследить и не рассказать о них ни устно, ни письменно. Он видел себя лауреатом премии Мадридского лицея, увенчанным лаврами за поэму на восточные мотивы, автором драмы, выходящим раскланиваться после премьеры спектакля на подмостках Королевского театра, министром, ведущим прием посетителей в своем кабинете, счастливым обладателем титула князя, пожалованного ему королевой за особые заслуги и освобождающего имение от налогов, послом в Париже, где и сам король Луи-Филипп, и весь его двор приходят в восторг от его ума и тонкости обращения, философом, придумавшим новую философскую систему – основу всех других наук – на радость и удивление всему человечеству.
В возбужденном мозгу доктора проносились картины этих и тысячи других триумфов, блестящих, удивительных, потрясающих, ошеломляющих. Перед ним открывался новый сказочный мир, мир красоты и гармонии. Он видел его так ясно и реально, что стоило сделать только шаг… Но все это станет возможным, если у него появятся те пять-шесть тысяч дуро, которые принесет с собой донья Констансия де Бобадилья. «Однако я не женюсь на ней, – продолжал доктор, – если она не полюбит меня или окажется недостаточно хороша собой и бесталанна. Ни за что не женюсь: пусть лучше гибнут все мои мечты и надежды. Ведь люди должны понимать, что я могу жениться только по любви, а не по расчету».
Так рассуждал доктор, обманывая себя, придумывая безвыходные положения, а потом все же преодолевая их. То есть он поступал, как все люди. И получал от этого удовольствие. Наверное, каждому из вас представлялась такая картина: полдюжины врагов нападают на вас, вы геройски принимаете вызов и повергаете противника в прах. На самом же деле бывает достаточно и одного врага, чтобы многие из вас обратились в бегство. Самые скромные белошвейки и судомойки глубоко убеждены, что сам Крез, положивший к их ногам полмира, не мог бы соблазнить их. И только богу известно, с какой легкостью улетучивается обычно их гордая неприступность.
Доктор прекрасно знал, что Констансия хороша собой, поэтому ему не нужно было ни великодушничать, ни проявлять геройство, если бы дело дошло до женитьбы на этой действительно красивой девушке. Однако то, что нынче называется «пускать пыль в глаза», используется не только для того, чтобы ослеплять других, но и себя самого, чтобы создать впечатление о своих собственных достоинствах и совершенствах, к своему же собственному удовольствию.
Внутренний монолог доктора стал еще более откровенным, прямым и значительным, когда он продолжал: «А если Констансия меня не полюбит? Я могу показаться ей малоприятным, скучным, неостроумным, она может не оценить мою душу и не поверить в мое будущее. И что, если, несмотря на все это, я влюблюсь в нее? Тогда я должен буду ее убить. Но чем она виновата, если я ей не понравлюсь? У меня нет права не только убить женщину, которая меня отвергла, но даже возненавидеть ее. Это будет ужасно, и я не знаю, что мне тогда делать. Я ослушаюсь матушку и поеду в Мадрид как есть, без всяких средств, наудачу, буду бороться и не отступлюсь, пока не завоюю славу, деньги и почет, пока не докажу Констансии, что я достоин ее, что мне не нужны ее деньги, что я не пустой мечтатель. Я готов ехать в Мадрид хоть сейчас, прямо через Толедские ворота, со всем своим скарбом, с мулами, с печеньями, вареньями и прочей снедью. Там они не залежатся».
И тем не менее доктор продолжал ехать следом за Респетильей в селение, где жила его тетка Арасели, а мысль о Мадриде мелькнула у него в голове и исчезла.
«Итак, – продолжал доктор, – если Констансия меня не полюбит, а я ее полюблю, то я совершу нечто великое, героическое, удивлю весь мир своими подвигами и завоюю ее холодное сердце. Разве может она полюбить меня теперь, когда я безвестен и неприметен? Но едва ли она останется равнодушной и бесстрастной, увидев, как я, увенчанный лаврами, иду сквозь расступающуюся толпу, когда имя мое будет вписано золотыми буквами в книгу Истории».
Когда мысли приняли такой оборот и он живо представил себе, что уже любит Констансию, а она его – нет, дыхание его стало прерывистым, как у тяжелобольного. Респетилья ехал далеко впереди и не слышал этого, а то испугался бы.
Между тем путники выехали на высокое место, откуда открывался вид на селение – цель их путешествия была близка. Домики сверкали белизной, во внутренних двориках виднелись апельсиновые деревья, акации, олеандры, кипарисы. Речушка, протекавшая близ селения, орошала многочисленные сады, разбитые в плодородной обширной долине, расстилавшейся у их ног.
Путешественники спустились с холма по узкой тропе и выехали на дорогу. Минут через десять впереди показалось белое облачко пыли, а затем – какой-то темный предмет, двигавшийся им навстречу. Респетилья, обладавший острым зрением, все понял, завернул мула и поскакал к хозяину.
– Сеньорито, сеньорито, это карета сеньора дона Алонсо едет вас встречать.
И он не ошибся. Уже слышался звон серебряных колокольчиков, украшавших богатую упряжь статных вороных коней, впряженных в четырехместную карету. Доктор приосанился в седле, отряхнул пыль с платья, лихо сдвинул набок шляпу и, пришпорив лошадь, быстро доскакал до кареты, делая многочисленные вольты. Карета остановилась, и доктор увидел в ней двух дам. Одна оказалась пожилой и сухопарой женщиной с живыми глазами и добрым, приветливым лицом. На ней было черное платье и чепец, украшенный темно-лиловыми бантиками. Другая была невысокого роста и очень грациозна. У нее были черные как смоль волосы, черные глаза, пунцовые губы; когда она улыбалась, обнажались два ряда ровных, ослепительно-белых зубов; нос был чуточку вздернут, что придавало лицу задорное, насмешливое, детски лукавое выражение; кожа лица, чистая и свежая, излучала молодость и здоровье; гибким станом она напоминала скорее змейку, чем пальму. И вообще все, что можно было в ней видеть, предполагать, угадывать, имело совершенные формы, без излишеств и недостатков, словом – как надо: соразмеренно и гармонично, как и полагается быть произведению искусства, сотворенному по строгим и точным правилам; все соответствовало ее восемнадцати годам и положению знатной сеньоры, заботящейся о своей внешности. Эта прелестная женщина была одета в лиловое шелковое платье, в волосах красовалось несколько алых роз; их лепестки удачно сочетались с ярко-зелеными листьями.
Обе дамы знали доктора по портрету: ошибки быть не могло. Старшая из них – это, несомненно, была тетка Арасели – воскликнула, как только увидела его подле себя:
– Здравствуй, племянник. Добро пожаловать!
– Добро пожаловать, кузен, – приветствовала его Констансия.
Доктор ответил на приветствие самым любезным образом. Он спешился, нежно обнял тетку, пожал руку кузине, заметив при этом, что ручка у нее маленькая, с длинными точеными аристократическими пальцами.
– Мне хотелось, – сказала тетка Арасели, – встретить тебя, дорогой племянник, поэтому я одолжила карету у Констансии, а она любезно согласилась сопровождать меня. Твой дядюшка дон Алонсо не мог поехать, у него хлопот полон рот: отделяет животных от стада для продажи на ярмарке. Надеюсь, ты не посетуешь, что вместо него поехала дочка.