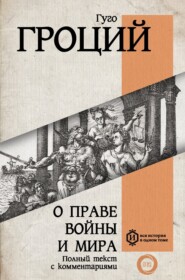скачать книгу бесплатно
I. Деление войны на публичную и частную
1. Первое и необходимейшее деление войны сводится к тому, что война бывает или частная, или публичная, или, наконец, смешанная (Сильвестр, толк. на слово «война», I, I). Публичная война ведется органами гражданской власти; частная же война ведется лицом, не имеющим таковой; смешанная война есть, с одной стороны, публичная, а с другой стороны, частная. Но сначала рассмотрим частную войну как древнейшую.
2. Ведение частной войны дозволено, раз оно не противоречит естественному праву, что, как я полагаю, достаточно ясно из сказанного выше, поскольку установлено, что естественному праву не противоречит отражение кем-либо причиняемого насилия. Однако, быть может, кому-нибудь покажется, что частная война не дозволена с момента учреждения государственных судов. И, несмотря на то что государственные суды установлены не природой, но человеческой волей, тем не менее они несравненно совершеннее созданий природы и пригоднее для спокойствия людей; потому и обращение к ним ни для кого не представляет такой важности, как для отдельных людей, нередко слишком проникнутых заботой о самих себе и полагающих возможным осуществить свое право собственноручно, между тем как повиновение столь похвальному учреждению внушают сама справедливость и самый естественный разум. Юрист Павел полагает: «Не следует предоставлять произволу отдельного лица то, что может быть выполнено должностным лицом, из опасения, чтобы это не послужило поводом большего потрясения» (L. Non est. de R. I.).
Король Теодорих заметил: «Свято чтить законы следует для того, чтобы никто не мог действовать собственноручно, самовольно, ибо чем же будет тогда отличаться мирное состояние от смуты военного времени, если оканчивать споры применением силы» (Кассиодор, кн. IV, «Разные письма»)[139 - То же самое см. в «Эдикте» Теодориха (гл. Х и CXXIV).]. И законы признают наличие насилия «всякий раз, как кто-нибудь пытается истребовать помимо суда то, что, по его мнению, ему причитается»[140 - Сервий, «На «Энеиду» (XI), по поводу слов «парки наложили руку»: «Они перевели долг на себя. Поэт здесь воспользовался языком права, ибо наложение руки означает захват причитающегося нам имущества без разрешения судебной власти».] (L. Extat. D. quod metus).
II. Доказательство того, что не всякая частная война даже после учреждения судов, не дозволена по естественному праву; примеры в подтверждение этого положения
1. Не подлежит, конечно, сомнению, что самоуправство, существовавшее до учреждения судов, весьма ограничено. И тем не менее самоуправство существует и, очевидно, не перевелось и поныне там, где кончаются пределы судебной власти; ибо закон, воспрещающий осуществление своего интереса помимо суда, применим лишь тогда, когда обеспечена полная возможность обращения к правосудию. Прекращение же правосудия бывает или временное, или полное. Оно прекращается временно, когда нельзя прибегнуть к вмешательству судьи, не подвергаясь опасности или какому-нибудь ущербу. Полное же прекращение правосудия бывает или фактическое, или юридическое. Последнее, когда кто-нибудь оказывается в ненаселенной местности, как, например, в море, пустыне, на необитаемом острове или другом каком-нибудь месте, где отсутствует государственная власть; фактическое же прекращение правосудия бывает тогда, когда подданные не повинуются судье или если судья открыто откажет в разбирательстве дела (Молинеус, спор 100, «Сомнительно же»).
2. Сказанное нами о том, что и по учреждении судов право естественное отвергает не всякую частную войну, можно найти в иудейских законах, так, например, Бог говорит у Моисея (Исход, XXII, 2): «Если кто застанет вора за совершением подкопа и ударит его так, что тот умрет, то кровь не вменяется ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь». Несомненно, что этот закон, в котором столь тщательно проводится указанное различие, не только предусматривает безнаказанность, но также изъясняет естественное право; он основывается не на каком-либо особенном божественном велении, но на всеобщей справедливости. Такое же постановление известно в Законе XII таблиц; оно заимствовано, без сомнения, из древнего права Аттики[141 - Слова Солона «Если кто-нибудь похитит днем что-либо на сумму свыше пятидесяти драхм, его следует отвести на суд одиннадцати мужей, если кто-нибудь похитит ночью хотя бы на самую ничтожную сумму, его можно даже убить» Сюда же относится сказанное ниже в кн. II, гл. XII] и гласит: «Если воровство произойдет ночью, и кто-нибудь убьет вора, то такое убийство законно». Так, по законам всех известных нам народов признается невиновным тот, кто с оружием в руках защищает свою жизнь, которая подвергнется опасности нападения; это столь явное согласие свидетельствует о том, что тут действительно нет ничего противного естественному праву.
III. Не всякая частная война не дозволена даже по евангельскому праву; опровержение возражений
1. В отношении более совершенного права, установленного божественной волей, то есть права евангельского, встречается больше трудностей. Я не сомневаюсь в том, что Бог, у которого больше права на нашу жизнь, чем у нас самих, может испытывать наше терпение настолько, что даже в нашей частной жизни, оказавшись в опасности, мы должны быть готовы скорее подвергнуться смерти, нежели совершить убийство. Мы спрашиваем, однако же, действительно ли Ему угодно было связать нас до такой степени. В пользу утвердительного ответа обычно ссылаются на два места, приведенные выше по общему вопросу, а именно: «А я говорю вам: не противься злому» (Евангелие от Матфея, V, 39), «Не мстите за себя, возлюбленные» (Посл. к римлянам, XII, 19), Третье же место содержит следующие слова Христа, обращенные к Петру: «Вложи меч твой в ножны, ибо поднявший меч от меча и погибнет». Некоторые также приводят в пример самого Христа, претерпевшего смерть от врагов (Посл. к римлянам, V, 8, 10).
2. Среди древних христиан нет недостатка в таких, кто не оправдывал даже государственных войн, а частную самозащиту считал воспрещенной. Мы уже приводили выдержки против войны из Амвросия. Соответствующие места из Августина гораздо многочисленнее и яснее. Они к тому же всем известны. А у того же Амвросия сказано: «И потому, может быть, Петру, предлагавшему ему два меча, Христос сказал: «довольно», как если бы это было дозволено до возвещения Евангелия, так как закон [Моисея] есть источник справедливости, а Евангелие – истины» (толк. на Евангелие от Луки, кн. X). У того же Амвросия в другом месте сказано: «Если христианин встретит даже вооруженного разбойника, то он не может отражать его ударов, дабы, защищая свою безопасность, не нарушить благочестия» («Об обязанностях», III, гл. 3). У Августина же сказано: «Я не отвергаю закона, который дозволяет умертвить таких людей (разбойников и других, творящих насилие), но я не нахожу способа, как защитить тех, кто совершает убийство» («О свободе воли», кн. I, гл. V). И в другом месте: «Мне не нравится совет убивать людей, чтобы кто-нибудь не стал их жертвою, если только это не воин и не занимает какой-нибудь государственной должности, так как, заняв законную должность, он поступает так не в своих интересах, но в интересах других» (письмо 154 к Публиколе). И что Василий держался того же мнения, достаточно ясно из его второго послания к Амфилохию (гл. XLIII и LV)[142 - См. также правило Орлеанского собора, приведенное у Грациана (с. ult. causa XIII, qu II).].
3. Более общепринятым и, как нам кажется, более правильным является противоположное мнение, согласно которому столь чрезмерное смирение не вменяется в обязанность; ведь и в Евангелии предписано любить ближнего своего как самого себя, но не превыше самого себя; напротив, если грозит равное зло, то нам не воспрещено позаботиться о себе в большей мере, чем о других[143 - См. Кассиодор, «О дружбе». «Никто, конечно, не обязан ни каким-либо правилом, ни заповедью предпочесть спасение души ближнего ценой гибели своей души или утратить свою жизнь для спасения жизни ближнего в надежде на вечное спасение».], как мы это показали выше, сославшись на авторитет Павла в изъяснении им правила благотворительности. Но кто-нибудь, пожалуй, возьмет и скажет: хотя я и могу предпочесть свое благо благу ближнего, тем не менее это правило неприменимо к неравным благам, потому что мне следует скорее расстаться со своей жизнью, нежели допустить до того, чтобы нападающий заслужил вечное осуждение. Однако на это возможно возразить, что зачастую даже тот, кто подвергается нападению, нуждается в некотором времени для покаяния или же, вероятно, полагает таким образом, и самому нападающему перед смертью может остаться время для покаяния. Поэтому для нравственного суда не должна иметь значения та опасность, к которой кто-либо устремится сам и которой он может сам избегнуть.
4. Некоторые из апостолов до последнего времени на глазах у Христа и с Его ведома, как видно, путешествовали вооруженные мечом, да и прочие галилеяне, спеша из родных мест в город, поступали таким же точно образом, так как дороги кишели разбойниками, о чем мы узнаем у Иосифа Флавия; последний сообщает то же самое об ессеях, самых безобидных людях. Оттого едва Христос сказал, что приблизилось время, когда ради приобретения меча придется продать одежду (Евангелие от Луки, XXII, 36), апостолы тотчас же ответили, что у Его свиты имеются два меча, ибо Его никто не сопровождал, кроме апостолов. Слова самого Христа не содержат в себе прямой заповеди, но представляют собой лишь пословицу, указывающую на приближение величайшей опасности, как достаточно ясно подтверждает противопоставление этому времени предшествующих времен, безопасных и благополучных, в стихе 35. Тем не менее, по-видимому, слова Христа намекали на практику, которую апостолы считали дозволенной.
5. Правильно сказано у Цицерона: «Отнюдь не следует держать мечи, если ими нельзя пользоваться». Заповедь же: «Не противься злому» имеет столь же общий смысл, как и следующая, а именно: «Просящему дай». Последнее же правило в виде исключения допускает изъятия, дабы мы сами не обременялись чрезмерно; тем не менее к заповеди «Просящему дай» нет никаких добавлений, ограничивающих ее смысл; изъятия вытекают только из самого смысла справедливости. Между тем в добавлении к заповеди о непротивлении имеется ее пояснение, а именно:
– пример пощечины, чтобы было понятно, что на нас налагается в точности обязанность только тогда, когда нам наносится обида пощечиной или чем-нибудь в том же духе; ибо иначе было бы правильнее сказать: не противьтесь наносящему обиду, лучше расстаться с жизнью, чем прибегнуть к оружию.
6. В словах Послания к римлянам «не мстите за себя» слово «мстить» употребляется не в смысле «защищаться», но именно в смысле «мстить» (как, напр., в кн. Юдифь, I, 2 и II, 1; Евангелие от Луки, ХVIII, 7, 8, XXI, 22; Посл. II к фессалоникийцам, 18; Посл. I Петра, II, 14; Посл. к римлянам, XIII, 4; Посл. I к фессалоникийцам, IV, 6). Это совершенно ясно из контекста, потому что сказанному предшествует: «не воздавай никому злом за зло», что есть выражение не защиты, но мести. А свое увещание Павел подкрепляет следующим местом из Второзакония: «Мне отмщение, я воздам», что означает месть как по собственному значению слов, так и по смыслу самого места, исключающему понятие защиты.
7. Слова же, обращенные к Петру, содержат даже запрет пользоваться мечом, исключая оборону; на самом же деле он не имел надобности ни обороняться, ибо ведь было же сказано Христом о своих учениках: «Оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: «Из тех, которых Ты мне дал, я не погубил никого» (Евангелие от Иоанна, ХVIII, 8,9), ни защищать Христа, ибо тот не искал защиты. Оттого у Иоанна он приводит такую причину воспрещения: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец» (Евангелие от Иоанна, ХVIII, 11), а у Матфея сказано: «Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Таким образом, Петр, будучи горяч, был возбужден духом мести, а не обороны. К тому же он взялся за оружие против прибывших от имени государственной власти, а возможно ли сопротивляться им в каком-нибудь случае, составляет особый вопрос, который ниже и должен быть нами разобран особо. Слова же, добавленные Господом: «Ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут», по-видимому, или являются пословицей, заимствованной из обихода простонародья, и имеют тот смысл, что кровь влечет за собой кровь и оттого-то обращение к оружию отнюдь не безопасно, или же, по мнению Оригена, Феофилакта, Тита и Евфимия, слова эти означают, что не надлежит предвосхищать отмщение Божие, которое Он намерен осуществить сам в свое время. Очевидно, в этом смысле сказано в «Откровении» (XIII, 10): «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». С этим согласно следующее место у Тертуллиана: доселе достаточно долготерпелив споспешествующий Господь: если ты вручишь ему перенесенную обиду, он отомстит; если вручишь ему свою скорбь, он исцелит, если смерть – он воскресит; но сколь же велико должно быть терпение, дабы должником иметь Бога». Вместе с тем в этих словах Христа содержится, по-видимому, предсказание тех кар, которым римский меч должен подвергнуть иудеев.
8. Что же касается примера Христа, который, как сказано, принял смерть за врагов своих, то можно заметить, что все деяния Христа поистине преисполнены добродетели, и подражание им, насколько это возможно, похвально и не может быть лишено награды; тем не менее не все Его поступки совершены в силу закона; и сами они не устанавливают закона. Ибо то, что Христос принял смерть за недругов и нечестивых, это он совершил не в силу какого-либо закона, но как бы в дополнение особого договора с отцом, который обещал не только вечную славу ему, но и вечную жизнь роду человеческому (Исайя, LIII, 10). Впрочем, Павел в Послании к римлянам (V,7) показал исключительный в своем роде характер этого события, сходного которому невозможно подыскать. А Христос, кроме того, повелевает нам полагать душу свою не за кого-либо, но за собратьев по тому же вероучению (Посл. I Иоанна, III, 16).
9. Приведенные мнения христианских писателей отчасти напоминают скорее увещания и наставления к возвышенным подвигам нежели предписания в точном смысле слова: отчасти же это частные суждения самих авторов, а не общие постановления всей Церкви. Ибо в древнейших правилах, именуемых апостольскими, лишь тот отлучается от общения, кто в ссоре нечаянно поразит насмерть своего противника «от великой горячности» (Can. XLV. С. si vero. de sent, excom. etc. RiEmificasti de homicidio)[144 - Амвросий в книге Х толкования на Евангелие от Луки «О Господи, к чему повелеваешь мне браться за меч, когда воспрещаешь мне наносить удары? Для чего повелеваешь носить то, что воспрещаешь извлекать? Быть может, для самозащиты, а не для отмщения? Ибо если не готова защита, то отмщение излишне».]. Это же самое мнение, как видно, разделяет даже сам Августин, которого мы цитировали в подтверждение обратного суждения (толк. на Исход, вопр. LXXXIV).
IV. Деление публичной войны на более или менее торжественную
1. Война публичная бывает согласно праву народов или торжественная, или же неторжественная. Война, называемая мною здесь торжественной, обычно называется войной справедливой [законной] в том же смысле, в каком мы говорим о законном завещании в отличие от кодицилла, о законном браке в отличие от рабского сожительства. Но это не потому, что якобы не следует делать неформальное завещание (кодицилл) кому угодно и не следует рабу брать себе жену в сожительство[145 - Даже среди граждан по внутригосударственному праву бывали незаконные браки, незаконные дети. Павел, «Заключения» (кн. II, разд. XIX, L. Si uxor D. ad L. lullam de Adulterlls). Так и свобода по внутригосударственному праву иногда могла быть незаконной. Сенека, «О блаженной жизни» (гл. XXIV) Светоний в жизнеописании Октавия (гл. XI).], но потому, что как завещание, так и торжественное бракосочетание влекут за собой некоторые особенные последствия по внутригосударственному праву, которые полезно отметить. Многие ведь, плохо понимая смысл слова «справедливый», полагают, что тем самым осуждаются как неправые и недозволенные все войны, которым не подходит наименование справедливой войны. Для того чтобы война имела по праву народов торжественный характер, необходимы двоякого рода условия: во-первых, необходимо, чтобы с обеих сторон война велась волею тех, кто в государстве облечен верховной властью, а затем – чтобы соблюдались известные обряды, о которых речь будет в своем месте. То и другое требуется совместно, оттого что одно недостаточно без другого.
2. Публичная же война неторжественная может быть свободна от тех обрядов и церемоний, может вестись против частных лиц и властью любых должностных лиц в государстве. А стало быть, если отвлечься от внутригосударственных законов, по-видимому, каждое должностное лицо как для защиты вверенного ему народа, так и для осуществления актов власти располагает правом ведения войны, если встретит сопротивление. Но так как война может создать опасность для всего государства, то законами почти всех народов предусмотрено, что войну можно вести не иначе как по повелению тех, кто облечен верховной властью. Такой закон, например, имеется в последней книге диалога Платона «Законы»; и в римском праве предусмотрено, что ведение войны без разрешения главы государства, а также рекрутский набор и снаряжение войск есть оскорбление величества (L. 3. D. ad 1. lul. inajest.). Такие действия называет самочинными закон Корнелия, изданный Л. Корнелием Суллой. В Кодекс Юстиниана включено следующее постановление Валентиниана и Валента: «Никому не присвоено без нашего ведома и согласия начальство над какими-либо отрядами подвижных войск». Здесь же, кстати, можно привести следующее место из Августина[146 - Августин, «Против Фавста» (кн. XXII гл. LXXIV). Это место приводится у Грациана (с quid culpatur, causa XXIII quaest I). У евреев всякая война, предпринимаемая по повелению Бога, называется войной держав.]: «Естественный порядок, установленный ради мира смертных, нуждается в том, чтобы власть и воля ведения войны принадлежали всецело главе государства».
3. Но подобно тому, как все правила, сколь всеобщи они бы ни были, тем не менее, однако же, подлежат толкованию с точки зрения справедливости, так подлежит толкованию и этот закон (Витториа, «О праве войны», 9; Молинеус, «Спорные вопросы», 100, тот же пар.; Витториа; Бартол, толк. на зак. ex hoc lure D. de lust. et iur.; Бартол, de Repres. 3, principali ad secun-dam, N 6; Мартин из Лоди, «О войне», вопр. 2). Ибо, во-первых, не может быть сомнения в том, что каждому начальнику в пределах своего круга ведения следует при содействии своих подчиненных принуждать силой немногих неповинующихся, если только для этого нет надобности в более значительных силах и самому государству не грозит опасность. И, наоборот, если опасность угрожает настолько, что нет времени обратиться за содействием к главе государства, тогда необходимость вынуждает принять чрезвычайные меры. Таким исключительным правом воспользовался Л. Пинарий, начальник гарнизона города Энны в Сицилии. Узнав, что горожане замышляли отпадение к карфагенянам, он произвел избиение их и тем удержал Энну в повиновении (Тит Ливий, кн. XXIV). За исключением же такой крайности, только Франсиско Витториа решился предоставить гражданам право восстания против государства для отмщения тех насилий, за которые государь не позаботился подвергнуть виновных преследованию, но его мнение основательно отвергается прочими.
V. Имеет ли и при каких условиях характер публичной война, если она ведется органами, не облеченными верховной властью
1. Если даже установлено, в каких случаях подчиненным должностным лицам принадлежит право прибегать к вооруженной силе, тем не менее толкователи права расходятся в понимании того, является ли такого рода война войной публичной. Одни отвечают на это отрицательно (Айала, «О праве войны», кн. I, гл. 2, 7; Сильвестр, толк. на слово «война», 2, ibi, sufficit etiam; Иннокентий, с. ollm de rest. Spol. 8. et c. sicut de iureiur., 5; Панормитан, там же). В самом деле, если мы называем публичным лишь то, что ведется должностным лицом согласно его полномочию, то не может быть сомнения в том, что такого рода войны имеют публичный характер; и оттого те, кто при таких условиях оказывает сопротивление органам власти, подлежат наказанию за сопротивление начальствующим. Если же понятие публичной войны применяется в более тесном смысле, взамен так называемой торжественной войны, как это, бесспорно, зачастую имеет место, то только что упомянутые войны не являются публичными, потому что для выполнения законных требований необходимы как решение высшей власти, так и иные обстоятельства. Но не имеет, по моему мнению, решающего значения, как это полагают обычно в спорах по настоящему вопросу, то, что при таких обстоятельствах у сопротивляющихся отнимается имущество и отдается воинам (Тит Ливий, в указ. месте)[147 - К цитируемым по этому вопросу юристам можно также добавить Франциска Аретина («Заключения», XIV, 7) Гайлия («О государственном мире», I, гл. II 20), кардинала Тоски («Практические вопросы», LV, лит. В, слово «война», 10), Геддэя («Марб. заключения», XXVIII, 202 и сл.).], потому что эта подробность не составляет особенности, свойственной торжественной войне, и может иметь место также в иных обстоятельствах (Витториа, 29; Каэтан, «На Secunda Secundae», вопр. 40, ст. 1; Сильвестр, толк. на слово «война», ч. 1, 2; Лорка, «Спорные вопросы», 50, 12),
2. Но может случиться и так, что в обширном государстве власть начинать враждебные действия предоставлена подчиненным органам[148 - См. закон императора Фридриха у Конрада, аббата Аугсбургского.]; при таких условиях без колебания следует считать, что такая война ведется верховной властью, так как если кто-нибудь поручает другому право выполнить что-нибудь, то сам он и считается виновником последнего.
3. Весьма спорным является вопрос, достаточно ли при отсутствии подобного прямого поручения одного предположения воли верховной власти. Мне кажется, что нельзя делать этого попущения. Ибо ведь недостаточно при таком положении дел строить догадки о том, какова была бы воля главы верховной власти при обращении к нему с соответствующим вопросом, но следует, напротив, иметь в виду, главным образом, то, какое решение предпочел бы он принять без обращения к нему, если дело допускает отсрочку или сомнителен исход решения, предполагая необходимость издания постоянного закона по данному вопросу. Ибо пусть в каждом определенном положении умолкнут все частные соображения, воздействующие на волю главы государства, однако не умолкнет всеобщее разумное стремление избегнуть опасности, что невозможно, если каждое должностное лицо станет притязать на решение одного и того же дела.
4. К. Манлий поэтому не напрасно был обвинен своими помощниками в том, что без разрешения римского народа пошел войной на галло-греков (Тит Ливий, кн. XLVIII); ибо, хотя в войске Антиоха имелись галльские легионы, тем не менее по заключении мирного договора с Антиохом вопрос о том, следовало ли получить от галло-греков удовлетворение за это нарушение, надлежало разрешить не К. Манлию, но римскому народу. Катон хотел выдать Цезаря германцам за то, что тот навязал им войну; полагаю, что он поступил так не столько из уважения к праву, сколько из желания избавить Рим от опасного владыки. Ибо германцы ранее поддерживали галлов, бывших врагами римского народа, оттого они и не могли жаловаться на причинение им насилия, поскольку римский народ имел столь справедливую причину воевать с галлами. А Цезарь должен был удовольствоваться изгнанием германцев из вверенной ему провинции Галлии и, не испросив на то разрешения у римского народа, не должен был преследовать германцев войной в их собственных пределах, в особенности потому, что оттуда не угрожала никакая опасность. Стало быть, не германцы имели право требовать выдачи Цезаря, но римский народ имел право наказать его. По совершенно сходным основаниям карфагеняне ответили римлянам: «По нашему мнению, дело не в том, по каким именно соображениям, частного или государственного порядка, завоеван Сагунт, но сделано ли это согласно или же вопреки праву; ведь это наше дело произвести о нашем гражданине расследование, совершено ли им что-либо с нашего согласия или по его личному произволу, и тогда наказать его; с вами же у нас один только спорный вопрос, допускал ли наш союзный договор разрешить вопрос таким образом» (Тит Ливий, кн. XXXI).
5. Марк Туллий Цицерон оправдывает образ действий Октавия и Децима Брута, которые по личному почину начали войну против Антония. И все же, даже если бы было абсолютно несомненно, что Антоний заслуживал обращения как с врагом, тем не менее следовало выждать решения сената и римского народа о том, было ли в интересах республики оставить без внимания это обстоятельство или же прибегнуть к возмездию, прийти к мирному соглашению или же взяться за оружие. Ибо ведь никого нельзя заставить воспользоваться своим правом, что нередко связано с опасностью понести тот или иной ущерб (Аппиан, «Гражданская война», IV). Наконец, после объявления Антония врагом сенату и римскому народу должно было принадлежать решение вопроса о том, кому же именно предпочтительно следовало поручить ведение этой войны. Так и на просьбу Кассия о присылке, согласно договору, вспомогательных войск родосцы ответили, что готовы прислать подкрепление, если сенат прикажет это сделать.
6. Опираясь на приведенные примеры, а также и на многие другие соображения, мы напомним, что далеко не столь убедительны доводы, приводимые даже знаменитейшими авторами, потому что они нередко подчиняются духу своего времени, нередко же – тем или иным впечатлениям и пригоняют «мерило к камню». Поэтому в такого рода вопросах следует остерегаться прибегать к сомнительным суждениям и не пользоваться примерами, приводящими к опасным заблуждениям, что скорее можно извинить, чем одобрить.
7. А поскольку известно, что государство не должно вести войны иначе как по воле главы верховной власти, то для понимания как этого предмета и связанного с ним вопроса о торжественной войне, так и многого другого необходимо выяснить сущность самой верховной власти и того, кто является ее носителем. Это необходимо, тем более что в наш век ученые мужи, следуя не столько доводам истины, сколько распространенным в наше время обычаям, весьма запутали сам по себе не вполне ясный вопрос.
VI. В чем состоит гражданская власть
1. Для нравственной способности управления государством, именуемой обычно гражданской властью, Фукидид считает характерным наличие трех признаков, так как он называет подлинным государством лишь то общественное целое, которое обладает собственными законами, судами и должностными лицами[149 - Можно было бы также перевести «преследующие свои собственные выгоды», как полагает схолиаст на Фукидида. Ибо слово это – двусмысленно.]. Аристотель находит три отрасли управления государством, а именно: совещание о предметах общих, заботы о назначении должностных лиц и отправление правосудия («Политика», кн. IV, гл. 4). К первой он относит решение вопросов о войне и мире, о заключении и расторжении договоров, об издании законов; сюда же он относит вопросы о смертной казни, об изгнании, о конфискации имущества, о лихоимстве, то есть, согласно моему толкованию, предметы публичного правосудия, тогда как предварительно в понятие отправления правосудия Аристотель включил только рассмотрение дел частных. Дионисий Галикарнасский выделяет в особенности три функции, а именно: право назначения должностных лиц, право издавать и отменять законы, право решать вопросы войны и мира (кн. IV)[150 - Сервий, «На «Энеиду» (I), по поводу слов «в полном подчинении»: «Правильнее «во всяком подчинении», нежели «в подчинении каждого», так как означает «всякую власть, мир, законодательство, войну».]; в другом месте он добавляет четвертую функцию – правосудие (кн. VII). Наконец, еще в одном месте он добавляет попечение о жертвоприношениях и созыв народных собраний (кн. II).
2. Если же кому-нибудь угодно произвести правильное деление [функций государства], то он легко найдет все относящееся сюда, так что не получится ни недостатка, ни излишка. Ибо ведь тот, кто правит государством, отчасти правит самолично, отчасти через посредство других. Непосредственно правление главы государства касается либо государства в целом, либо отдельных частностей. Государства в целом касается издание и отмена законов в области как религиозной (поскольку попечение о ней относится к ведению государства), так и светской. Соответствующее искусство у Аристотеля носит название «строительного».
Заведование отдельными частностями относится непосредственно либо к публичной, либо к частной области постольку, поскольку это связано с публичными интересами. Непосредственное отношение к области публичной имеют или действия, как заключение мира, объявление войны, заключение договоров, или вещи, как государственные налоги и тому подобное, куда включается также право верховенства, принадлежащее государству над гражданами и их имуществом в интересах государства. Соответствующее искусство Аристотель называет родовым именем «политики», то есть «гражданским» или «совещательным» искусством. Дела частные составляют споры между отдельными гражданами, разрешение которых органами государственной власти производится в интересах общественного спокойствия; соответствующее искусство Аристотель называет «правосудием». Отправление прочих обязанностей производится или через должностных лиц, облеченных властью, или через иных ответственных лиц, к числу которых относятся также послы. Такого рода действия составляют содержание государственной власти.
VII. Что есть верховная власть
1. Верховной же властью называется такая власть, действия которой не подчинены иной власти и не могут быть отменены чужой властью по ее усмотрению. Говоря «чужая» власть, я исключаю того, кому принадлежит верховная власть и кому предоставлено изменять свою волю, равно как и его преемника[151 - Кахеран «Пьемонтские решения» (CXXXIX, 6).], который пользуется таким же правом, а стало быть, и той же, а не иной властью. Такова сущность верховной власти; а теперь следует выяснить, кто же является ее носителем. Носитель может быть или в общем, или же в собственном смысле; подобно тому, как общий носитель зрения есть тело, собственный же есть глаз, так общим носителем верховной власти является государство, названное выше «совершенным союзом».
2. Поэтому мы исключаем народы, подпавшие под господство иного народа, каковы были римские провинции, ибо такие народы – не государства сами по себе в современном смысле слова, но лишь подчиненные члены объемлющего их государства, подобно тому как рабы являются членами семейства. Случается, с другой стороны, что один глава господствует над несколькими народами, из которых тем не менее каждый в отдельности образует совершенный союз. В то время как в естественных телах одна глава не может увенчивать несколько тел, в моральном теле одно и то же лицо в различных смыслах может быть главой нескольких и различных тел. Бесспорным доказательством этого может служить то обстоятельство, что по прекращении царствующего дома власть обратно возвращается к каждому народу в отдельности (Витториа, «О праве войны», 7). А может быть и так, что несколько государств объединяются между собой, теснейшим союзным договором образуют некий «союз», как говорит Страбон в нескольких местах, причем, однако же, отдельные народы не прекращают сохранять состояние совершенного государства, что неоднократно отмечено в разных местах другими авторами, а также Аристотелем («Политика», кн. II, гл. 20; кн. III, гл. 9).
3. Общим же носителем верховной власти, следовательно, и является государство в том смысле, как это уже было нами указано. Носитель власти в собственном смысле есть или одно лицо, или же несколько, сообразно законам и нравам того или иного народа; это – «первая власть», по словам Галена в книге шестой трактата «О мнениях Гиппократа и Платона».
VIII. Опровержение мнения, согласно которому верховная власть всегда принадлежит народу. Разбор доводов в пользу последнего мнения
1. Однако здесь же следует, во-первых, отвергнуть мнение тех, которые полагают, что верховная власть всюду и без изъятия принадлежит народу, так что государей, которые злоупотребят своей властью, следует низлагать и карать; это мнение, проникнув в глубину души, послужило и может послужить еще в дальнейшем причиной столь многих бедствий, что не может укрыться от каждого одаренного разумом. Мы со своей стороны намерены опровергнуть это мнение следующими доводами. Каждый человек волен отдаться кому угодно в личную зависимость – это явствует как из еврейского (Исход, XXI, 6), так и из римского закона (Instit. de lure pers. Servi autem; Авл Геллий, кн. II, гл. VII). Так разве же не волен свободный народ также подчиниться кому угодно, одному или же нескольким лицам, перенеся, таким образом, на них целиком власть управления собой и не сохранив за собой ни малейшей доли этой власти? И нельзя сказать, чтобы здесь скрывалось хотя бы малейшее произвольное предположение, ибо мы ставим вопросы не о каком-либо сомнительном допущении, но о том, что допустимо в силу права[152 - Гаилий, «Об арестах» (гл. VI, 22 и сл.).]. И напрасно станут приводить здесь неудобства, проистекающие или могущие проистечь отсюда, ибо какую бы форму правления ни изобрести, никак невозможно избежать тех или иных неудобств или опасностей. «Остается, стало быть, принять то и другое или же отвергнуть все заодно», – как говорится в комедии[153 - Цицерон в трактате «О законах» (кн. III). «При всяком обвинении несправедливо оставлять без внимания достоинства, исчисляя все недостатки и выискивая все заблуждения», и далее добавляет: «Но искомое там благо возможно ли без участия зла?»].
2. И подобно тому как существуют различные образы жизни, причем один предпочтительнее другого, и каждый волен выбирать любой из множества различных родов, так и народ может избрать любой образ правления; ибо тот или иной правопорядок следует оценивать не с точки зрения преимуществ его формы, о чем суждения людей весьма расходятся, но с точки зрения осуществления в нем воли людей[154 - В то время городская община Аугсбурга ходатайствовала перед императором Карлом V о том, чтобы постановления ее городского совета получали силу не иначе как с утверждения цеховых старшин. Нюрнберг, напротив, стремился к прямо противоположному.].
3. Причин же, почему народ может предпочесть отказаться целиком от верховной власти и передать ее другому, может быть великое множество, в частности если доведенный до крайней опасности народ не имеет возможности найти иной способ защититься или же если угнетаемый нуждой не в состоянии иначе добыть достаточные средства существования. Ибо, если некогда жители Кампаньи, вынужденные к тому необходимостью, предпочли подчиниться римскому народу на следующих условиях[155 - Подобно фалискам у Ливия (кн. V) и самнитянам (кн. VIII). Так граждане Эпидамна, покинутые коркирянами, передались коринфянам, чтобы те защитили их от таулантийцев и соединившихся с ними изгнанников (Фукидид, кн. I).]: «Мы передаем во власть римского народа себя, народ кампанский, город Капую, поля, святилища богов и все божественные и человеческие предметы»; и еще некоторые народы пожелали отдать себя во власть римлян[156 - И венецианцы (Бембо, кн. VI).]; и даже не были ими приняты, о чем сообщает Аппиан; то что же препятствует любому народу таким же точно способом отдать себя во власть одному могущественному человеку? У Вергилия читаем:
И, приняв законы позорного мира,
Не усладится он.
Но может также случиться, что, например, отец семейства, владеющий обширными поместьями, не пожелает допустить в свои владения никого, кто подчиняется чужим законам; или же если кто-нибудь, имеющий великое множество рабов, отпустит их на свободу, подчинив их, однако же, законам своей власти и обязав уплачивать оброк, чему нет недостатка в примерах. О рабах германцев у Тацита имеется следующее оказание: «Каждый правит своим жилищем, ведает своими домашними божествами; будучи хозяином у себя, он указывает поселенцу на своих землях порядок сдачи зерна и поставки скота и одежды; и раб повинуется ему на таких основаниях».
4. К этому нужно добавить, что подобно тому как, по словам Аристотеля, некоторые люди от природы рабы, то есть наиболее приспособлены к рабскому состоянию, так точно и некоторые народы по свойственному им образу мыслей предпочитают лучше подчиняться, нежели господствовать, что, как видно, сознавали сами каппадокийцы, которые подчинение власти царя предпочли предложенной им римлянами свободе и объявили, что они не могут жить без царя (Страбон, кн. XII; Юстин, кн. XXXVIII). Так и Филострат в жизнеописании Аполлония считает бессмысленным освобождать фракийцев, мизийцев, готов, которые не способны даже оценить блага свободы (кн. VI).
5. Многих могли воодушевить примеры народов, довольно счастливо живших в продолжение многих веков под царской властью[157 - Сенека («О благодеяниях», кн. II, гл. XX) так говорит о Бруте: «Хотя, по-моему, этот человек и был велик в остальном, тем не менее, как кажется, он в этом глубоко погрешил и не вел себя по уставам стоической школы. Или он боялся имени царя, тогда как наилучшая форма правления – под властью справедливого царя, или он надеялся на свободу в будущем там, где сначала столь велика была цена власти и подчинения, или, наконец, он надеялся вернуть государство в первоначальное состояние, несмотря на исчезновение прежних нравов, и восстановить равенство между гражданами и устойчивость законов там, где он наблюдал множество людей, сражавшихся не для того, чтобы избегнуть рабства, но для избрания себе главы». См. также Визаррий, «История генуэзцев» (кн. XIV, с. 329).]. По словам Ливия, города под властью Эвмена[158 - Исократ сообщает о том, как многие переселились из свободных греческих республик в Саламин на Кипре, где царствовал Эвагор.] не склонны были променять свою судьбу на участь свободных гражданских общин (кн. XLII). Иногда же встречается и такой государственный порядок, который, по-видимому, может сохраниться в безопасности не иначе как под верховной властью одного лица[159 - Дион у Филострата (кн. V, гл. XI): «Опасаюсь, что римляне после продолжительного подчинения не потерпят более каких-либо изменений».]; многим благомыслящим людям казалось таким Римское государство в эпоху цезаря Августа. По этим, как и по иным сходным причинам людям не только возможно, но даже следует подчиняться власти и могуществу другого лица, что отмечает и Цицерон в книге второй своего трактата «Об обязанностях».
6. Как мы уже указывали выше, путем справедливой войны можно приобрести как частную собственность, так и гражданскую власть, то есть, иными словами, право господства, не зависящее ни от какой иной власти. Вместе с тем не следует думать, что это относится только к сохранению единодержавной власти там, где принят такой образ правления, ибо подобные же права и основания имеет власть знатнейших вельмож, правящих государством помимо народа. Что же поделать, если до сих пор не найдена столь демократическая республика, где хотя бы некоторые неимущие или чужестранцы, а также женщины и юноши не были исключены из участия в обсуждении и решении государственных дел?
7. Сверх того, даже некоторые народы под своей властью другие народы и при том подчиняют их ничуть не меньше, чем царь[160 - Так остров Саламин по праву принадлежал афинянам со времен Филея и Эвризака, потомков Аякса, о чем сообщает Плутарх в жизнеописании Солона. Этот остров Саламин Август отнял у афинян, подобно тому как впоследствии Адриан отнял Кефалонию, о чем свидетельствует Ксифилин, Атарней издревле принадлежал хиосцам, по свидетельству Геродота (кн. I); а самосцам принадлежали многие города на материке, по сообщению Страбона (кн. XIV). Часть города Анактория принадлежала коринфянам, часть коркирянам, как сообщает Фукидид (кн. I). В мирном договоре с этолиянами у Ливия сказано «Энеады со своим городом и полями пусть отойдут к акарнанянам». Шесть городов уделены Галикарнассу Александром Великим, о чем упоминает Плиний в «Естественной истории» (кн. V, гл. XXIX). Он же (кн. XXXIII, гл. IV) упоминает о принадлежности острова Линда родосцам, то же можно найти о Каунусе (кн. XXXV). То же самое свидетельствует Цицерон в письме к брату. Тем же родосцам за помощь, оказанную ими римлянам против Антиоха, были уступлены в дар несколько городов, по словам Евтропия (кн. III), а именно города Карийские и Ликийские, отнятые впоследствии у них постановлением сената. Оба эти случая приводятся в извлечениях из Полибия.]; откуда и возник вопрос: «Разве народ Коллатин не господин сам себе?» А когда жители Кампаньи покорились римлянам, то о них было сказано, что они подпали под чужую власть (Тит Ливий, кн. I). Акарнания и Амфилохия, как говорят, были подчинены этолиянам (Тит Ливий, кн. VII, XXVI); Перея и Каунус – подвластны родосцам (Тит Ливий, XXXII; Страбон, XIV); Пидна была дарована Филиппом олинфийцам (Диодор, кн. XVI). А города, бывшие в подчинении у спартанцев, освободившись из-под их власти, приняли название свободных лакедемонян (Павсаний, «Лаконика»). Город Котиора, как говорится у Ксенофонта, принадлежал синопцам («Анабасис», кн. V). Итальянская Ницца, по словам Страбона, была подчинена массилийцам (кн. IV), а остров Пифекуса – неаполитанцам (кн. V). Так, Калатия была подчинена колонии Капуе, а Каудиум со своими областями – колонии Беневентской, о чем можно прочесть у Фронтина. Отгон отдал государство мавров в дар провинции Беотийской, о чем сообщается у Тацита («История», I). Все это необходимо отвергнуть, если принять, что правительственная власть всегда подчинена суду и воле подвластных.
8. Во всяком случае существуют цари, которые не подчинены постановлениям народа, даже взятого в целом; об этом свидетельствуют как священная, так и гражданская история. Бог заявил, обращаясь к народу израильскому: «Если ты скажешь, поставлю над собой царя» (Второзаконие, XVII, 14), и, обращаясь к Самуилу, Бог сказал: «Дай им право царя, который будет царствовать над ними» (I Самуил, VIII, 4). Оттого-то царь именуется помазанником над народом, над наследием господа, над Израилем (I Самуил, IX, 16; X, 1; XV, 1; II Самуил, V, 2) Соломон – царь над всем Израилем (I кн. Царств, IV, 1). Так и Давид возблагодарил Бога за то, что тот подчинил ему народ свой (псалом CXLIV, 2). И Христос сказал: «Цари господствуют над народами» (Евангелие от Луки, XXII, 25). Известно следующее место у Горация:
Власть грозных царей – над стадами их,
Над ними самими – власть Юпитера.
9. Сенека так описывает три формы правления: «Порой народ есть то, что нам внушает страх; иногда, если государственное устройство таково, что многие дела решаются сенатом, в государстве внушают страх знатные мужи; иногда же – отдельные лица, которым власть над народом дана самим народом» («Письма», XIV). Таковы те, о ком Плутарх говорит в жизнеописании Фламиния: «Имеют власть не только законную, но и надзаконную»; а у Геродота Отанес так характеризует единодержавную власть: «Действовать как угодно одному, не отдавая отчета никому иному». Царскую власть Дион Прусийский определяет следующим образом: «Правит, не отдавая никому другому отчета». Павсаний же, говоря о мессенянах, противополагает «царство такой форме власти, при которой правительство должно отдавать отчет в своих действиях».
10. Аристотель сообщает о некоторых царях, которые обладают такими же правами, какие в других местах имеет сам народ над самим собой и своим достоянием («Политика», кн. III, гл. 14). Так, после того как римские императоры стали овладевать чисто царской властью, народ, так сказать, перенес на них всю свою власть и могущество, даже над самим собою, как толкует Феофил (Inst. De iur. nat. Sed et quod). Сюда же относится следующее изречение Марка Аврелия Антонина, философа: «Никто, кроме Бога, не может быть судьей императора» (Ксифилин, жизнеописание М. Антонина, кн. IV). Дион Кассий (кн. LIII) о таком государе пишет: «Он независим, господин над собой и над законами, так что и поступает, как ему угодно и не делает того, что ему не угодно». Такое неограниченное царское правление существовало уже в древности, например, царство Инахидов в Аргосе[161 - Это Ганаким, о чем сказано во Второзаконии (II, 10), откуда также происходит богиня Гонка, которой в Фивах Кадмом посвящен был храм. Греки назвали ее Палладой. Говорят, что инахиды у Эсхила не кто иные, как пелазги, то есть по-сирийски – изгнанники из родной страны. Первые поселенцы Лакедемона также были пелазги, отчего лакедемоняне называли себя потомками Авраама, что видно из истории маккавеев. Аргосские цари обладали полновластием по примеру царей Востока, откуда они пришли, также и фиванские цари, происходившие от финикиян. Это следует из слов Креона у Софокла, а также из слов фиванского глашатая в «Молящих» Еврипида.], ибо в аргивской трагедии Эсхила «Молящие» народ обращается к царю с такой речью:
Ты – город сам, ты – сам народ,
Не подчинен ты ничьему суду,
Опора царства – ты, как алтарь,
Над всем властвуя волей единою.
11. Совершенно иначе об афинском государстве высказывается сам царь Тесей у Еврипида:
Здесь самовластная
Община граждан отрицает власть царя:
Народ, как царь, дарует часто почести
Тем и другим…
Ибо Тесей, по объяснению Плутарха, исполнял обязанности лишь полководца и блюстителя законов, впрочем, оставаясь равным с гражданами (жизнеописания Клеомена и Агесилая)[162 - Сын Тесея Демофонт в «Гераклидах» Еврипида говорит:Не варварская власть мне вручена,Но водворенье правого правления.]. Оттого-то цари, подчиненные народу, могут называться так лишь в несобственном смысле. Так, после Ликурга, после учреждения эфоров, по словам Полибия, Плутарха и Корнелия Непота[163 - Слова самого Корнелия Непота или того, кто написал жизнеописания знаменитых людей, в жизнеописании Агесилая: «Дабы они имели двух царей больше по имени, чем по действительной власти». А в другом месте: «У лакедемонян же Агесилай был царем не по власти, но по имени, ничем не отличаясь от прочих спартанцев».], лакедемонские цари были царями только по имени. Этому примеру последовали и другие народы в Греции. Павсаний сообщает в «Коринфике»: «Аргосцы, уже издревле преданные равенству и свободе, свели царскую власть до наименьшей меры, так что сыновьям Киса ничего не досталось, кроме имени царя». Такого рода царская власть, по мнению Аристотеля, не представляет собой особой формы правления, поскольку она составляет лишь некоторую часть в государствах аристократических и демократических («Политика», III, 12).
12. Более того, даже у народов, не находящихся в постоянном подчинении у царей, мы встречаем примеры как бы временного царского правления[164 - Ливий Салинатор во время своего цензорства упразднил единолично все подати, за исключением одной, устроил казначейство и тем проявил свою власть над всем народом.], не подчиненного народу. Такова была власть амимонов у книдян, а также первоначально власть диктаторов у римлян, когда еще не существовала возможность прямого обращения к самому народу; оттого эдикты диктаторов, по словам Ливия, соблюдались как предписания богов и не оставалось иного исхода, кроме повиновения (Тит Ливий, кн. II; Плутарх, жизнеописание Марцелла; Дионисий Галикарнасский, кн. V). Так, диктатура, по словам Цицерона, овладела царской властью.
13. Опровержение доводов, приводимых в защиту противоположного мнения, не представляет затруднения, ибо, во-первых, утверждение, что тот, кем кто-либо назначается на должность, есть начальник назначенного лица, верно только лишь в таком государственном устройстве, действие которого находится в постоянной зависимости от воли учредителей, в дальнейшем же содействует в силу необходимости, подобно тому как, например, женщина сама берет себе мужа, которому она обязана уже навсегда подчиняться. Император Валентиан[165 - Феодорит (кн. IV, гл. V) так передает слова Валентиниана: «В отсутствие императора ваше дело, солдаты, было возложить на меня бразды правления. А раз я достиг власти, то не на вас, но на мне уже лежит забота о благе государства».] так ответил солдатам, избравшим его императором и просившим у него того, на что он не был склонен дать согласия: «Избрать меня вашим императором, солдаты, было в вашей власти, но после того как вы меня избрали, то, чего вы требуете, зависит не от вашего, но от моего произвола. Вам в качестве подданных надлежит повиноваться, мне же следует соображать о том, как мне действовать» (Созомен, «Церковная история», кн. XVI). Но неверно предполагать, будто все цари поставлены народом; обратное можно подтвердить в достаточной мере приведенными выше примерами отца семейства, принимающего пришельцев, а также народов, побежденных на войне.
14. Другой довод заимствуется из изречения философов, что всякое правительство учреждено ради тех, кем управляют, а не ради тех, кто управляет, оттого, как полагают, из достоинства самой цели следует, что управляемые выше правителей. Однако положение о том, что всякое правительство установлено ради тех, кем оно управляет, не есть всеобщая истина, ибо некоторые правительства сами по себе существуют ради правителя, как, например, правление хозяина, при котором польза раба – чужда и случайна для хозяйства, подобно тому, как выгода врача не имеет никакого отношения к самому врачеванию. Другие виды властвования имеют в виду взаимную пользу, как, например, власть мужа над женой.
Так и некоторые государства могут быть учреждены ради пользы царя, в частности государства, возникшие путем завоевания, но тем не менее не заслуживающие названия тиранических, так как тирания, в современном смысле слова, включает насилие. Некоторые формы правления могут преследовать пользу как правительства, так и подвластных, например если народ, не способный к самообороне, избирает для самозащиты могущественного царя. Впрочем, я не отрицаю того, что в большинстве государств целью самой по себе является польза самих подвластных; верно и то, что сказано Цицероном вслед за Геродотом, а Геродотом вслед за Гесиодом, а именно что цари установлены для осуществления справедливости. Но не столь последовательно возражение иных, будто народы господствуют над царями, ибо ведь и опека установлена ради подопечных; и тем не менее опека есть право и власть над последними. Несостоятельно также возражение некоторых о том, что подобно тому, как опекун, плохо заведующий делами подопечного, может быть смещен, такое же право должно существовать по отношению к царю. Ибо право смещения опекуна вытекает из того, что последний имеет над собой начальство, тогда как в государствах, поскольку невозможен регресс в бесконечность, всегда оказывается, наконец, такое лицо или совет, об ошибках которых ввиду отсутствия над ними высшего судьи имеет особое попечение, по его собственному свидетельству, сам Господь, так что он или их наказывает, если найдет необходимым, или же терпит в наказание или для испытания самого народа (Иеремия, XXV, 12).
15. Удачнее всего сказано у Тацита. «Подобно тому, как вы переносите засуху и чрезмерные ливни, и прочие стихийные бедствия, так точно переносите расточительность и скупость правящих. Пороки будут существовать, пока на свете будут люди; но зло не беспрерывно и от времени до времени возмещается добром» («История», IV, 74). А по словам Марка Аврелия, должностные лица судят частных лиц, государи судят должностных лиц, а Бог судит государей[166 - У Ксифилика: «Суд принадлежит одному только Богу». Царь Витигес у Кассиодора говорит: «Цель царской власти есть осуществление правосудия над начальствующими, всякий раз как это требуется Небом, и одному только Небу царь обязан соблюдать непогрешимость». У того же Кассиодора читаем: «Мы не можем подчиниться другому, потому что не имеем над собой судей».]. Замечательное место имеется у Григория Турского, где он сам в качестве епископа обращается к королю франков со следующей речью: «Если кто-нибудь из нашей среды, о король, вздумает сойти с пути справедливости, то ты можешь их наказать: если же ты переступишь закон, кто может наказать тебя?
Посему мы обращаемся к тебе, и ты можешь нас выслушать, если тебе угодно; если же тебе неугодно, кто же тебя осудит, кроме того, кто сам объявил себя самой справедливостью?»
Среди постановлений ессеев Порфирий (кн. V) приводит следующее: «Никому не достается власть без особливого о том попечения Бога[167 - У Гомера:От Зевеса и высшая честь.Диодор Сицилийский говорит об египтянах (кн. I): «Они ведь полагают, что цари не без некоего божественного провидения овладели верховной властью над всеми – «Августин, «О граде Божием» (кн. V): «Он (дал верховную власть) как Веспасиану отцу и его сыну – самым кротким императорам, так и жесточайшему Домициану, и не только такому, как Константин, но даже самому Юлиану Отступнику». Витигес у Кассиодора говорит: «Всякое возвышение в достоинство, в особенности же удостоение царской власти, следует приписать божественному провидению». Императору Титу принадлежит изречение: «Власть даруется судьбой».]». Ириней прекрасно говорит: «По чьему повелению родятся люди, по тому же повелению ставятся и цари, подходящие для тех, кем в те времена они правят». Тот же смысл имеют так называемые постановления Климента: «Бойся царя, заведомого избранника Божия» (кн. VII, гл. XVII).
16. Не противоречит сказанному и то обстоятельство, что, как можно прочесть, народы иногда несут наказания за прегрешения своих царей; это случается не потому, что народ не карает и не порицает царя, но потому, что он, хотя бы втайне, сочувствует его порокам (I кн. Царств, IV, 16; II кн. Царств, X, 17). Но даже и без народа Бог может воспользоваться верховной властью над жизнью и смертью людей для наказания царя, для которого высшая кара есть лишение подданных.
IX. Опровержение мнения, согласно которому король и народ находятся в постоянной взаимной зависимости
1. Другие измышляют взаимное подчинение царя и народа, так что народ в целом обязан повиноваться праведно правящему царю, а если царь плохо правит, то он подчиняется народу. Если бы сторонники этого мнения говорили, что не следует ради власти государя совершать что-либо заведомо предосудительное, то их положение было бы верно и согласовано с мнением всех добрых людей, но это не подразумевает ни малейшего права на принуждение, ни какого-либо права верховенства. Поэтому если бы даже какому-нибудь народу вздумалось разделить свою власть с царем (о чем будет сказано несколько ниже), то, конечно, взаимные границы власти обоих следовало бы установить таким образом, чтобы их можно было распознать в соответствии с разнообразием условий места, лиц и самих дел.
2. Критерий добросовестности или же злонамеренности самих действий, в особенности же в делах гражданских, представляющих большую сложность при разбирательстве, не годится для выяснения прав сторон, потому что неизбежна великая путаница при расследовании одного и того же дела вследствие вмешательства, с одной стороны, государя, с другой – народа, считающих себя компетентными решить вопрос о добросовестности или злонамеренности деяния. Создать такой беспорядок в делах не придет в голову ни одному из известных мне народов.
X. Предварительные условия правильного понимания истинного мнения: во-первых, необходимость различать сходные термины при различии предметов
1. После того как ложные мнения опровергнуты, необходимо сделать некоторые предостережения, которые помогут отыскать путь к правильному решению вопроса о том, кому принадлежит верховная власть в каждом народе. И первое предостережение должно состоять в том, чтобы не впадать в заблуждение вследствие двусмысленности слов и внешности вещей. Например, у латинян существовало обыкновение противополагать друг другу принципат и царскую власть. Так, по словам Цезаря, отец Верцингеторига, овладев принципатом в Галлии, был умерщвлен потому, что стремился к царской власти. А у Тацита Пизон называет Германика сыном римского принцепса, а не парфянского царя. Наконец, по словам Светония, немного недоставало Калигуле, дабы превратить принципат в царскую власть; а у Веллея сообщается, что Марободуй стремился не к принципату, упроченному волей подвластных, но к царской власти.
2. Тем не менее мы часто наблюдаем смешение соответствующих слов. Ведь, как мы убедились, лакедемонские вожди из потомства Геркулеса и после учреждения эфоров продолжали все же именоваться царями; древнегерманские цари, которые, по словам Тацита, преобладали в совете, не обладали властью повелевать. И Ливий о царе Эвандре говорит, что он правил скорее в силу уважения к нему, чем властью повеления (кн. I). А карфагенского суффета Аристотель и Полибий называют царем (кн. XV, гл. 70), как и Диодор; точно так и Солин называет Ганнона царем карфагенян[168 - То же и автор жизнеописания Ганнибала: «Подобно консулам в Риме, в Карфагене ежегодно назначалось по два царя». К тем, кого условно называют царями, можно присоединить также сыновей, на которых переходило царское имя от родителей, пока они сохраняли царский сан. Таков был и Дарий, которого отец Артаксеркс присудил к смерти, по словам Плутарха в жизнеописании Артаксеркса.]. А о Скепсе в «Троаде» Страбон сообщает, что когда по присоединении к государству милетян он обратился к народной форме правления, тем не менее на потомков царей перешло царское звание и немалый почет, доставшийся им от древних царей (кн. XIII).
3. Напротив, римские императоры, овладевшие отрыто и явно независимой царской властью, все же получили наименование принцепсов. Даже в некоторых свободных республиках высшим должностным лицам обычно присвоены знаки царского величества.
4. Далее, собрания государственных чинов или сословий, то есть собрания представителей народа, разделенного на разряды, или, по словам Гунтера, Превознесенные, знать, городов старшины родовые, в иных местах, по крайней мере, образуют великий королевский совет, через посредство которого ходатайства народа, часто заглушаемые в королевской канцелярии, доходят до слуха короля, который затем согласно обычаям волен постановить, что ему будет угодно; в других же местах такие собрания имеют также право производить расследование повелений государя и даже издавать законы, обязательные для самого главы государства.
5. Многие считают возможным найти различие между верховной властью и подчиненной властью в способах передачи власти – в том, передается ли она путем избрания или путем наследования, ибо они полагают, что передача последним способом свойственна верховной власти в отличие от избрания. Но несомненно, что такое мнение неверно в столь общей форме, ибо престолонаследие есть не способ приобретения верховной власти, сообщающий ей верховенство, но лишь порядок преемства прежней власти. Ведь право, возникшее путем избрания определенной семьи, передается преемственно по наследству, оттого-то путем наследования передается только та власть, которая сообщена первоначально путем избрания. У лакедемонян царская власть переходила к наследникам даже после учреждения эфоров. А о такого рода царской власти, то есть о принципате, имеется следующее указание Аристотеля: «Одни царства передаются в порядке кровного родства, другие – путем избрания? («Политика», кн. III, гл. XIV). В героические времена в Греции, по замечанию того же автора, а также Фукидида[169 - Такое же замечание у Дионисия Галикарнасского (кн. II и V).], большинство царств были таковы (кн. I). Напротив, императорская власть в Риме, даже после окончательного упразднения власти сената и народа, сообщалась путем избрания.
XI. Во-вторых, необходимость различать право и способ обладания им
1. Другая оговорка следующего порядка[170 - См. у Карла Молинеуса «Толкование на Парижские обычаи» (разд. I, 2, прим. 4, 16 и 17).]: одно дело – поставить вопрос о самой вещи, другое – о способе владения ею, что применимо к предметам не только вещественным, но и невещественным. Права прохода, прогона, проезда являются вещами подобно участку земли. Однако же одни владеют ими на полном праве собственности, другие – на праве узуфрукта [пользовладения]; наконец, третьи – на праве временного пользования. Так, например, даже римский диктатор имел верховную власть временно[171 - Пример временной императорской власти у Никифора Григоры (в начале кн. IV).]; цари же, как те, которые первоначально избирались, так и те, которые наследовали избранным в порядке преемства, владели верховной властью на праве узуфрукта; некоторые цари владели верховной властью и на праве неограниченной собственности, как, например, те, которые приобрели власть путем справедливой войны, или те, которым тот или иной народ во избежание большого зла подчинился безоговорочно.
2. Нельзя также согласиться с теми, кто отрицает верховный характер власти диктатора на том основании, что власть его не была постоянной. Ибо природа моральных вещей познается по их действию: поэтому, если правомочия производят одни и те же действия, то их следует обозначить одним и тем же названием. И диктатор в течение срока своей диктатуры осуществляет все акты власти на том же праве, как и царь, обладающий неограниченными правами[172 - Так что, когда народ пожелал спасти жизнь Фабия Рутилиана, он обратился с ходатайством к диктатору.]; действия диктатора не могут быть никем другим объявлены ничтожными. Продолжительность здесь не оказывает влияния на природу самой вещи, хотя, поскольку речь идет о достоинстве власти, обычно именуемой величеством, не может быть сомнения в том, что это достоинство выше у того, кому дана власть бессрочно, нежели у того, кому власть дана временно, так как достоинство зависит от способа обладания властью. И то же самое я хочу сказать о тех, под чью опеку поступают цари, прежде чем принять бразды правления, пока вследствие безумия или плена они лишены возможности царствовать, и о тех, которые назначаются правителями царства, не будучи подчинены народу, и до истечения законного срока не могут быть отставлены.
3. Иначе следует полагать о тех, кто получил власть по милости и с условием возврата в любой момент. Таково, например, было некогда королевство вандалов в Африке или готов в Испании[173 - Это – следы древних обычаев бегетриев; см. у Марианы (кн. XVI).], так как народ низлагал самих королей всякий раз, как они навлекали на себя его неудовольствие (Прокопий, «Война с вандалами», I; Аймон, кн. II, гл. XX; кн. IV, гл. XXXV)[174 - То же сообщал о герулах Прокопий в «Готском походе» (кн. II); о лангобардах – Павел Варнефрид (кн. IV и VI), о бургундах – Аммиан Марцеллин (кн. ХХVIII), о молдаванах – Лаоник Халкокондила, о царе Агаде у африканцев – Иоанн Лев (кн. VII), о жителях Норвегии Вильгельм Нейбригенский сообщает, что царем там становится каждый, кто убьет царя, о квадах и язигах можно найти нечто подобное в извлечениях из Диона.]. Их акты могут быть признаны ничтожными со стороны тех, от кого они получают временную власть; оттого и власть, и самое право таких владык различны.
XII. Доказательства возможности полного обладания верховной властью, то есть с возможностью ее отчуждения
1. Сказанное мной, а именно, что власть некоторых государей принадлежит им на полном праве собственности, то есть составляет личное достояние повелителя, некоторые ученые мужи опровергают тем соображением, что свободные люди не могут быть предметом сделок (Гетман, «Вопросы с пояснениями», вопр. 1). Но подобно тому, как одно дело – власть господская, другое – власть царская, так точно одно дело – личная свобода, иное – свобода гражданская, одно дело – свобода отдельных лиц, другое – всех в совокупности. Ибо и стоики полагали, что в подчинении имеется некоторая доля рабства (Диоген Лаэртский), и в Священном Писании подданные царя называются рабами (I Самуил, XXII, 28; II Самуил, X, 2; I кн. Царств, IX, 22). Так, Ливий противопоставляет две точки зрения: «Избрали царя, еще не испытав сладости свободы» (кн. I). Он же: «Казалось недостойным римского народа находиться в подчинении, так как при царях он не был завоеван войной и не подчинялся никому из своих врагов, но этот свободный народ был покорен этрусками» (кн. II). И в другом месте: «Римский народ не подчинен царской власти, но свободен» (кн. XIV). И опять в другом месте он противополагает народам, пользующимся свободой, народы, подчиненные царской власти[175 - Фукидид пишет: «Этот Тер, отец Ситалка основал царство одрисов, чье господство распространил на большую часть Фракии, хотя значительная часть фракийцев оставалась свободной». Сенека-отец в книге первой «Наставлений» пишет: «Ибо в свободном государстве решение не постановляется таким же образом, как и при царе». Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (кн. XIII) пишет: «У царей и свободных народов». Цицерон в письме XV, 4: «С помощью свободных народов и союзных царей». Плиний об индийцах пишет (кн. VI, гл. XX): «Напротив, здесь благодаря горам, непрерывно тянущимся вдоль океана, население живет в полной независимости и без царей».]. Цицерон говорил: «Или не следовало изгонять царей, или же следовало даровать народу свободу не на словах, а на деле» («О законах», кн. III). А затем читаем у Тацита: «Сначала Римом владели цари, свободу же и консульскую власть установил Л. Брут» («Летопись», I). И в следующем месте: «Свобода германцев суровее царской власти Арзака» («Об обычаях германцев»). Арриан в истории индусов сообщает о «царях и свободных государствах». Цэцина у Сенеки: «Сила царских громов поражает свободу как народных собраний, так и присутственных мест города. Это означает, что царская власть угрожает государственному порядку»[176 - Подобный же пример см. у Визаррия, «История генуэзцев» (кн. XIX).]. Те киликияне, которые не повиновались царям, назывались также свободными киликиянами (олейтерокиликиянами). О городе Амизе Страбон сообщает, что он то освобождался, то вновь подпадал под власть царей (кн. XII). И в различных римских законах, относящихся к войне и третейским разбирательствам, чужестранцы делятся на царства и на свободные народы. Здесь, стало быть, вопрос ставится не о свободе отдельных лиц, но о свободе целого народа, чтобы некоторые не смешивали частного и общественного подчинения, говоря о несамостоятельных, не имеющих власти над собой. Отсюда следующее место: «Какие города, поля и отдельные люди когда-либо подчинялись этолиянам?» И еще вопрос: «Разве народ Коллатин не господин сам себе?» (Тит Ливий, кн. XXXVIII и V).
2. А когда народ отчуждается в собственном смысле, отчуждению подвергаются не самые люди, но неизменное право управления ими, в силу которого они образуют народ. Подобно этому, когда вольноотпущенник предназначается одному из сыновей своего патрона, это не есть отчуждение свободного человека, но передача принадлежащего патрону права на человека.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: