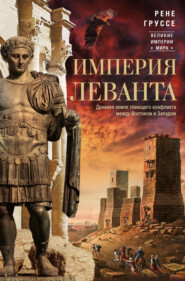скачать книгу бесплатно
2. Азиатская реакция против эллинизма
Возвышение парфян
Эллинизм отступал повсюду. В то время, когда евреи добились независимости Палестины, парфяне стали хозяевами Ирана.
Парфяне, как мы уже знаем, были иранским племенем, в давние времена поселившимся в Хорасане, и их страна некоторое время входила в Ахеменидскую державу в качестве сатрапии. Их иранское происхождение, прежде подвергавшееся сомнениям, ныне не оспаривается[40 - В частности, Страбон называет основателя династии Аршакидов скифом. Но мы сегодня знаем, что скифы (или саки) тоже были иранцами, равно как мидийцы, персы и бактрийцы. Отсюда замечание римского историка Юстина, что парфянский язык является промежуточным между персидским и скифским.]. Они даже дали свое имя – пехлеви (pehlvi) на персидском – классическому языку Персии эллинистической и римской эпох. Против селевкидской власти они восстали под руководством живучей династии Аршакидов, названной так по своему основателю Аршаку или Арзасу I (ок. 250–248 до н. э.) и процарствовавшей с 250 г. до н. э. по 224 г. н. э. Мы уже видели, что поход Антиоха III с целью принудить их подчиниться (ок. 209 до н. э.) оказался напрасным. В правление своего царя Митрадата или Митридата I (ок. 170–138 до н. э.) они воспользовались смутами в империи Селевкидов и отторгли от нее Мидию (ок. 160 до н. э.)[41 - Последнее упоминание в клинописных текстах о суверенитете Селевкида Деметрия II датируется 144 г. до н. э.], затем Персиду, Сузиану и, наконец, даже Вавилонию. На востоке около 160–159 гг. до н. э. Митридат I отнял у греко-бактрийского царя Евкратида «сатрапии Аспион и Туриуа», или, правильнее, Тапурия и Траксиана, расположенные, предположительно, первая в верховьях Атрека, а вторая в долине Касаф-Роуда, то есть обе находились возле современного Мешхеда. Селевкид Деметрий II в 140–139 гг. до н. э. попытался отвоевать у парфян Вавилонию и Мидию. Население, «давно привыкшее к македонскому владычеству и с трудом переносившее спесь парфян, – сообщает Юстин, – призвало его и действовало заодно с ним». Очевидно, как уточняет Юстин, что речь здесь идет об «эллинах и македонянах», то есть о греческих колонистах, поселившихся в Вавилонии, Сузиане, Персии и Мидии, которые, после отвоевания «варварами» этих областей, инстинктивно обратились к Селевкидам. Юстин также сообщает нам, что Деметрию II помогали бактрийцы, что позволяет предположить вспомогательный удар в пользу Селевкидов, нанесенный парфянам греко-бактрийским царем Гелиоклом Дикайосом. Но Деметрий II, пройдя освободителем через Вавилонию, был в Мидии пленен парфянами, которые, под предлогом переговоров, заманили его в ловушку и вскоре вернули себе все спорные провинции, включая Вавилонию (139 до н. э.).
Последний энергичный Селевкид, родной брат Деметрия Антиох VII Сидет (138–129 до н. э.), предпринял неимоверные усилия, чтобы спасти плоды македонского завоевания. Первым делом он взялся за евреев и в 132 г. до н. э., после знаменитой осады, овладел Иерусалимом. Он ограничился тем, что привел евреев к повиновению и проявил величайшую терпимость к их религии. Их этнарх, асмодей Иоанн Гиркан, даже сопровождал его в походе на парфян. Затем Антиох выступил против парфян (130). И снова население Вавилонии и других спорных провинций встречало Селевкидов как освободителей. В Селевкии-на-Тигре греческие колонисты выразили свою радость, напав на парфянских наместников. Не только греко-македонские колонисты в городах, но и, по свидетельству Юстина, вожди местных племен «устремились навстречу Антиоху и передались ему, проклиная спесь парфян». Победив парфян в трех сражениях, он занял Вавилонию и получил прозвище Великий. Все народы перешли на его сторону, и у парфян осталась лишь территория, которой владели их предки. К этому моменту Антиох VII, с общего согласия населявших их народов, вернул эллинизму Вавилонию, Сузиану, Персиду и Мидию. Но, считая врага совершенно сломленным, он дал парфянскому контрнаступлению застать себя врасплох, когда стоял на зимних квартирах. Он проявил большой героизм, но был раздавлен числом (приблизительно февраль 129 г. до н. э.).
Отступление эллинизма из Ирана в Сирию
Гибель Антиоха VII и разгром его армии – последней «македонской» армии, которая попыталась отвоевать Азию, – спровоцировали окончательное крушение дела Александра Великого к востоку от Евфрата. Мидия, Персида, Сузиана и Вавилония окончательно подпали под власть парфян, без надежды на реванш. Парфянский царь Фраад, или Фраат, II (138–128 до н. э.), победивший Антиоха VII, отвоевал эти провинции и заставил трепетать изменивших ему греков Селевкии. Поэтому 129 г. до н. э. является ключевой датой в истории Азии. От Окса до Евфрата иранизм окончательно восторжествовал над эллинизмом. Начался накат Азии на Европу. Царство Селевкидов съежилось до границ Сирии и ближайших зависимых от нее владений: Киликии и Коммагены.
Наблюдая анархию, в которой барахтались последние Селевкиды, Фраат II, возможно, испытывал искушение перейти Евфрат и дойти до Сирии, но в тыл ему ударили скифы, совершавшие набеги со стороны Восточного Ирана. Нам известно, что как раз в это время, около 130 г. до н. э., Бактрия была отнята у греков скифскими племенами, которые Трог Помпей[42 - Гней Помпей Трог (I в. до н. э. – I в. н. э.) – римский историк и ученый; главный труд «Филиппова история» в 44 книгах, основной темой является македонский царь Филипп II, эпоха Александра Македонского и диадохов. (Примеч. пер.)] называет «сарауки и азиани», а Страбон «азиои, пасианои, тохарои и сакарулаи». Многие ориенталисты отождествили их с народом, известным по китайским летописям под названием юэчжи, откочевавшим около 165–160 гг. до н. э. с территории современной китайской провинции Ганьсу в Согдиану. Что же касается «сарауков» или «сакараулаев», их название приводит к сака-равака, сакскому племени, достаточно хорошо известному, поскольку его название фигурирует среди вассальных Ахеменидам народов, чьи контингенты сражались в битве при Арбеле. «Саками» персы называли все народы, которые греки именовали скифами, то есть кочевые племена, также иранского происхождения, ведшие пастушью жизнь в степях Южной России или Туркестана. Более определенно название «саки» применялось к тем из этих племен, что жили по обоим склонам гор Тянь-Шаня, в Фергане, Кашгаре и Хотане. Их недавно открытый язык известен филологам под названием восточноиранского.
Саки и другие племена, пришедшие из Центральной Азии, около 130 г. до н. э. отобрали Бактрию у последних греческих царей этой страны, когда парфянский царь Фраат II, которому в тот момент угрожало вторжение селевкидской армии Антиоха Сидета, попросил их о помощи. Отряды саков прибыли после победы Фраата, но тем не менее потребовали выплаты жалованья. Затем они принялись грабить Парфию. Фраат выступил против них, взяв в помощь и пленных греков-селевкидов. Те отомстили, повернув оружие против него. Парфянское войско было разбито, а Фраат убит.
Ардавану или Артабану II, дяде Фраата II, наследовавшему ему на парфянском троне (128–123 до н. э.), повезло: саки ушли из Парфии, но он захотел перенести войну в их страну – очевидно, в район Бактрии, и был смертельно ранен в бою с племенем тохаров. Его сын Митрадат, или Митридат II Великий (123–88 до н. э.), наконец-то сумел сдержать набеги кочевых орд. Вероятно, он отбил у них Мерв и Дрангиану, или Систан, провинцию, где установилась власть владетельного парфянского дома Сурен, и даже Арахозию (от Кандагара до Газны), где в дальнейшем правил сакский сатрап по имени Азес. На западе Митридат II воспользовался раздорами между последними Селевкидами и перешел Евфрат. В 93 г. до н. э. его войска совершили набег на Коммагену и убили там Антиоха IV. Наконец, за уступку ему некоторого количества округов Митридат II помог посадить на трон Армении царя Дикрана, или Тиграна, Великого из династии Арташесидов, который стал его вассалом (около 95 до н. э.).
Армянская держава. Тигран Великий
В это время на Востоке произошла неожиданность: наступила гегемония Армении[43 - Армянское царство было основано сатрапом Арташесом, который после заключения Апамейского мирного договора (188 до н. э.) стал независимым от Селевкидов.]. После смерти Митридата II парфянская держава пережила закат. С другой стороны, в Сирии члены династии Селевкидов пожирали друг друга в мелких сварах, потеряв всякий авторитет. Царь Армении Тигран Великий (95–54 до н. э.) воспользовался этим, чтобы отнять у Аршакидов титул Царя Царей и вырвать из-под их сюзеренитета Адиабену (Ассирию), Гордиену, Мигдонию, или страну Нисибина, и Осроену, или страну Эдессы. Короче, весь север Месопотамии. В 84–83 гг. до н. э. сирийцы, уставшие от раздоров в семействе Селевкидов, предложили ему трон Антиохии, который он сохранял до 68 г. до н. э.
Отступление эллинизма в Сирии. Арамейская экспансия
Греческое владычество исчезало повсюду. В Северной Месопотамии, регионе, номинально присоединенном к Парфянской империи, а затем к новой Армянской державе, арамейское население, на которое эллинизм оказал лишь самое поверхностное влияние, оказалось фактически автономным. И тогда вождь племени карен по имени Арью основал в Осроене (ныне Дияр-Мудар), вокруг Эдессы (по-сирийски Орхай, ныне Урфа), автономный эмират (ок. 132 до н. э.). Его преемники, известные у греческих авторов под простым титулом топархов или филархов[44 - Топарх – правитель полунезависимой или независимой области; филарх – племенной вождь; в поздней Римской империи – титул ведущих арабских князей. (Примеч. пер.)], правили в Эдессе до 244 г. н. э. Рассматривавшиеся римлянами как арабы, эти князья носили набатейские (Ману, Бакру, Сахру, Джебар, Арью), чисто арабские (Абгар, Мазур, Ваил) либо парфянские (Фрадашт, Фарфатаспат или Партамаспатес) имена. Созданное ими княжество часто называют княжеством Абгаров, по имени большинства его правителей (одиннадцать князей по имени Абгар и девять по имени Ману), оно смогло пережить все превратности армянского, парфянского, а позже и римского сюзеренитета и просуществовать более трех веков (132 до н. э. – 244 н. э.), не потеряв своего арамейского характера. Защищенная от эллинизма течением Евфрата, а от иранизма – Тигром и пустыней, Эдесса под управлением Абгаров и Ману могла жить своей жизнью. Она стала инициатором начавшейся на Востоке семитской реакции против эллинизма, которая продолжится вплоть до великого арабского мятежа, выразившегося в исламе. Проповедь христианства[45 - Согласно легенде, эдесский князь Абгар V Уккама (4 до н. э. – 7 н. э. и 13–15 н. э.) якобы исповедовал христианство с 29 или 32 г. В действительности христианство, очевидно, было возведено в ранг государственной религии в правление Абгара IX бар Ману (179–214), но в этом нельзя быть уверенными. Во всяком случае, Абгар IX был другом христианского ученого Бардайкана (Бардесана) и запретил местный языческий культ Таратхи.] не только не повредила своеобразию этой страны, но, напротив, способствовала появлению богатой сирийской литературы (на восточноарамейском диалекте), роль которой станет однажды капитальной в формировании арабской цивилизации.
Восторжествовавшая в Эдессе семитская реакция ощущалась вплоть до селевкидской Сирии, последнего оплота эллинизма в Леванте. Арамейский элемент, составлявший основу сельского населения, взял реванш над греческой буржуазией крупных городов. В это же самое время, по мере того как ослабевала власть последних Селевкидов, началось арабское проникновение в долину Оронта. Пришедшие из пустыни племена бедуинов разбивали свои палатки посреди возделанных полей. Одно из таких племен, табату, или набатеи, из Петры и Басры, овладело Дамаском (ок. 85 до н. э.). Его вождь Харитат III, ставший Аретом Филэллином (ок. 86–62 до н. э.), вел себя как царь и разбил еврейского князя Александра Янная. В 84 г. до н. э. в походе против тех же самых набатеев погиб Селевкид Антиох XII. Тем временем другой арабский эмир, Сампсикерам[46 - Сампсикерам – греческая транскрипция арабско-арамейского имени Шамаш-Герам, или Шамши-Герам – «Солнце решило». (Примеч. пер.)], обосновался в Хомсе (Эмесе). В 67 г. до н. э. он захватил в плен Антиоха XIII. С этого момента вся Сирия, за исключением Антиохии и нескольких других крупных городов, подпала под власть арабских эмиров и арамейских крестьян. Семитский дух восторжествовал над эллинизмом. Дело Селевкидов погибло.
Фиаско Селевкидов и его историческое значение
Каковы же были причины этого фиаско? Представители династии Селевкидов определенно не были лишены достоинств. Среди них не было «ленивых королей»[47 - «Ленивыми королями» в истории называют последних франкских королей из династии Меровингов, царствовавших чисто номинально, в то время как реальная власть находилась в руках майордомов (букв. управитель дворца; во Франкском королевстве поздних Меровингов титул фактических правителей государства при реально не правивших королях), которые по своему усмотрению ставили и смещали таких королей. Период «ленивых королей» (639–751) завершился тем, что один из майордомов, Пипин Короткий, заточил последнего Меровинга в монастырь, а сам занял королевский престол, основав новую династию. (Примеч. пер.)]. Всегда на коне, во главе армии или банды, они не имели времени на литературный досуг, в отличие от Птолемеев. Не имели они и всех их пороков. В этой военизированной империи монархи, которые запирались бы со своими грамматистами и фаворитами, процарствовали бы не больше недели. Первый в роду, Селевк, был прежде всего великолепным наездником и авантюристом большого размаха. Не был иным и блестящий наездник Антиох Великий, при всем своем экзальтированном рвении, способности очаровывать, любви к роскоши, легкомыслии и внезапных слабостях. Антиох Эпифан представлял собой любопытнейшую смесь гениальности и самонадеянности. Страстный поклонник эллинства, некогда мечтавший об Акрополе, счел, что ему по силам победить дух пустыни. Последние потомки династии, после разгрома Антиоха Сидета в Мидии в 129 г. до н. э., закончили героями романов плаща и шпаги, неимущими и немного безумными авантюристами; вчера еще великие азиатские монархи, назавтра вынужденные грабить святилища, чтобы выжить. На разве характер всех их, со всеми излишествами и пороками, не лучше затхлой трусливой буржуазности александрийского двора? Во всяком случае, пусть они потерпели фиаско, у них не было недостатка ни в храбрости, ни в активности.
Но чего же им не хватило? Присутствия за спиной единого народа, понимающего их миссию. Основные наследники Александра и представители Внешней Греции перед лицом варварского мира, самые умные из них тщетно пытались придать эллинизму высокое понимание политического единства, которого у греков никогда не было. Даже после Александра эллинизм поднялся над враждой между городами-государствами лишь для того, чтобы ввергнуть себя во вражду между династиями. Александрия, Антиохия и Пергам заменили Спарту, Афины и Фивы, и раскол продолжился. Если попытка Селевкидов представляет реальный исторический интерес, то тем, что это была единственная попытка эллинизма сорганизоваться в унитарную империю на манер империй Персидской и Римской.
Очень скоро Греция и Рим узнают, что потеряли, позволив погибнуть Селевкидам. В 64 г. до н. э. эллинизм в Иране уступил место парфянской реакции, а в Сирии – арабскому проникновению. А в Малой Азии с приходом Митридата Евпатора наступила «ахеменидская» реставрация, захватившая собственно Грецию и создавшая угрозу для Рима.
Глава 2. Рим и восточный вопрос
1. Римское завоевание
Двойственная личность Митридата Евпатора. Наследник Ахеменидов. Филэллин
Не имея никакого представления о крупных азиатских проблемах, римляне после победы при Магнезии (190 до н. э.) предоставили азиатской македонской империи самостоятельно справляться с реакцией местного населения. Но когда они аннексировали в Малой Азии Пергамское царство (130 до н. э.), их точка зрения начала меняться. Римская республика помимо своей воли стала наследницей македонской традиции, и в этом качестве ей пришлось выбирать: отказаться от всех своих восточных владений или распространять свою власть вдоль до крайних пределов духовного распространения эллинизма. И в этот момент за эллинизированными областями Западной Анатолии римляне натолкнулись на страну и монарха, остававшихся, под поверхностной эллинизацией, откровенно «варварскими» в том смысле, какой вкладывали в это слово греки и римляне: с Понтийским царством и его правителем Митридатом Евпатором.
Митридат происходил из знатной персидской семьи, представители которой при Ахеменидах занимали различные высокие должности в Малой Азии. Воспользовавшись анархией, вызванной братоубийственными войнами между преемниками Александра, Митридат I, прозванный Ктистом (Основателем) (302–266 до н. э.), провозгласил себя независимым царем в Понтийской Каппадокии (280 до н. э.). Иранизм, частично покоренный первыми Селевкидами, нашел убежище в новом царстве, защищенном высокими грядами Понтийских Альп и расположенном в стороне от основных дорог, по которым передвигались эллинистические армии. Персы по происхождению, Митридаты стремились ими и остаться, хотя бы только для того, чтобы сохранить престиж в глазах населения, все еще ослепленного воспоминаниями об Ахеменидах.
Герой династии Митридат VI Евпатор (121–63 до н. э.) происходил из этого рода персидских сатрапов, но матерью его была селевкидская принцесса. Его изображения на монетах и бюсты отражают эту двойную наследственность, странную амальгаму грубости и утонченности, варварства и культуры, чувственной страстности и ясной рассудочности. В пышных анаксиридах[48 - Анаксириды – широкие штаны скифов-саков, собранные внизу или подвязанные у щиколотки, они заправлялись в сапоги. (Примеч. пер.)], в тиаре на голове, он выглядит настоящим персом, носит имя персидского бога, приносит, согласно обрядам магов, жертвы на костре, дым которых возносится к небесному царю Ахурамазде, но в то же время он приносит дары в эллинские святилища и хвастается тем, что является новым воплощением Диониса, он искушен в греческих литературе и искусствах[49 - Накануне краха он отвергнет заимствованные греческие одежды, когда пошлет приказ убить всех женщин своего «гарема». Также он прикажет истребить всех своих сыновей, кроме Фарнака, который отомстит за братьев, предав отца.]. Не вызывает ни малейшего сомнения, что для истории он является новым наступательным вариантом Дариев и Ксерксов, устремившихся к Эгейскому морю. Но как и все восточные монархи его времени, не исключая и парфянских Аршакидов, и даже более того, он умел выставить себя филэллином. Пусть его филэллинизм был лишь весьма поверхностным слоем лака, не важно, потому что современники, даже сами греки, дали себя этим обмануть.
Впрочем, именно благодаря своей внешней эллинизированности Митридат Евпатор сумел завести так далеко свою попытку иранской реставрации. А начал он свой путь в большой политике как покровитель эллинизма на северном побережье Черного моря. Греческие колонии Херсонеса Понтийского или Босфора Киммерийского, нынешнего Крыма, то есть дорийский город Херсонес к юго-западу от Севастополя, ионические города Феодосия, Пантикапей (Керчь) и Фанагория (на крайней оконечности Таманского полуострова) чуть ли не ежедневно подвергались угрозе нападения со стороны племен внутренних скифов, а за ними находилось сарматское племя роксоланов[50 - Напомним, что сарматы, как и скифы, говорили на иранских диалектах.]. Царь Перисад V, последний представитель местной греческой (или греко-фракийской) династии Спартокидов, обратился к Митридату за помощью (110 до н. э.). Тот за четыре похода своих армий отогнал скифов (110–107 до н. э.). А поскольку в ходе войны Перисад погиб, Митридат остался царем Босфора Киммерийского (107 до н. э.). Спаситель эллинизма в этих краях, победитель скифских орд, с которыми прежде не смогли совладать ни Дарий, ни полководцы Александра, он сумел привязать к себе эти племена, равно как сарматов и языгов[51 - Языги, как и роксоланы, были сарматским племенем.], обитавших в Южной Украине, и даже бастарнов, германский народ, населявший современную Молдавию, которые все поставляли ему наемников. На западной стороне Закавказья он аннексировал Колхиду (Мингрелию и Имеретию) и порты Диоскурию и Фаселис – прежние ионические колонии, – где впоследствии строился его флот.
Затем Митридат занялся объединением под своей властью Малой Азии. Сначала он посадил своих ставленников на троны Вифинии и Каппадокии (90 до н. э.), но затем вступил в конфликт с римлянами. Его первая война против них была отмечена одними победами. Он изгнал римлян из их «провинции Азия», то есть из Фригии, Мизии, Ионии и Карии, а также с островов Лесбос, Хиос и др. Всего за один день по его приказу в Азии было вырезано 80 тысяч выходцев из Италии.
Армии Митридата не только оккупировали Кикладские острова, но и высадились в Греции, где афинская демократическая партия, боровшаяся против партии аристократической, поддерживаемой Римом, встретила их как освободителей. В этом году (88 до н. э.) македонское завоевание было стерто настолько – невероятный реванш со стороны беглецов при Гранике, – что на Акрополе разместился «персидский» гарнизон, причем под аплодисменты афинян. Недалек был, казалось, тот час, когда весь эллинистический Восток соединится под одним скипетром и царь Понта растворится в Великом царе.
Римляне раздавили эту новую ахеменидскую империю в зародыше. Сулла, поставленный во главе легионов, изгнал понтийцев из Афин (1 марта 86 г. до н. э.), затем разгромил их при Херонее (весна 86 г. до н. э.) и Орхомене (весна 86 г. до н. э.). Митридат, отброшенный в Азию, согласился отдать все свои анатолийские завоевания и удалиться в родовое владение Понт (Дарданский мир, август 85 г. до н. э.).
Война возобновилась, когда римляне, опираясь на завещание последнего царя Вифинии, аннексировали эту область (74 до н. э.). Митридат попытался бороться за нее, но был изгнан (лето 73 г. до н. э.) Лукуллом, одним из лучших римских полководцев, который вторгся в собственно Понт. Лукулл рассеял понтийскую армию при Кабире (Никсаре) (72 до н. э.) и заставил Митридата бежать к царю Армении Тиграну. В 69 г. до н. э. Лукулл овладел Синопой, главным понтийским портом и любимой резиденцией Митридата, а затем вторгся в Армению, 6 октября 69 г. до н. э. разгромил армянскую армию под Тиграносертой[52 - По-армянски: Тигранакерт; очевидно, восточнее Батман-Су, недалеко к юго-востоку от Мануфаркина, если им не является сам этот город.] и захватил столицу. Однако честь покончить с обоими царями досталась его преемнику Помпею. Когда Митридат вернулся в Понт, Помпей бросился за ним и победил в сражении у Дастейры, или Никополя (Пиуск, округ Эндерес). Осенью того же года Помпей вторгся в Армению, дошел до города Артаксата (Ардашар) и принудил Тиграна отказаться от всех его завоеваний, а также признать себя, за царство Армения, клиентом[53 - Клиент – вассал, зависимый правитель. (Примеч. пер.)] римского народа. Митридат бежал в Колхиду, где мог рассчитывать на поддержку кавказских горцев, в частности иберов (Грузия) и албанов (Ширван). Помпей вторгся в Иберию, взял город Армазцике (Картли-Армази, к северу от Тбилиси), принудил царя Иберии признать себя клиентом (весна 65 г. до н. э.), затем отправился в страну албанов и разгромил их (лето – осень 65 г. до н. э.). Тем временем Митридат бежал из Колхиды в направлении Босфора Киммерийского, в Пантикапей. Старый царь мечтал собрать там новую армию и двинуться на Рим вдоль Дуная во главе сарматов, бастарнов и кельтов, но тут солдаты, напуганные столь безумным проектом, взбунтовались. Митридат покончил с собой (лето 63 г. до н. э.). В это время Помпей находился в Палестине. Считая понтийскую войну завершенной, он только что в Антиохии объявил Сирию римской провинцией (зима 64/63 г. до н. э.), после чего принялся за евреев. Осенью 63 г. до н. э. он, после трехмесячной осады, штурмом взял Иерусалим и покончил с еврейской независимостью.
Помпей и восточный вопрос
Еврейская и арамейская страна была беззащитна. Митридат мертв. В Иране парфяне Аршакидов с трудом оправлялись от опустошительных набегов саков. Царь Армении покорился. Теперь Помпею следовало придать новю форму отношениям восточного и греко-римского миров. В Анатолии, как и в Армении, в Месопотамии, как и в Сирии, он установил основные принципы римской политики, каковым еще через десять веков будет следовать византийский император Иоанн Цимисхий. Дело Александра просуществовало двести лет, прежде чем было разрушено. Дело Помпея, намного менее славное, проживет полтысячелетия.
Все из созданного Александром, что казалось возможным использовать, римский завоеватель приписал себе. Все области, где эллинизм показал свою живучесть, он прикрыл римской силой. Ото всех областей, где обеспечить владычество было сомнительно, римляне отказались. Это было возвращением к селевкидской традиции, но возвращением, дополненным последующим опытом. Впрочем, что оставалось от дела Александра и Селевкидов к тому моменту, когда дело эллинизма взял в свои руки Рим? Почти ничего. Селевкия принадлежала Парфии, Антиохия Армении, Дамаск арабам, царь Понта стоял в Афинах. Если с 63 г. до н. э. по 1081 г. н. э. блага македонского завоевания сохранились для цивилизации, то произошло это только благодаря Риму, который спас ситуацию. Малая Азия и Сирия казались достаточно эллинизированными. Помпей присоединил их к римской державе. Иран был во власти парфян и саков. Несмотря на некоторую угрозу, исходящую оттуда, он не вмешался в его дела. Что же касается Месопотамии, греческой снаружи и арамейской внутри, он колебался, и Рим после него также будет пребывать в нерешительности на протяжении пяти веков.
Во всем этом римляне показали себя сознательными наследниками македонян. Как и македоняне, они стали в Азии солдатами эллинизма. Они латинизировали только свои западные и варварские провинции. Повсюду, где они находились, они относились к нему с уважением, как одной из двух официальных форм своего владычества. К востоку от Ионических островов и Сирта Римская империя всегда была империей греческой. И здесь уместно вспомнить, что для той же Анатолии, например, эллинистический период продолжался от Александра до Митридата, а римский – от Помпея до Палеологов. Заметно, что эллинизм обязан «римскому миру» лучшим из своих завоеваний. После отказа от Ирана, который невозможно было удержать, Александр завоевал Грецию при цезарях. Рим на Востоке был делом рук не римлян, а македонян. Наследники Помпея на Востоке могли вплоть до Константина XI называть себя римскими императорами. Но после Юстиниана настал день (а он мог бы настать уже после Диоклетиана), когда история назвала их подлинным их титулом: василевс, греческий император. Действительно, в восточный вопрос римляне привнесли бесценную силу, которую тщетно пытались получить Александр и Селевкиды: политическое единство. Действительно, Византийская империя, противостоя мятежной Азии, представляла программу Александра, македонский панэллинизм, реализованный греками, но благодаря Риму.
В Сирии, которую Помпей низвел до ранга римской провинции, его заботы о реставрации эллинизма были особенно наглядны. Реакция арамейского элемента обуздана, арабское проникновение остановлено. Греческий элемент повсюду взят под защиту и ободрен. Шейхи кочевников, притеснявшие сирийские города, были схвачены или вынуждены вернуться в пустыню. Антиохия и Селевкия Пиерийская пережили своего рода ренессанс. Их муниципальные вольности были восстановлены, воспоминания о македонском периоде окружены почетом. На левом берегу Иордана Помпей даже основал новую Селевкию[54 - В этом же духе рассмотрим название Помпейополис, данное Соли в Киликии. Еще один Помпейополис (Ташкопру) был основан в Пафлагонии.]. Это название показательно: первый римский император в Сирии, со многих точек зрения, был лишь последним из Селевкидов. Набатейский эмир Харитат (Арета) III, которому римские армии угрожали даже в его владениях в Аравии Петрейской, признал себя клиентом и в этом качестве сохранил Дамаск. Что же касается еврейского царства, Помпей, после взятия штурмом Иерусалима, воздержался от его прямой аннексии. Неудачная попытка Антиоха Эпифана доказывала, что следует щадить религиозные чувства монотеистов. Однако Рим, наследник политики Селевкидов, не мог терпеть националистическую теократию Маккавеев. Римляне нашли решение. Они отдали корону Иудеи идумейской династии, Иродам. Достаточно натурализованные, чтобы быть терпимыми своими подданными, Ироды оставались в достаточной степени чужими для иудаизма, чтобы проводить в Палестине выгодную римлянам политику.
После превращения Сирии в римскую провинцию Помпей избегал вступать в борьбу с Парфянской империей. Границей между двумя державами стал Евфрат. Но не прошло и десяти лет, как эта граница была нарушена. Начались жестокие парфянские войны. Под различными названиями они будут продолжаться шесть веков.
Рим и парфяне
В то время, когда Помпей аннексировал Сирию, парфяне, под властью династии Аршакидов, владели тремя четвертями Ирана. Саки и тохары, чье вторжение потрясло Восточный Иран, обосновались в провинциях современного Афганистана: Бактрии, Дрангиане (Систане) и Арахозии, откуда их экспансия повернула на Индию[55 - См.: Груссе Р. Степные кочевники, покорившие мир. М.: Центрполиграф, 2020. С. 49–51. (Примеч. пер.)]. Парфяне, помимо собственно Парфии, остались владыками Гиркании, Мидии, Персиды (Фарса), Сузианы и Вавилонии. Это было ядро древней Персидской империи Ахеменидов. Поэтому Аршакид Митридат I (ок. 170–138 до н. э.), после завоевания этих провинций, принял титул великого царя, который впоследствии носили все его преемники. Тем самым он ясно требовал себе наследство Дариев и Ксерксов через голову Селевкидов[56 - Об Аршакиде Ардаване или Артабане III (11–40 н. э.) Тацит пишет: «Он говорил о древних границах персов и македонян и угрожал с дерзкой болтливостью отобрать то, чем владели Кир и Александр» (Annales, V, 31).].
Юстин настаивает на скифской природе парфян. Скифы и саки (первое название применяется к кочевникам Южной России, второе, иранское или санскритское, – к кочевникам того же происхождения из русского Туркестана или Кашгарии) сами, как мы видели, были иранцами, но иранцами, оставшимися варварами в северных степях. То есть различия между скифами и оседлыми иранцами были не этническими или языковыми, а в чистом виде культурными. Юстин описывает парфян как конных лучников, проводящих жизнь на своем коне, а на войне осыпающих противника стрелами «в притворном бегстве» – налицо все известные приметы скифских племен. Тот же Юстин пишет, что они не погребают своих умерших, тогда как Ахемениды хоронили своих. По мнению Андреаса и Кристенсена[57 - Фридрих Карл Андреас (1846–1830) – немецкий лингвист, востоковед, иранист; Артур Кристенсен (1875–1945) – датский востоковед, исследователь истории и литературы древнего и средневекового Ирана, современных иранских языков. (Примеч. пер.)], именно в царствование Митридата I, около 147 г. до н. э., была осуществлена компиляция «Вендидада», религиозного закона зороастризма, включающего правила о чистом и нечистом, грехах и покаяниях.
Как и все монархи их времени, Аршакиды следовали моде на «эллинизацию». Если Митридат I чеканил на монетах ахеменидский титул великого царя, то делал это греческими буквами: базилеос мегалоу. Все легенды на парфянских монетах выполнены греческими буквами. И Митридат I, и многие его преемники упоминаются в них с определением «филэллин». Кроме того, на манер Селевкидов и Лагидов, Митридат II наделяет себя эпитетами Эпифан, Эвергет, Дикайос[58 - Славный, Благодетель, Справедливый. (Примеч. пер.)]. Но этот лак эллинизма был очень поверхностным. Общеупотребительным языком, за исключением греческих колоний, таких как Селевкия-на-Тигре, оставались иранский – пехлеви, то есть именно «парфянский» диалект, в Иране и арамейский в Месопотамии, все государственные акты писались арамейским письмом, как при Ахеменидах. В остальном продолжающийся упадок эллинизма в Парфянской империи иллюстрируется деградацией греческих букв на монетах Аршакидов от Митридата I (ок. 170–138 до н. э.) до Артабана (227–228 н. э.). Наконец, парфяне установили в Иране преимущественно феодальный режим, характеризующийся верховенством нескольких знатных фамилий, таких как Сурены, Карены и Гевы, и крепостным правом для сельского населения. В подобном обществе греческие колонии, такие как Селевкия-на-Тигре, должны были чувствовать себя потерянными. Селевкия, как уверяет Тацит, сохранила «дух своего основателя», то есть сознание своего эллинизма. «В ней избирают триста богатых или известных своей мудростью граждан, которые образуют сенат; есть гражданская власть и у простого народа. И когда между ними устанавливается согласие, они ни во что не ставят парфян»[59 - Перевод цит. по: Корнелий Тацит. Соч.: В 2 т. Т. I. Анналы. Малые произведения. М., 1993. (Примеч. пер.)]. Значит, греческая колония сохраняла в феодальной империи Аршакидов свою муниципальную автономию, но дальше мы увидим, что как в политическом, так и в культурном плане она поглядывала в сторону греко-римского мира. Со своей стороны разве римляне, отныне ставшие защитниками эллинизма на Ближнем Востоке, не должны были вернуть ему потерянные им области? Поэтому, начиная со времен Цезаря, движение к Карру и Селевкии стало одной из основных целей римской политики.
Несмотря на последовательность этой политики и доблесть легионов, ни одна из попыток Рима разгромить Парфянскую империю, чтобы присоединить хотя бы Вавилонию, не увенчалась успехом.
Шах римлянам. Красс и Антоний
Первая попытка имела место в царствование Аршакида Орода I (57 – ок. 38 до н. э.). Римский триумвир Красс, в то время когда Цезарь завоевывал Галлию, захотел возобновить в Иране поход Александра. Вместо того чтобы сделать своей операционной базой Армянский массив, как ему предлагал царь Армении Артавазд III, Красс послушался коварных советов правителя Эдессы Абгара II[60 - Абгар II бар Абгар из династии Мазур был царем Эдессы с 68 по 53 г. до н. э.], двинулся через пустынное плато Джезире, где был окружен и разгромлен парфянами возле Каррэ или Карра (Харран) (28 мая 53 г. до н. э.) и, наконец, убит (1 июня). 20 тысяч римлян и их союзников были убиты, 10 тысяч взяты в плен. Ород переселил пленных в район Мерва.
Эта катастрофа имела серьезнейшие последствия. «Парфяне, соединясь с арабами, вознамерились не больше и не меньше как изгнать Рим из Сирии. Поскольку греки, жившие за Евфратом, ждали римлян как освободителей, евреи и другие западные семиты точно так же ждали Аршакидов». Враги Рима, азиаты, на какой-то момент растерявшиеся из-за падения Митридата Евпатора и Тиграна, обрели нового вождя. Когда автор «Апокалипсиса», этот вдохновенный семит, черпавший свой гений в ненависти к эллинизму, пророчествовал смерть римскому Зверю, ждал спасения от парфянских всадников.
В 36 г. до н. э. триумвир Антоний решил повторить попытку Красса. По предложению царя Армении Артавазда III, по-прежнему союзника римлян, он сделал отправной точкой своего похода эту страну и вторгся в Парфянскую державу через Атропатену, современный Иранский Азербайджан, где осадил город Прааспу (Марагу). Но аршакидский царь Фраад или Фраат IV (37–2 до н. э.) вынудил римлян снять осаду. Отступление римской армии было тяжелым, и разгрома удалось избежать лишь с большим трудом.
Неудача Антония, последовавшая за разгромом Красса, окончательно укрепила положение династии Аршакидов. С этого момента римская общественность приняла раздел цивилизованного мира между двумя державами. Установился modus vivendi[61 - Модус вивенди (лат., букв.: способ действия) – термин, применяемый в дипломатии для обозначения временных или предварительных соглашений, которые предполагается заменить впоследствии другими, более постоянного характера или более подробными. (Примеч. пер.)]. Парфянский царь Фраат V (ум. 2 до н. э.) закончил свои дни в доброй дружбе с императором Августом, который ловко пытался внедрить римское влияние в его государство. Август и его преемники действительно приобщили к латинской цивилизации многих воспитанных в их окружении юных Аршакидов, которых они затем пытались посадить на трон в Ктесифоне, но всякий раз, когда расчеты их, казалось, вот-вот оправдаются, у парфян происходила резкая, полукочевая реакция, изгонявшая римских ставленников и призывавшая на трон других претендентов-Аршакидов, остававшихся верными обычаям своего народа.
А этот период главной ставкой являлось парфяно-римское соперничество за протекторат над царством Армения, армянская корона поочередно доставалась клиентам то Парфянской империи, то Рима. Соперничество усилилось после пресечения армянской династии Арташесидов около 10 г. н. э. В конце концов Рим и Парфия пришли к компромиссу, отдав армянский трон младшему отпрыску династии Аршакидов, который признал римский протекторат. Так Тердат или Тиридат I, брат парфянского царя Валгаша, или Вологаса I, приехал в Рим получить корону Армении из рук Нерона (66 н. э.).
Траян идет по следам Александра
Именно вопрос Армении спровоцировал при императоре Траяне возобновление парфянских войн. Хосрой, или Ороз, изгнал из Армении римского клиента, которого заменил на принца по своему выбору. Траян, решившись покончить с парфянами, начал с захвата Армении, которую превратил в римскую провинцию (114). Эта аннексия опиралась на союз с кавказскими народами, в первую очередь с албанами Ширвана, получившими нового царя из рук Траяна. Из покоренной Армении Траян отправился на зимние квартиры в Эдессу, где местный царь, Абгар VII, примкнул к римлянам.
Весной 115 г. Траян отобрал у парфян Северную Месопотамию (Нисибин). В 116 г. он завоевал Ассирию и Вавилонию и вступил победителем в города-близнецы Ктесифон и Селевкию, из которых первый играл роль парфянской столицы. Оба этих региона, в свою очередь, были объявлены римскими провинциями, а Траян дошел до Харакса Спасину неподалеку от Персидского залива. Увидев корабль, отплывавший в Индию, римский завоеватель выразил сожаление от того, что возраст не позволяет ему отправиться туда на поиски следов Александра. По крайней мере, после взятия Ктесифона он приказал выбить медаль с красноречивой надписью: Parthia capta[62 - Парфия завоевана (лат.). (Примеч. пер.)].
Наступление римлян на Иран внезапно оказалось остановлено страшным бунтом – бунтом семитского мира. Движение начали еврейские колонии Киренаики, Египта и Кипра, затем оно охватило еврейское население Осроены, района Нисибина, Ассирию и Вавилон и, наконец, распространилось на арамейские элементы этих областей, а также на соседние арабские племена (117). Римлянам пришлось заново завоевывать восставшие Эдессу, Нисибин и Селевкию, топить мятеж в крови[63 - В правление князя Эдессы Абгара VII бар Изата (109–116) город был взят штурмом и сожжен Луцием Квиетом. После недолгой аннексии Римом (116–118) эдесская династия была восстановлена на престоле в лице Илура, или Ялуда, и Фарнатаспата (118).]. Разумеется, парфяне воспользовались затруднениями римлян, чтобы перейти в контрнаступление. Им сыграло на руку то, что принцы дома Аршакидов оказались, как всегда, разобщенными. Траян, отказавшись от завоевания Ирана, поддержал одного из этих претендентов, который взамен признал себя его клиентом. Границей между двумя державами стал Тигр. Траян умер на обратном пути в Селине, в Киликии (в начале августа 117 г.); если он не сумел разрушить Парфянскую империю, то мог, по крайней мере, гордиться тем, что дал Римской империи границу по Загросу.
Тем не менее мятеж 117 г. стал очень серьезным симптомом. В тот час, когда величайший из римских императоров пытался реставрировать империю Александра, семитская душа выплеснула всю свою ненависть к Греции и Риму. Со времени взятия Иерусалима Титом (70) еврейские национализм и религиозный фанатизм дошли до исступления. Зелоты, отчаянные сектанты, отвергавшие любой компромисс с эллинизмом, тайно обрабатывали массы. Рим презирал их бессилие, но при всяком ослаблении римской силы они брались за оружие. Эти еврейские восстания, впрочем, интересны с той точки зрения, что позволяют предположить эволюцию восточной души под римским владычеством. Они продолжали традицию восстаний Маккавеев и предвещали приближение Изгнания. Это действительно была первая религиозная война в современном смысле слова между Европой и Азией, первый всплеск реакции Древнего Востока, который, несмотря на внешний филэллинизм, пытался сбросить внешнюю Грецию в море.
Преемник Траяна Адриан, самый греческий из всех императоров, убедил себя в невозможности когда-либо эллинизировать эту упрямую Азию. Усмирив евреев империи, он отказался от завоеваний своего предшественника. Он добровольно вывел войска из Вавилонии и Ассирии, даже из Западной Месопотамии вплоть до Евфрата, и восстановил в Армении систему протектората в пользу боковой ветви Аршакидов.
Однако у Траяна были последователи. Еще дважды, при Марке Аврелии и Септимии Севере, римские легионы совершали походы в Месопотамию. В 165 г. полководцы Марка Аврелия разгромили парфян при Дура-Эвропос на Евфрате, километрах в пятидесяти к юго-востоку от впадения в него Хабура, и окончательно отобрали у врага эту важную пограничную крепость, а также Эдессу[64 - Следует отметить, что князь Эдессы Ману VIII, до того момента клиент парфян (139–163), а с этого момента клиент римлян (167–179), стал чеканить на своих монетах титул Philoromaios (Друг римлян).]. В 166 г. римская армия дошла до двух парфянских столиц, Селевкии, которую предала огню, и Ктесифона, где царский дворец Аршакидов также был сожжен. Тем не менее Марк Аврелий, в отличие от Траяна, не стал аннексировать Вавилонию. Он ограничился присоединением к империи на северо-западе Месопотамии Осроены, или региона Эдессы, где княжество Абгаров вернулось в число римских клиентов[65 - Правитель Эдессы Ману VIII (139–163 и 167–179) чеканил на своих монетах изображение Марка Аврелия рядом с собственным и, как уже упоминалось, титуловался другом римлян.]. В Армении римский протекторат был восстановлен и укреплен. Император Септимий Север пошел дальше. В 194–195 гг. он отнял у парфян и вновь аннексировал Северную Месопотамию вокруг Нисибина, из которой сделал колонию. Парфянский царь Вологез IV в 197 г. осадил Нисибин, тогда Септимий Север предпринял новый поход, в ходе которого овладел Ктесифоном. В третий раз парфянская столица была разграблена победоносными легионами, которые захватили в ней сто тысяч пленных (ноябрь 197 г.). Парфяне смогли заключить мир, лишь признав себя данниками Рима, а Септимий Север добавил к своим титулам еще один: Parthicus maximus[66 - Великий победитель в Парфии (лат.). (Примеч. пер.)].
Династия Аршакидов и сама Парфянская империя недолго просуществовали после этого разгрома. Реакция иранского национализма смела этих слабых правителей и заменила их династией Сасанидов.
2. Сасанидская реакция
Переворот Сасанидов. Его значение в восточном вопросе
В феодальной Парфянской империи Аршакидов Персида, или провинция Парс, современная Фарс, столицей которой был город Истахр, или, правильнее, Стахр, древний Персеполь, образовывала периферийное царство, возглавляемое рядом царей, от которых до нас дошли несколько монет. Чаще всего этих правителей звали Артахшатр или Дарияв, то есть Артаксеркс или Дарий, как Ахеменидов, Пероз, как позднее Сасанидов, и Манучихр[67 - Манучихр – в иранской мифологии и эпосе царь из династии Пишдадидов; упоминается в ряде среднеперсидских источников, в поэме Фирдоуси «Шахнамэ» и в поэме Наваи «Стена Искандера». (Примеч. пер.)], как в эпосе. Интересно отметить, что в легендах их монет, в отличие от парфянских, никогда не употребляется греческий язык; только персидский, смешанный с арамейским, текст написан буквами, произошедшими от арамейского письма в эпоху Ахеменидов. Огражденный горами Фарс, ставший некогда родиной Ахеменидов, являл собой заповедник персидских традиций, когда в 212 г. знатный перс из района современного Шираза, по имени Папак, сын Сасана, основал в этой стране новую местную династию – династию Сасанидов. Сына Папака, Ардашир, в большой битве при Хормиздагане победил и убил последнего парфянского царя Аршакида Ардавана, или Артабана V (28 апреля 224 г.), и торжественно вступил в парфянскую столицу Ктесифон. В последующие годы Ардашир заставил признать свою власть различные провинции Ирана: Мидию, Систан, Хорасан, Маргиану и Арию. Его сюзеренитет признали даже кушане, или индо-скифы, Афганистана и Пенджаба. Заменив своей властью власть прежних парфянских правителей, основатель династии Сасанидов вместо них провозгласил себя царем царей, по-персидски шахиншахом, в арамейском прочтении малкан малка. Скальные рельефы Накшэ-Раджаба и Накшэ-Рустама возле Персеполя показывают нам коронацию Ардашира верховным богом зороастризма Ахурамаздой, или Ормаздом. Впрочем, монеты царей Сасанидов именуют их «слугами Мазды». На оборотной стороне их мы видим пламенеющий жертвенник.
Следовательно, с приходом к власти династии Сасанидов маздеизм или, точнее, зороастризм стал государственной религией. Этот строго конфессиональный характер новой империи составляет одну из ее отличительных черт в сравнении с парфянской эпохой, другой особенностью политического устройства державы Сасанидов является централизация, невиданная при Аршакидах.
Зороастрийская церковь состояла из низшего духовенства – магов или моганов, и верхнего духовенства – мобедов, начальников духовных округов; те и другие подчинялись великому понтифику, мобедан-мобеду, который был вторым человеком в государстве, стоял в иерархии сразу за царем, духовным наставником которого являлся. В конечном счете, признание царя зависело от мобеданмобеда, обладавшего привилегией короновать его. Это духовенство опиралось на «Библию зороастризма» Авесту, редакция которой, согласно персидской традиции, была произведена по приказу парфянского царя Вологаса I (51–77), но первый царь из династии Сасанидов Ардашир I будто бы повелел сделать более полную редакцию. Второй Сасанид, царь Шапур I (241–272), якобы созвал собор для окончательного установления авестийского канона. Так называемое письмо Тансара царю Табаристана, которое, если и не восходит к эпохе Ардашира I, датируется по крайней мере 560 г., временем царствования Хосрова I, прекрасно показывает роль, которую играло в государстве духовенство; роль эту можно сравнить с той, что католическая церковь играла при Филиппе II, прибавив сюда еще бескомпромиссный национализм. «Религия и Государство, – как высказывается в приписываемом ему тексте Ардашир, – это две сестры, которые не могут жить одна без другой. Государство есть поддержка Религии, а Религия укрепляет Государство».
Сила зороастрийской церкви даже перед лицом царской власти основывалась на строгой иерархии, подчинявшей местных магов мобедам, возглавлявшим духовенство каждой провинции, а тех – мобедан-мобеду, этому «папе маздеизма». Существование столь мощной церковной организации придало империи Сасанидов, существовавшей в античном мире, некоторые черты наших средневековых обществ. Мощный инструмент войны и политики на службе династии, продукт очень закрытого, очень высокоморального, очень утонченного в своих догмах, но требовательного в своем культе духовенства, эта государственная религия быстро стала репрессивной. Все неверующие, будь то христиане или, как маздакисты и манихеи, просто еретики, испытали на себе ее жестокость. В то самое время (III в.), когда Римская империя либерально открывала двери иранским верованиям, таким как культ Митры, Персидская империя закрывалась от верований – старых и новых – греко-римского мира. «Маздеистское духовенство, – отмечает Нёльдеке[68 - Теодор Нёльдеке (1836–1930) – немецкий востоковед, автор работ по семитологии, арабистике, иранистике, тюркологии. (Примеч. пер.)], – было столь же могущественным, как любое христианское духовенство, и не уступало ему в своем репрессивном пыле. Священники, соединившиеся с дворянством, устроили тяжелую жизнь не одному царю».
Что же касается царской власти Сасанидов, она была намного сильнее и гораздо лучше умела заставить себе повиноваться, чем царская власть в Парфянской державе. Парфянская империя была империей феодальной и почти превратилась в федерацию. Империя Сасанидов продолжала оставаться феодальной, но феодализм отныне подчинялся царской власти. Марзпаны, или сатрапы (губернаторы) провинций, находились под прямым постоянным наблюдением монарха. Автономный статус областей парфянских времен исчез. Семь знатнейших фамилий, восходящих по большей части к эпохе правления Аршакидов[69 - В частности, Карены, Сурены, Аспахбады – все из народа пехлеви, то есть парфяне, Спандиахи и Михраны.], действительно занимали важнейшие должности, порой передавая их по наследству, но речь шла больше о придворных должностях, чем о должностях наместников областей. После парфянского режима Персия Сасанидов вернулась к абсолютизму и централизации монархии Ахеменидов.
Было бы логично, если бы, оставаясь верной своему иранскому национализму, империя Сасанидов сохранила свою столицу в Фарсе, в Стахре-Персеполе например. Но политические соображения одержали верх. По примеру парфян великие цари Сасанидов сделали столицей Ктесифон, а основатель династии восстановил город-близнец Селевкию под названием Вех-Ардашир. Однако оба этих города располагались вне этнически иранской территории. Вавилония, Ассирия и другие части Месопотамии, подчиненные Сасанидам, продолжали говорить на семитском языке, арамейском, и Сасаниды даже мечтать не могли, чтобы навязать им пехлеви. Более того: как мы увидим дальше, вскоре арамейский элемент на правом берегу Евфрата усилился благодаря постоянному проникновению арабов, что усилило семитизм региона. Так что сасанидские цари начиная с Шапура I (241–272) обоснованно выбивали на монетах свой титул как Ch?ch?nch?h ? Er?n ou An?г?n, Царь Царей Ирана и Не-Ирана.
Еще более обосновывали этот титул их территориальные претензии на римский Восток.
По словам Геродиана[70 - Геродиан, иногда называемый Иродиан Антиохийский (ок. 170 – ок. 240) – греческий историк, автор «Истории от Марка Аврелия» в 8 книгах, охватывающей 180–238 гг. (Примеч. пер.)], Ардашир претендовал на все римские провинции в Азии, некогда входившие в империю Ахеменидов, которую он намеревался восстановить в полном размере. И написанная на пехлеви в сасанидский период поэма «Карнамаг-и Ардашир»[71 - Полное название «Карнамаг-и Ардашир-и Пабаган» – Книга деяний Ардашира, сына Папака. (Примеч. пер.)], и «Шахнамэ» Фирдоуси, появившаяся в мусульманскую эпоху, выводят родословную династии Сасанидов от «Дарая», то есть от Дария. Что же касается Александра Великого, хотя упомянутые эпопеи и пытаются спасти иранскую честь, превратив его в младшего отпрыска династии Ахеменидов, пришедшего вернуть себе наследство, зороастрийская традиция видела в нем лишь жестокого преследователя, поджигателя Персеполя и разрушителя первой Авесты. Поэтому Сасаниды, как мстители за Ахеменидов, обнажили меч против Рима, наследника Александра в Азии.
Император Валериан, пленник Шапура
В царствование самого Ардашира война против Рима не привела к решительной победе. Но его сын и преемник Шапур I (241–272) добился неожиданных успехов. В 253 г. он выгнал из Армении римского клиента царя Тиридата II и посадил на его место своего вассала. А в 260 г., возле Эдессы, он захватил в плен римского императора Валериана. Знаменитый рельеф в Наш-и-Рустам возле Персеполя изображает сидящего на коне Шапура, величественным жестом дарующего жизнь Валериану, преклонившему перед ним колено. Персы, которым больше не противостояла римская армия, захватили и разграбили Антиохию, Тарс и Кесарию Каппадокийскую, угнав к себе многие тысячи пленных. Эти римские пленники использовались на крупных строительных работах, в частности, по традиционно сложившемуся мнению, на строительстве мостов и дамб в Шуштере и Гундишапуре в Сузиане.
Плененный персами римский император, униженно стоящий на коленях перед Великим Царем, – это было повторение в еще худшем виде разгрома Красса. Тем не менее, как и после Каррской битвы, владыки Ирана не смогли отнять у Рима ни Сирии, ни Малой Азии. Сам Шапур, спасаясь от вновь прибывших римских контингентов, вынужден был поспешно уйти за Евфрат. Эдесса осталась римской.
Первая арабская империя: Пальмира
Между римлянами, парализованными своими гражданскими войнами, Сасанидами, чьи набеги на римские владения прекратились, на Востоке выросла новая сила: Пальмира.
Своим благополучием населенный арамеями Тадморский оазис, или Пальмира, в Сирийской пустыне был обязан своему расположению на перекрестке караванных путей. На западе он сообщался со Средиземным морем через Апамею, Антиохию и Селевкию Пиерию, через Эмес (Хомс) и Антарадус (Тартус) или через Дамаск, Баальбек и Берит (Бейрут) или Тир. На востоке он был связан с Месопотамией мостами через Евфрат в Суре (рядом с Калаат-Джабер) и Дура-Эвропос (Салихийе), откуда, спускаясь по Евфрату, путешественник попадал в Ктесифон-Селевкию, Вологасиас возле Древнего Вавилона и Харакс-Спасину у места впадения двух рек в Персидский залив. Мощные компании владельцев караванов превратили Пальмиру в один из богатейших городов Востока. «Начальники караванов» (сунодиархаи) из Пальмиры оставили нам многочисленные памятники с греческими и арамейскими надписями. Все это богатство действительно выражалось в искусстве через великолепные памятники и замечательные статуи-портреты.
Сами пальмирцы были арамеями, но управлялись арабской аристократией. С I в. н. э. они входили в число клиентов Рима. В начале III в. в Пальмире правил монарх по имени Оденат (Удайна), достаточно романизированный, во всяком случае внешне, чтобы носить имя Септимий и звание сенатора. Его второй сын и второй преемник Оденат II (258–266) оказал Римской империи огромные услуги во время вторжения персидского царя Шапура (260). Он не только помог римлянам прогнать этого государя до Евфрата, но также освободил римскую Месопотамию и преследовал персов до Ктесифона. Тогда-то он и получил от императора Галлиена титул dux Romanorum, командующего римскими войсками на Востоке, а царский титул присвоил себе сам. В анархии, в которую империя погрузилась в эпоху Тридцати тиранов[72 - Эпоха Тридцати тиранов – период войн императора Галлиена с узурпаторами и претендентами на престол Римской империи. (Примеч. пер.)], он управлял от имени Рима всей Сирией. После его смерти его вдова Зенобия (Зейнаб), женщина необыкновенно одаренная, правила от имени их сына Вабаллата (266–273). Зенобия добавила к своим владениям Египет и Малую Азию, короче, всю совокупность римских восточных провинций, при этом не вступая с римлянами в конфликт, поскольку уверяла, что правит исключительно от их имени.
Бегло говоря на греческом, а возможно, и на латыни, она тем не менее проявляла явные симпатии к семитическим культам, в частности к иудаизму и христианству, что видно из того, что министром у нее был Павел Самосатский, епископ Антиохии. Похоже, что по примеру Павла и его «адопцианистских»[73 - Адопцианисты – представители течения в христианстве, которое отрицает божественную сущность Иисуса Христа, считая его человеком, усыновленным Богом при крещении. (Примеч. пер.)] теорий царица Пальмиры, арабка или египтянка по происхождению, задумала установить широкий синкретизм, вбирающий в себя и примиряющий все религии. Так что мирное семитское завоевание греко-римского Востока происходило не только в политической, но и в духовной сфере.
Это курьезное политическое образование просуществовало недолго. Когда в 271 г. Зенобия и Вабаллат сделали последний шаг, приняв императорский титул, император Аврелиан, который, в силу обстоятельств, до сих пор терпел их посягательства, объявил им войну. Победив пальмирцев при Эмесе, Аврелиан взял Пальмиру (май – июнь 272 г.) и захватил Зенобию, которая украсила собой его триумф. Когда Пальмира вновь восстала, он отдал ее на разграбление (конец 272 г.). С тех пор город в пустыне перестал играть какую бы то ни было роль.
Нам стоит ненадолго задержаться на этой странной авантюре пальмирского эмирата, отобравшего у римлян без борьбы и разрыва все их азиатские провинции. На самом деле это событие лишь узаконило последствия оставшегося незамеченным переворота: захват арабами части эллинистического Востока. Здесь имело место медленное и незаметное овладение, аналогичное проникновению славян на Балканы в VIII в. Было бы ошибкой считать, что проникновение арабских элементов в Грецию датируется мусульманским завоеванием. Прорыв, позволивший мусульманам прорвать византийские рубежи обороны в Ярмуке и хлынуть в Сирию, ознаменовал апогей арабского могущества. Но это лишь наиболее сильное проявление тенденции, которая оставила в истории многочисленные следы. Мусульманское завоевание соответствует нормальному движению арабских племен, пытавшихся осесть на территории, занятой оседлыми народами. Всякий раз, когда греческая или римская власть ослабевала – при падении Селевкидов, в эпоху Зенобии, – успехи арабов становились отчетливо видны. Это завоевание без флага подготавливает и задолго предвещает час ислама.
Что же касается персов-Сасанидов, неудача попыток Шапура I в Сирии и Анатолии вынудила их на время отложить свои притязания. Области к западу от Евфрата еще четыре века официально принадлежали Риму, то есть эллинизму. Персидская империя тогда оказалась парализованной внутренними проблемами, в частности распространением манихейства.
Мани и сасанидский синкретизм
Замкнувшаяся в своем иранском национализме и зороастрийской вере империя Сасанидов тем не менее имела, как нам уже известно, в своих юго-западных провинциях, в Вавилонии и Ассирии, широкую зону, населенную семитскими народами с арамейской культурой; в зоне этой находились крупнейшие городские агломерации и даже столица Ктесифон. Этот регион, сохранявший языковые и культурные связи с Сирией, очень быстро открылся для проповеди христианства. Христианские общины, как, впрочем, и общины иудейские, были там весьма многочисленны. Добавим, что на своей восточной границе, со стороны Афганистана, Сасаниды установили сюзеренитет над различными районами Бактрии и Кабула – страны Кушан, – население которых тогда исповедовало буддизм; фрески и статуи, обнаруженные в Бамиане, Какраке, Фондукистане и других соседних областях Афганистана, являют нам образцы сасанидского искусства, соединившегося на этой окраине с символами великой индийской религии.
Таким образом, сасанидский мир, как бы он этому ни сопротивлялся, находился на перекрестке иранских, христианских и буддистских идей, и этот синкретизм, во многих отношениях более широкий, чем собственно александрийский греко-семитский синкретизм, выразился в манихейском учении.
Мани (ок. 215–276) происходил из иранской семьи, но, похоже, владел сирийским языком так же свободно, как пехлеви. Сначала он принял христианские идеи, вернее, ту их интерпретацию, которую давали гностические секты. Под влиянием гноза он попытался создать универсальную религию, сочетающую христианство и зороастрийский дуализм. Из поездки в Индию он привез буддистскую, вернее, паниндийскую идею о переселении душ, которую встроил в свою систему. Этот синкретизм, в котором и арамеи, и иранцы находили элементы своих традиций, видимо, имел равный успех у тех и у других. Кажется, к нему весьма благосклонно отнесся сам царь Шапур I: Мани даже посвятил ему один из своих трудов, «Шапураган». Но зороастрийская церковь, как, впрочем, и церковь христианская, не замедлили обрушиться на новатора и, в конце концов, добились его осуждения. Сасанидский царь Бахрам I (273–327) приказал бросить его в тюрьму, где он и умер.
Манихейству суждена была долгая жизнь; на Западе к нему на некоторое время примкнул такой блестящий ум, как Блаженный Августин, а в XIII в. оно продолжилось в учении катаров, против которых велись Альбигойские войны, тогда как на Ближнем Востоке в VIII в. в него обратились тюрки-уйгуры Верхней Монголии. Но в империи Сасанидов ему не удалось осуществить миссию, к которой его предназначал основатель. Призванное служить связующим звеном между христианством и зороастризмом, между римским миром и миром сасанидским, оно по обе стороны было объявлено ересью. Рим и Иран не сблизились.
Следует отметить, что мир между ними всегда был всего лишь перемирием. Так же как некогда парфяне, Сасаниды требовали от римлян Северную Месопотамию (Нисибин) и протекторат над Арменией. В царствование Сасанида Бахрама II (276–293) римский император Кар дошел до Ктесифона, и в 283 г. римляне навязали мир, который давал им удовлетворение по двум спорным пунктам. Молодой аршакидский принц Трдат, или Тиридат, III, воспитанный в Риме, был посажен императором Диоклетианом на трон Армении (287). Борьба возобновилась, и новый сасанидский царь Нарсе в 294 г. изгнал Тиридата и вновь подчинил Армению. Соправитель Диоклетиана, «цезарь» Галерий сначала потерпел поражение при Каррах, но затем разгромил персидскую армию в крупном сражении, в котором захватил лагерь и жен Нарсе. По мирному договору 297 г. тот вынужден был окончательно отказаться в пользу римлян от протектората над Арменией, где на троне был восстановлен Тиридат III, а также от пяти провинций в верхней долине Тигра. На возвращенных территориях римляне укрепили Амиду (Диярбакыр), город, который сыграет важную роль в последующую эпоху[74 - Укрепления Амиды были возведены императором Констанцием.], и Нисибин, ставший их главным торговым складом в этих краях.
Но скоро, благодаря переходу Константина в христианство, восточный вопрос приобретет совсем другой аспект.
Часть вторая. Восточный вопрос в раннее средневековье. Византийское решение
Глава 1. Византия, бастион европейской цивилизации
1. От Юлиана до Ираклия
Христианская империя и сасанидский мир
В начале IV в. н. э., в царствование императора Константина (306–337) и персидского царя Шапура II (310–379), восточный вопрос вошел в новую фазу. Действительно, с того дня, как Константин сделал христианство господствующей религией, интересы римской политики на Востоке смешались с интересами этой религии. И именно в эту эпоху Персидская империя Сасанидов еще крепче, чем когда бы то ни было, держалась за зороастрийскую религию. Когда Константин созвал церковный собор в Никее (325), Шапур II, со своей стороны, собрал национальный синод, возглавляемый великим мобедом, или магом, Адурбадом Махраспандом, и на нем был окончательно утвержден текст «зороастрийской Библии» Авесты. Давняя борьба эллинизма с азиатским духом приобрела с этого момента религиозный характер. С обеих сторон это была священная война. С этой точки зрения ислам лишь усложнил ситуацию, существовавшую с IV в. Когда эллинизм и азиатская душа спрятались каждый в свою непробиваемую броню религиозных догм (а не было догм более неуступчивых, чем догмы сасанидского зороастризма), когда трения между народами и цивилизациями усугубились двумя соперничающими фанатизмами, ненависть между эллином и варваром, ставшими истинно верующим и неверным, стала неутолимой: со времен Шапура II и Константина восточный вопрос стал столкновением двух крестовых походов.
Обращение Константина в христианство не только придало новую форму отношениям между Римской и Персидской империями. Оно поставило очень важный вопрос перед самими персами. В сасанидской Персии проживало много христиан, особенно в Вавилонии, вокруг Селевкии-Ктесифона, в Ассирии и Адиабене вокруг Нисибина и Арбеля, в Сузиане (Хузистане), вокруг Гундишапура (Беит-Лапата). После обращения Константина в христианство персидские христиане, преследуемые маздеитской церковью, стали смотреть на него как на естественного заступника. Их вожди, католикос Симон Барсабба и богослов Афраат, не скрывали своих проримских симпатий. «Назареяне, – говорил Шапур II, – живут на нашей земле и симпатизируют цезарям, своим единоверцам и нашим врагам… Симон хочет поднять моих подданных на мятеж против моей империи. Он хочет сделать их рабами цезарей!» Так что персидские епископы стали жертвами общих преследований (340–379) не столько как христиане, сколько как сторонники римлян.
Обращение Армении в христианство
Эти преследования сопровождались новым разрывом отношений между Персией и Римской империей (338). Ставкой – и главной жертвой – в войне в очередной раз стала Армения. Такова уже на протяжении долгого времени была горькая судьба этой страны. Со времени прихода к власти местной династии Аршакидов (53–429) Армения представала как страна, находящаяся в культурной зависимости от Ирана и одновременно в политической зависимости от Римской империи; в силу этого она периодически оказывалась разодранной между двумя этими тенденциями. Но Аршакид Тиридат III сделал окончательный выбор Армении в пользу Рима, когда по настояниям святого Григория Просветителя (Григор Лусаворич) принял крещение (около 301 или, по другим данным, в 288 г.)[75 - Отметим, что прежде, чем принять крещение, Тиридат III проявил себя как преследователь христиан – подверг мученической смерти святую Рипсиме.]. Решение капитальной важности. В великом поединке, начинавшемся между Европой и Азией, Армения становилась на сторону христианства, то есть Европы. Как Франция и четырнадцать веков ее истории вышли из реймского баптистерия[76 - Имеется в виду крещение реймским епископом Реми (Ремигием) франкского короля Хлодвига (Кловиса) I и последующее принятие христианства франками. Точная дата этого события неизвестна; традиционно считается, что оно произошло на Рождество 496 г. (Примеч. пер.)], так и Армения родилась в святилище, где Григорий Просветитель крестил царя Тиридата.
Шапур II, вступивший в масштабную борьбу против христианства, не мог позволить лежащей у его границ Армении стать цитаделью этой религии. Около 350 г. он зазвал на переговоры царя Армении Тиграна VII, преемника Тиридата III и христианина, как тот, и захватил его в плен. Он якобы даже приказал выколоть ему глаза, хотя, предположительно, так персы (около 367 г.) обошлись не с Тиграном VII, а с его сыном, следующим царем Армении Аршаком II.
Последние римляне и восточный вопрос
Разумеется, началась война между Шапуром II и римлянами, которыми тогда правил император-христианин Констанций. Театром военных действий стала Верхняя Месопотамия, район Нисибина, города, который персы трижды безуспешно осаждали (338, 346, 350), и район Сингары (Синджара), где произошла знаменитая ночная битва. Ход войны переменился, когда командование принял на себя (июнь 363 г.) император Юлиан, последний великий воин в римской истории. Пройдя вдоль Евфрата через Каллиник (Ракку) и Киркезий, Юлиан переправился через Хаборас (Хабур), чтобы вступить в сасанидскую Месопотамию, и продолжил путь вниз по течению Евфрата по левому берегу реки. Он взял Пиризабору (Анбар), победил персов во всех боях, затем, продолжая двигаться в юго-восточном направлении, достиг руин Селевкиина-Тигре. Несмотря на сопротивление персов, он со своей армией форсировал Тигр и дошел до Ктесифона, штурмовать который не решился. Тогда он проследовал вдоль Тигра вверх по течению, в направлении Ассирии. 16 июня римляне были атакованы персами, которых отразили, но те продолжали их беспокоить своими нападениями во время их отступления. 27 июня 363 г. в ходе одного из таких боев Юлиан, не щадивший себя, был смертельно ранен.
Курьезный парадокс: император – «отступник» от христианства героически защищал границу того римского мира, который уже становился христианским, а христианский император Иовиан не сумел удержать эту границу. Ради заключения мира с Шапуром II Иовиан вернул тому не только пять затигрских провинций, некогда завоеванных Диоклетианом и Галерием, но также и северовосток Месопотамии, включая две крепости: Сингару (Синджар) и Нисибин (363). Христиане первыми пострадали от этих уступок, что доказывает пример святого Ефрема, вынужденного в то время покинуть свою родину Нисибин и перебраться в Эдессу[77 - Святой Ефрем, родившийся около 306 г. в Нисибине, знаменитый своими религиозными стихами на сирийском языке, поселился в Эдессе в 363 г. Он основал там знаменитую школу, называемую «Школой персов», ставшую одним из наиболее активных христианских литературных центров на сирийском языке. Святой Ефрем умер в Эдессе 9 июня 973 г.]. Хуже того: Иовиан в это же время трусливо отдал под сюзеренитет Сасанидов христианского царя Армении, до тех пор клиента римлян, Аршака (Арсака) II, которого четыре года спустя Шапур смог безнаказанно заманить к своему двору и казнить (367). Правда, император Валент попытался восстановить на троне Армении сына Аршака. Благодаря затруднениям Сасанидов, которые тогда воевали с кушанцами в районе Афганистана, ему это удалось (368), но затем он рассорился со своим протеже и сам его погубил (374). Валент отправил царствовать в Армению другого Аршакида, Вараздата, но потом сверг с престола, как и его предшественника (374–378).
Признаем, что весь этот период азиатская политика христианской империи была весьма непоследовательной и способной лишить Рим симпатий его естественных союзников – армян и сирийцев.
После смерти Шапура II (379) борьба Сасанидов против римского мира как будто утихла. Новый персидский царь Ардашир II (379–383) был парализован раздорами со знатью, в конце концов свергнувшей его с престола. Шапур III (383–388) подписал с римлянами мир (384). Он тоже боролся со знатью и был ею убит. Занявший трон после него Бахрам IV, которому суждено было погибнуть так же, укрепил связи с римским миром: в это время кочевая орда гуннов-эфталитов угрожала Хорасану, и Персии необходимо было освободить руки на западе. Правда, она на этом выиграла. По соглашению, заключенному между 387 и 390 гг. с императором Феодосием, тот окончательно уступил персам протекторат над Арменией, сохранив под римским владычеством лишь некоторые провинции к западу от Феодосиополя (Эрзерума) и Мартирополя (Майяфарикина), ставших теперь пограничными городами Римской империи. Главными областями, удержанными Римом, были Софена (область Харпута), Софанена (к югу от Мартирополя и восточнее Амиды), Астианена и Белабитена (западнее устья Гёк-Су)[78 - Эти границы в основных чертах просуществуют до VII в.].
Уступка Армении означала для римского мира отступление, серьезность которого нет нужды подчеркивать. Накануне массированных вторжений на западе последний «единый» римский император допустил разрушение восточного бастиона христианства. Христианская Армения накануне наступления новых времен оказалась брошенной греко-римским миром, предоставленной своим собственным силам, обреченной волей или неволей войти в орбиту Ирана, сегодня маздеитского, а завтра исламского. Нет нужды подробно излагать последствия этой ориентации.
Борьба Христа и Заратустры
Правда, сближение между Сасанидами и римлянами продолжалось. Сасанидский царь Йездигерд I (399–421) в международных делах проводил политику дружбы с константинопольским двором, а внутри страны вступил в конфликт с персидской знатью и зороастрийским духовенством. По двум этим причинам он проявлял терпимость к христианству, принял при своем дворе Маруту, епископа Мартирополя, и в 410 г. позволил этому прелату собрать в Селевкии-на-Тигре собор, на котором местные христиане приняли теологические постановления Никейского собора. По завершении этого собрания Йездигерд разрешил отправление христианского культа и строительство церквей. Была установлена церковная иерархия во главе с патриархом в Селевкии-Ктесифоне и митрополии в Беит-Лапате, или Гундишапуре, в Сузиане, в Прате Майханской, или Месене (недалеко от современной Басры), в Карке Беит-Слохской, или Киркуке, в Беит-Гармае, а Арбеле в Ассирии и в Нисибине в Северной Месопотамии. Следует отметить, что все митрополичьи кафедры располагались в населенных семитами, арамееязычных провинциях империи Сасанидов, но из тридцати обычных епископств часть находилась в этнически иранских провинциях, а жития мучеников показывают, что христианство приняло некоторое количество настоящих иранцев, даже представителей аристократии. Христианская церковь Персии, еще вчера рассеянная преследованиями и раздираемая расколом, теперь была официально признана и находилась под покровительством Царя Царей. Мы даже видим патриарха Ябалаху I (415–420) направленным Йездигердом с посольством в Константинополь «для примирения двух империй» (417–418). И потребовалось неосторожное поведение некоторых христианских священников в Сузиане, дошедших до того, что стали разрушать маздеитские святилища, чтобы заставить Йездигерда применить локальные репрессивные меры (420).