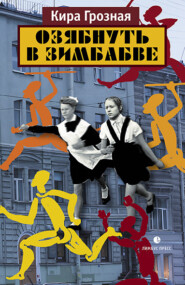скачать книгу бесплатно
Виталик повернулся и быстро пошёл к подъезду. Я семенила за ним…
– Он сам виноват, – забормотала я, оправдываясь, – он первый начал…
– В послевоенные годы, – заговорил Виталик отрывисто, жёстко, – в нашем районе было много шпаны. Малолетние уголовники, налётчики, воры. Кто с финкой, кто с обрезом. Но никогда никто в мороз не отнял бы у товарища тёплую одежду. Могли подраться. Но отобрать шапку? Если только какой-нибудь полный мерзавец. Я таких не встречал. А тут… маленький мальчик, без отца…
Шпана с обрезами… Мне вдруг стало очень стыдно.
«Маленький мальчик, без отца…», – полночи крутилось у меня в голове.
Однажды тётя Генриетта хватилась своих спичек, забытых на окне. Мы с Генкой стали первыми подозреваемыми. Нас разыскали на свалке: тайник выдал тоненький дымок. Генка попытался удрать, но ушёл недалеко. У родного подъезда его молча приняла суровая мать и поволокла домой. Вскоре двор огласился Генкиным рёвом, сквозь который, как сквозь щели картонного домика, пробивался спокойный жёсткий голос тёти Вали: «Вот так тебе! Посмей ещё только! Всегда буду бить, больно-пребольно!»…
Виталик, впустив меня в прихожую, ушёл. Мама, с вертикальной складкой меж бровей, молча указала на дверь комнаты. Я вошла и тихонько закрыла за собой дверь. Вскоре послышались тяжелые шаги, и появился Виталик в сопровождении участкового-грузина. Участковый взял меня за руку и куда-то повёл.
Во дворе стоял милицейский мотоцикл с коляской – мы с Генкой мечтали прокатиться в ней. Не думала, что буду размазывать слёзы по лицу, когда меня посадят в эту коляску.
Из дежурки на первом этаже высунулась техничка тётя Маша:
– Куда ты её, милай?
– За кражу и поджог, – сурово отвечал участковый, – эта дэвочка будет сидеть в турме.
Тётя Маша ахнула. В окне, скрываясь за выцветшей занавеской, маячил Генка… Мотоцикл стартанул, и мои слёзы потонули в облаке выхлопа и шуме мотора. Участковый дважды обвёз меня вокруг посёлка, и всю дорогу я ревела, просила прощения и клялась, что «больше не буду».
Слёзы высохли сами собой, когда мотоцикл снова остановился во дворе.
В квартире все ждали. Мама и Виталик вышли из комнаты, как будто всё это время стояли за дверью.
– Ваша дочь раскаялась, – объявил участковый. – Берегите её.
– Спасибо, Георгий Вахтангович, – серьёзно произнёс Виталик.
Показалось мне или нет? Во взгляде участкового промелькнуло что-то живое, смешливое. Он пожал руку моему отцу, нарочито сурово взглянул на меня и быстро вышел.
Генка приходил к нам и бегал в уличных ботинках по кровати, по чистому покрывалу, пока его не выпроваживала мама. В день моего рождения, четвёртого сентября, Генка являлся первым. Угрюмо вручал мне подарок, что-то буркнув вместо поздравлений, и с порога спрашивал маму: «А пельмени будут?»
Генка обожал пельмени. Конечно, это были не сегодняшние магазинные полуфабрикаты, а настоящие шедевры кулинарии: дышащие паром, с нежнейшим фаршем из трёх сортов мяса, щедро наперчённые. Моя мама готовила пельмени по праздникам, и тётя Валя их тоже лепила – «аж дважды в год».
Если пельменей не оказывалось, Генка сразу мрачнел. Он садился за стол вместе со всеми, ел много, но механически, и односложно, дерзко отвечал на вопросы, которые ему задавали наивные люди, стараясь, чтобы «диковатый мальчик» почувствовал себя «в своей тарелке». Через какое-то время Генка попросту начинал хамить: «Чё привязались? Плевал я на ваше день рождение! Ничё не надо! Сами жрите!»
Он лупил меня, отбирал подарок и уходил домой. «Геннадий, верни то, что ты съел!» – говорила ему вслед моя мама, прежде чем захлопывалась дверь. Через несколько минут к нам стучалась тётя Валя. Она извинялась за сына и возвращала уже, в общем-то, не радующий подарок…
Но чаще пельмени были – и тогда праздники удавались!
Я приходила к Генке домой, когда тётя Валя работала в вечернюю смену.
– Хошь секрет? – спрашивал Генка, щурясь (от чего лицо его становилось недоверчивым и коварным). – Маме моей хоть звук – дам в глаз.
Он изъяснялся лаконически. Я клялась, что никогда не выдам его секрет. Генка отодвигал тяжёлую железную кровать, приглашая заглянуть в щель между кроватью и стенкой. За кроватью валялись груды яичной скорлупы, обглоданные куриные кости, скомканные бумажки, прочий мусор.
– Там у меня помойка, – хвастался Генка.
– Чётко, – одобрительно отзывалась я.
Потом мы садились на пол перед тёти Валиной тумбочкой, открывали и принимались рыться внутри, изучая содержимое.
Однажды Генка пришёл ко мне, когда мама и Виталик были на работе. Наигравшись, мы решили исследовать тумбочку взрослых.
Сперва нашли у мамы большую зелёную коробку из-под духов «Эрмитаж», внутри которой, в тряпочном мешочке с завязками, лежали глянцевые игральные карты. Мы с Генкой разложили их на кровати. Короли, дамы, валеты – все эти нарисованные красавцы выглядели богатыми, счастливыми… и наглыми! Не удержавшись, мы взяли цветные карандаши и пририсовали королям и валетам рожки. Кое-кому «подарили» фингал под глазом. А одной даме – бороду.
Потом потеряли интерес к картам и взялись за чёрную пластмассовую коробку, на крышке которой было написано «Театральный грим». В коробке оказались разноцветные краски, сильно пахнувшие и очень жирные. Целый час мы с Генкой разрисовывали друг друга. У Генки зазеленели веки и посинел нос. Щёки, подбородок, лоб и даже губы ему я вымазала клоунскими белилами. Генка сделался страшнее, чем вурдалак в няниной сказке. Посмотрев на себя в зеркальце, я испугалась не меньше. Свекольно-красные круги на щеках, алые губы и чёрные веки превратили меня в настоящую Бабу Ягу!
Мы запихали коробку обратно в тумбочку и побежали умываться. Холодная вода текла из крана тонкой струйкой (горячей воды в общежитии не было в принципе). Мы кое-как затёрли свои художества, частично смыв, частично размазав. Остатки грима возле ушей и у корней волос удалось окончательно оттереть только в ближайший банный день.
Следующей на очереди была серая картонная коробка. В ней лежали маленькие синие коробчонки, в которых обычно хранят кольца и другие ювелирные украшения. Но оказались там вовсе не украшения, а непонятного назначения стекляшки, похожие на… глаза! Все они были синие, одни побольше, другие поменьше; и даже совсем маленький глазик… детский…
Мы с Генкой разглядывали причудливые стекляшки, приставляли к лицу друг друга. Потом рассовали их по карманам и отправились во двор играть в альчики[10 - Асык, ашык – надпяточная кость овцы, имеющая прямоугольную форму. В русском языке – «альчик», от киргизского «алчы» (что означает «выигрышную» сторону упавшей кости). Игра в альчики существовала с глубокой древности у народов Средней и Центральной Азии, а также юга России (Калмыкия и пр.).].
По условиям игры участник должен выбить из ряда кости противника битой – самой большой костью; её выкрашивают в красный цвет. У каждого есть любимая, «заговорённая» бита. Завоёванные чужие альчики игрок по правилам присваивает себе.
У лучших поселковых игроков имелись целые мешки альчиков. Наши с Генкой успехи были скромнее, но мы ловко заменяли кости пробками и крышечками от бутылок. А кто сказал, что их нельзя заменять стекляшками?
Игра не успела начаться, как на нас наползла тень. Это был Виталик, вернувшийся с работы раньше времени. Помню, я испугалась, что Виталик станет ругаться, а то и даст ремня за то, что рылась в тумбочке, взяла чужое без спросу. Но Виталик ничего нам с Генкой не сказал – ни тогда, ни потом. Никогда, ничего, совсем.
Виталик был послевоенным ребёнком. А послевоенные дети, как и любые дети, стремились всё исследовать. Необъятные свалки, подвалы, чердаки, леса, овраги. Места, где хранились до поры неразорвавшиеся снаряды, тосковали в ожидании малолетних искателей уцелевшие патроны и бомбы. Потеря глаза у послевоенных мальчишек была почти такой же частой травмой, как у нас – разбитая коленка.
Не забыть мне выражения лица, с которым Виталик смотрел на детей, играющих его глазными протезами.
Спустя пятнадцать лет мой отец попал под машину у самого нашего дома и погиб. Смерть подкралась со стороны правого глаза – того самого, которым мы играли в тот злополучный день…
8. Воздушная тревога
Вскоре Генка подошёл в магазине к Виталику и спросил при всём честном народе:
– Дядя Виталя, это правда, что у вас глаз вставной?
Виталик ничего не ответил, только серьёзно посмотрел на Генку. Подлетевшая тётя Валя с затрещинами и бранью уволокла Генку домой. А моя мама пошла за ними следом и вызвала тётю Валю на крылечко.
Я не слышала, о чём они говорили.
Но в тот же вечер Генка, пунцовый от смущения, пришёл к нам попить чаю с пирогом, который испекла мама. А тётя Валя, принарядившись, куда-то ушла.
Генка гостил у нас допоздна. Меня уложили спать, только когда его увела тётя Валя.
Сон всё не приходил. Я лежала, ковыряя ногтем извёстку на стенке, и слушала разговоры взрослых.
Мама говорила Виталику:
– Тяжело Валентине, конечно. Она совершенно не умеет создавать уют. Она же детдомовская. Когда её мать овдовела, она Вальку, старшую дочку, в детдом сдала, а в пятнадцать лет забрала, чтобы та на семью батрачила. Но Валентина не захотела, поступила в техникум и ушла в общежитие. Ты же знаешь, она отличный чертёжник.
– А кто отец Геннадия? – спросил Виталик.
– Какой-то командированный москвич, женатый. Валя забеременела и решила родить. Она рассказывала, как гуляла с коляской и встретила Генкиного отца. Тот подошёл, поздоровался, спросил, как дела. В коляску даже не заглянул.
Значит, у Генки тоже есть папа. Но он не дарит ему автобусы, не наряжает вместе с ним новогоднюю ёлку, не объясняет, что такое «бестактность». Он вообще не хочет видеть Генку, просто делает вид, что Генки нет на свете.
«Маленький мальчик, без отца»…
Что-то тёплое подступило к глазам, их защипало. Почему я плакала? Никто ведь меня не обидел. И пирог был вкусный, и Виталик, как папа, заботится обо мне. Вчера он учил меня бить по подушке, резко выпрямляя руку со сжатой в кулак кистью, представляя «рожу злодея». Виталик хочет, чтобы я умела себя защитить. И он купил мне – нет, не новый автобус, намного лучше – танк!
Я не знала сама, из-за чего реву, но была совершенно беспомощна перед этими слезами, перед пронзительной, ошарашивающей жалостью к другу, который не нужен своему папе.
…Генка позвонил ровно в одиннадцать – минута в минуту. Я еле успела добежать до телефона.
Пациент, страдающий пироманией, только что покинул наш корпус в сопровождении двух суровых полицейских. Я вернулась в кабинет, и почти в то же мгновение телефон взорвался короткими звонками. Лизавета посмотрела на аппарат, потом – на меня и вышла, чтобы налить в чайник воды.
– Таня, – сказал незнакомый сиплый голос. – Таня…
– Генка! – отозвалась я. – Вот это сюрприз! Ты откуда?
– Из Перми, – сообщил голос, помолчав.
– А что ты там делаешь?
– Живу.
Исчерпывающе. Генка, значит, в Перми, а я – в Питере.
Почти все, кого я знала по посёлку, уехали оттуда. Мой одноклассник Нурбек Кендыбаев, которого я подтягивала по арифметике и русскому языку, живёт в Париже, женат на француженке алжирского происхождения. Подруга Лариска Коровина, как и я, в Питере, работает на молокозаводе. Витька Шлепак – в Старом Петергофе, прораб на стройке (сам и строил себе дом). Тишка, окончивший школу с золотой медалью, поступил в ленинградский вуз, потом устроился в совместную фирму, а продолжает карьеру в Германии…
А Генку занесло в Пермь каким-то ветром. Нормально.
– Как ты меня нашёл?
– А я Витьку сначала нашёл, он мне твой домашний телефон дал. А там какая-то женщина сообщила твой рабочий… Твоя мама, что ли? Тётя Лида? Я как-то смутился и не спросил.
– Нет, не тётя Лида. Это моя свекровь, тётя Нина.
– Ясно. У неё голос симпатичный.
Возвращается Лизавета с наполненным чайником – значит, прошло всего минут семь. А я уже знаю о Генке всё, в общих чертах.
После школы Генка прошёл через Чечню. Там он получил психологическую травму. Лечился в психиатрической больнице. Какой диагноз ему впаяли, остаётся только гадать: Генка избегал разговора на эту тему. Но последующие лет двадцать он трудился в одном и том же месте: в монастыре. Что-то там ремонтировал, строил. Рукастым мужичком оказался мой друг детства.
В монастыре Генке было неплохо. Притёрся, привязался. Хотел даже обет принять, но потом отказался от этой идеи.
– …А ты как? – спросил Генка. – Есть свекровь – значит, ты замужем?
– Да, замужем. У нас двое мальчишек.
Генка, почему-то коротко рассмеявшись, поинтересовался:
– И как они… ничего не поджигают?
– Типун тебе на язык, – осердилась я. – Нет, представь себе, не поджигают!
– Значит, тебе повезло больше, чем моей несчастной маме, – вздохнув, отозвался мой друг детства.
Генка живёт с мамой. Не женат и не был.
– Помнишь воздушную тревогу? – спрашивает он.
– А то!
Мы восстанавливаем цепочку событий, смеясь и перебивая друг друга. Сергей Александрович, забредший ко мне в кабинет на перекур, так и уходит с сигаретой за ухом, что-то мурлыча и покачивая головой, не дождавшись, пока я прерву разговор.
А его не прервать, я сейчас далеко от клиники – в импровизированном бункере, где когда-то, тридцать лет назад, мы с Генкой пережидали артналёт.
В раннем детстве я боялась войны. Тогда ещё мир – не ограниченный посёлком, а включавший в себя и далёкий Майкоп, и Ленинград, откуда долетали самолёты, и столичные Фрунзе с Москвой, – был отделён от Мира железным занавесом. Отзвуки пока не существующей, но реальной войны (ее называли «холодной войной») долетали и до нашей Пристани, отродясь не принимавшей крупные морские суда и океанические лайнеры. Всем слышались эти отзвуки, и даже мы, дети, по ночам лёжа без сна в своих кроватках, прислушивались к ним.
Страх разряжается действием, поэтому нашей излюбленной дворовой игрой были «войнушки». Взрослые нас наказывали, если слышали это слово. «Война – это не “войнушки“, а трагедия, – сурово говорила мама. – Это не повод для шуток или игр. Страшнее войны ничего нет. Летом поедешь к бабушке – попроси её рассказать тебе о войне». Впрочем, бабушку и просить не надо было. Она всегда охотно рассказывала о войне. Словно какая-то её часть – живая, юная – навсегда осталась там. Я знала, что моя бабушка в шестнадцать лет убежала из дома на фронт и всю войну провоевала, вытаскивая из-под обстрела и перевязывая бойцов.
Я впитала, так и хочется сказать – «с молоком бабушки», веру в то, что война – это самое важное, самое великое событие в жизни человека.
Мне не досталось никакой войны. Чего не скажешь о Генке.
Наступит день, когда Генка вернётся со своей войны в качестве сопровождающего груза 200. Это повлияет на всю его дальнейшую жизнь.
Пройдёт ещё лет двадцать, прежде чем я об этом узнаю.
Однажды Виталик уехал в командировку. Я не пошла в садик: там объявили карантин из-за эпидемии свинки. Мы с мамой сидели за столом, и она пыталась накормить меня творогом со сметаной.
– Представь, что это мороженое, – твердила мама.
Она постоянно советовала мне что-либо представить. Когда мне делали уколы, мама говорила: «Представь, что ты в гестапо, и тебе нельзя выдать товарищей!»
Помню, как нам с Генкой на пару кололи уколы. Мы заболели воспалением лёгких, наевшись сосулек, а дорогостоящего антибиотика на каждую попку полагалось по половинке ампулы. Поэтому уколы приходилось делить пополам. Нас укладывали рядом поперёк процедурной кушетки и поочерёдно кололи. Генка орал так, что весь синел и выдувал носом большие прозрачные пузыри. Я же представляла, что уколы нам делают фашисты, и моя задача – не выдать товарищей. Как учила мама… Она потом рассказывала бабушке, что я, лёжа на кушетке, вслух читала стихи про юного партизана. Не помню этого, однако влияние на Генку я оказывала. К четвёртому уколу он лишь хныкал, но уже не орал. И косился на меня удивлённо: почему я, дура, не реву, когда имею на это полное право?
– Представь, что это пирожное, – устало повторяла мама.
«…А не утопленник», – обязательно добавил бы шутник Виталик, будь он рядом.
Я пыталась представить и не могла – и давилась, но ела.
Когда с творогом было покончено, и меня только-только выпустили из-за стола, по местному радио раздался чеканный, жёсткий женский голос. Он напомнил другой, всей стране известный голос, поющий: «Светит незнакомая звезда, // Снова мы оторваны от дома…» Под эту песню я всегда представляла строгую военную девушку, шагающую с вещмешком по дороге, мимо которой унылой лентой ползут пейзажи вроде нашей Свалки, и бодро поющую: «Надежда – мой компас земной»… Я не понимала, что такое «майкомпас земной», и мысленно поправляла певицу: «Майкоп мой земной».
– Граждане, внимание, внимание! – чётко произнесла дикторша. – Сегодня в шестнадцать часов ноль-ноль минут будет объявлена воздушная тревога. Просим вас не покидать своих домов, не выходить на улицу, отключить бытовые электроприборы, закрыть окна и двери…
Закрывайте окна, двери и все щели:
Красная Гитара подходит к городу!