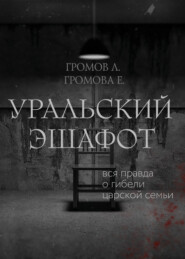скачать книгу бесплатно
Фото 16. Урочище Четыре брата
Из дополнительных показаний: «… Один был в матросской одежде, и я его хорошо узнала. Это был Верх-Исетский матрос Ваганов. Другой был в солдатской шинели и солдатской фуражке… Помню я, что ему было на вид побольше 20 лет, молодой, смугловатый, усики маленькие, бороды не было, лицо худощавое. Чей он такой, не знаю. Я его никогда не видела…»
Рис. 7
Жительница Екатеринбурга Анастасия Прокопьевна Суслопарова с мая 1918 года снимала дачу в деревни Коптяки у Фёдора Зворыгина: «… Отъехавши версты 3 от дер. Коптяков, около Большого покоса им попал навстречу…крестьянин… который ехал на лошади в телеге с двумя женщинами – женой и матерью – и был, видимо, перепуган. Он сообщил им, чтобы не ездить по этой дороге и что ему навстречу попали красноармейцы: едут к ним в деревню несколько телег и везут какой-то воз, причём один красноармеец грозил застрелить из револьвера его мать. Они вернулись обратно в деревню…»
2.5. День первый. На руднике
Кудрин (Медведев): «… За Верх-Исетском в нескольких верстах от деревни Коптяки машина остановилась на большой поляне, на которой чернели какие-то заросшие ямы…
…Затем стали по очереди переносить трупы к заброшенной шахте…»
Крестьяне деревни Коптяки – дознавателю Сретенскому: «… Недалеко от шахты, в разрезе виднелись две заброшенные носилки, сосновые, свежесрубленные, с затёсанными концами, чтобы удобнее было держать руками…»
Ермаков: «… трупы отнесли около 50 метров и спустили в шахту. Она не была глубокая, около 6 саженей, ибо все эти шахты я хорошо знаю…» Ермаков правильно, в отличие от Юровского называет глубину шахты.
Кудрин (Медведев): «… срывать с них одежду…» В простонародье нагота определялась просто – «в штанах» и «без штанов». Интересно, что ермаковцы в клубе (допрос Кухтенкова) упоминают именно первый вариант, а Сухоруков настаивает на втором. У Юровского они «совершенно голые». Это важное свидетельство в установлении истины, но об этом позднее…
Кудрин (Медведев): «… Ермаков выслал красноармейцев на дорогу, чтобы никого не пропускали из близлежащей деревни…»
Юровский, 1920 год: «… Кругом были расставлены верховые, чтобы отгонять всех проезжающих…»
Настасья Павловна Зыкова с сыном Николаем и его женой, выехав из Коптяков в 3 часа утра, добрались до рудника примерно в 04:00 (рис. 12). В это время к руднику были доставлены тела расстрелянных и Ермаков с Вагановым курсировали от переезда № 184 до первой свёртки к руднику со стороны Коптяков. На рисунке эта свёртка (поворот) имеет № 5, т. к. счёт идёт не от Коптяков, а от Верх-Исетска (рис. 8).
Рис. 8
Вернёмся к показаниям Кудрина (Медведева), как незаинтересованного свидетеля:
«… На верёвках спустили расстрелянных в ствол шахты – сначала Романовых, затем прислугу…» Запомним эту последовательность. В Алапаевске на следующую ночь с 17 на 18 июля 1918 года именно в таком же порядке первыми в шахту последовали Романовы, а затем слуги.
«… Уже выглянуло солнце, когда стали бросать в костёр окровавленную одежду…» Трупы спускали ещё в утренних сумерках, а сжигать одежду стали на восходе солнца. Около половины пятого (см. Приложение 6).
04:30. 17 июля 1918 года, открытая шахта № 7, Ганинский рудник.
При любой возможности будем сверять время и показания свидетелей.
«… Вдруг из одного из дамских лифчиков брызнул алмазный ручеёк. Затоптали костёр, стали выбирать драгоценности из золы и с земли…» Алмазный ручеёк на окровавленной одежде юных княжон, затаптывание костра ногой – это не только зрительные, но и физические воспоминания, думаю, в этой части повествования Кудрину (Медведеву) можно доверять:
«… Подъехал Юровский с Голощёкиным на легковой машине. Заглянули в шахту. Сначала хотели засыпать трупы песком, но затем Юровский сказал, что пусть утонут в воде на дне – всё равно никто не будет их искать здесь, так как это район заброшенных шахт, и стволов тут много…»
Ермаков: «… я сказал: мы их спустим в шахту, и так решили…велел всех раздеть, чтобы одежду сжечь, и так было сделано. Когда стали снимать с них платья, то у «самой» и дочерей были найдены медальоны, в которых вставлена голова Распутина. Дальше под платьями на теле были приспособлены лифчики двойные, подложена внутри материя вата и где были уложены драгоценные камни и прострочены… Это было штуками передано члену Уралсовета Юровскому. Что там было, я вообще не интересовался на месте, ибо было некогда. Одежду тут же сжёг…»
Последовательность не нарушена – сначала трупы спущены в шахту, потом начали сжигать одежду. Обращает на себя внимание разительное отличие в показаниях Ермакова и Юровского. Ермакову врезались в память не драгоценности, а образки на шеях жертв. «Комендант» оболгал ермаковцев:
«… у публики явно разгорелись глаза. Командир решил сейчас же распустить всю артель, оставив на охране нескольких верховых…» Это в 1920 году.
Юровский в 1934 году: «… Другую группу я отправил в город как бы за ненадобностью…» Попробуем определить, во сколько именно Юровский решил избавиться от лишних свидетелей.
Ермаков указывает точное время: «… Когда всё было окончено, то уже был рассвет, около 4 часов утра…»
Действительно, 17 июля 1918 года рассвет наступил в 04:35 (см. Приложение 1). Им хватило времени, чтобы в клубе Верх-Исетска оказаться в 6 часов утра.
6 часов утра 17 июля 1918 года Верх-Исетск
Из допроса Кухтенкова, работающего в Верх-Исетском партийном клубе: «… часа в 4 утра собрались Председатель В. Исетского Исполнительного Комитета Малышкин Сергей Павлович, военный комиссар Ермаков Пётр… их было 6 человек, и они о чём-то секретно разговаривали…»
Нам важно в этом свидетельстве время возвращения ермаковцев в Верх-Исетск. Время указано, видимо, «царское», по большевистскому времени было около 6 часов утра 17 июля 1918 года. За ненадобностью Юровский отправляет ермаковцев домой.
Юровский в 1922 году: «… Оставив работу и решив распустить всех, кроме некоторых, наиболее мне известных и надёжных… Оставив себе пять человек и трёх верховых, остальных отпустил…»
Ермаков в шесть часов утра уже находится в Верх-Исетском клубе. С ним уехал и Ваганов.
А в это время на Коптяковской дороге кипит жизнь.
17 июля 07:00 (05:00 по старому времени) поехали снова в город. На дороге встретили верхового, проехали спокойно, никто их не останавливал – дачница А.П. Суслопарова.
17 июля 07:30. Зыковы из Верх-Исетска ехали в Коптяки. Встретили только коптяковских крестьян Зубрицкого, Папина и Швейкина. Те им сказали, что их деревня окружена войсками. Они с мужем никаких красноармейцев не видели.
Это подтверждает крестьянин из деревни Коптяки Михаил Игнатьевич Бабинов:
«… Он как-то в тот самый день, когда Настасью Зыкову с сыном и снохой не пропустили в город, приехал к нам со своей женой Настасьей…»
17 июля 08:00 вышли из деревни Коптяки Зубрицкий, Папин, Швейкин, не дождавшись «войска», направились к руднику. На Большом покосе трое австрийцев косили траву. Дошли до Четырёх братьев, никого не встретили. Пошли обратно.
17 июля 09:00 с заимки Зубрицкого на Коптяковскую дорогу вышли его жена и дети. В стороне от Коптяковской дороги, в лесу на возвышенности на лошадях сидели два красноармейца, на земле лежало много красноармейцев.
Пока Юровский, стоя у шахты, рассуждает: «… всё равно никто не будет их искать здесь», – на дороге одновременно встречаются:
I
Зыковы из Коптяков с Суслопаровой, разворачивают её назад в деревню: «… к нам войско идёт».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: