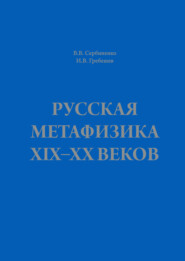скачать книгу бесплатно
Русская метафизика ХIХ–ХХ веков
Игорь Владимирович Гребешев
В. В. Сербиненко
В монографии рассматриваются основные направления и проблематика русской метафизики ХIХ–ХХ веков. Авторы считают, что метафизика в России – неотъемлемая часть отечественной культуры, интересное и исключительно важное явление в истории мировой философии. В первой половине ХIХ века мы наблюдаем существенный творческий интерес русских мыслителей к европейской метафизике и опыт определения собственных позиций в отношении к «последним» (метафизическим) вопросам смысла исторического бытия человека и человечества. Именно проблемы метафизики истории и культуры, философской антропологии становятся центральными уже в русском романтизме (прежде всего В.Ф. Одоевский), в творчестве П.Я. Чаадаева и славянофилов, в художественной философии классиков русской литературы. Особое внимание в монографии уделяется личности и творчеству В.С. Соловьева, метафизика всеединства которого во многом определила своеобразие новой метафизической «волны» в отечественной философской культуре уже в начале ХХ века. Русская метафизика ХХ века рождалась и творчески развивалась (в России, а затем и в культуре русского зарубежья) в эпоху «восстания масс», когда вместе со многими традиционными ценностями и идеалами отвергались и уходили в прошлое принципы великой метафизической традиции. Не только апология метафизики, но и поиск ее новых форм – все это стало ответом русских мыслителей на вызов времени, на вызов «современности». Этот метафизический опыт в разнообразии его позиций и поисков, безусловно, представляет интерес и в наше историческое время, когда восстание масс давно уже сменилось их перманентной революцией, а в качестве альтернативы метафизике массовому сознанию слишком часто предлагаются всего лишь идеологические схемы и мировоззренческие стереотипы. Авторы убеждены, что в данном контексте опыт русской метафизики ни в коей мере не устарел.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Вячеслав Владимирович Сербиненко, Игорь Владимирович Гребешев
Русская метафизика ХIХ–ХХ веков
© Сербиненко В.В., 2016
© Гребешев И.В., 2016
Русская идея: метафизика, идеология, история (вместо предисловия)
История идей не знает никакой строгой и тем более абсолютной границы, разделяющей метафизику и идеологию. Самые сложные метафизические системы нередко подвергались идеологической интерпретации. Так, например, гегелевская философия, несмотря на всю свою, казалось бы, принципиальную непереводимость на упрощенный язык идеологии, тем не менее с легкостью необычайной воспринималась многими радикалами и консерваторами (на Западе и в России) как основание собственных идеологических увлечений. Необходимо подчеркнуть, что в данном случае термины «философия» и «метафизика» используются как синонимические. Только в XIX веке в русле позитивизма, а затем марксизма термин «метафизика» приобрел негативный смысл, будучи противопоставленным в первом случае «научной», а во втором – «диалектической» философии. Но историк философии, даже если он разделяет подобные оценки, не может игнорировать тот факт, что со времен Андроника Родосского (I в. до н. э.) традиционным вторым именем философии была метафизика. Идеологические метаморфозы, которые уже в ХХ столетии произошли со многими философскими учениями (ницшеанством, марксизмом и др.), казалось бы, однозначно свидетельствуют о том, что никаких гарантий от идеологизации философия-метафизика не имеет.
И такого рода гарантий действительно нет: в качестве идеологических символов могут использоваться, в принципе, любые явления культуры, а отнюдь не только философские идеи. Примеров того, как произведения искусства (не обязательно словесного) начинают жить в идеологическом пространстве, можно привести сколько угодно. Однако так же как подлинное искусство никак не может раствориться в идеологии и утратить собственную сущность, так и настоящая метафизика принципиально не сводима к своему идеологическому «отражению». Последнее всегда есть искажение оригинала, его упрощенная схематизация. И это как раз тот случай, когда «простота хуже всякого воровства». Гегелевская «Феноменология духа», переведенная на язык идеологии, – это уже совершенно иной «текст». Философские учения Платона, Гегеля, Ницше, какие бы идеологические эксперименты над ними ни проводились, в своем собственно метафизическом содержании остаются там, где им и положено быть по статусу, – в «вечном» мире платонических идей. Даже марксизм, изначальная идеологическая ориентированность которого вряд ли может вызывать сомнение, не исчерпывает себя, скажем, в идеологии марксизма-ленинизма советского (или любого иного) образца. Так, например, содержащаяся в нем фундаментальная, едва ли не онтологическая критика любых форм идеологии, несмотря на все усилия, поддается идеологическому «переводу» лишь ценой явной и неизбежной вульгаризации.
Само понятие «русская идея» и соответствующие его трактовки возникают и формируются в XIX веке в России именно в русле русской, преимущественно религиозной метафизики. Метафизический уровень понимания «русской идеи», который мы находим в творчестве ряда крупных русских мыслителей XIX, а затем и XX века, было бы неоправданно смешивать с различными попытками выработки национальной идеологии. Идеология всегда функциональна, и в этой функциональности заключается весь смысл ее существования. Если она оказывается мертворожденной или перестает играть активную общественную роль, то смысл этот утрачивается, и те или иные идеологемы уходят в Лету и могут представлять исключительно исторический интерес. Их возвращение из небытия, естественно, в новых формах вполне возможно, но и в этом случае новая жизнь старой идеологии полностью исчерпывается и определяется степенью ее общественного влияния. Философские размышления о судьбах России, которые занимают столь существенное место в русской философии XIX века, значительного и тем более решающего влияния на общественные процессы в стране не оказали. И произошло это не вследствие их некой слабости, ущербности, отвлеченности от «реальной жизни» (стандартный набор инвектив здравого смысла в адрес «абстрактной» метафизики), а прежде всего именно потому, что они имели действительно философский характер. Философия всегда есть дело личного разума. Эти слова принадлежат Вл. Соловьеву, но нечто подобное утверждали многие метафизики от Платона до Канта. Последний признавал «священным долгом» философа последовательность и, соответственно, ответственность его мышления. «Личный разум» философа полностью отвечает за результаты своего поиска истины, которые сами также обращены к другому «личному разуму», столь же критическому. Метафизические идеи рассчитаны на понимание (которое без философской критики невозможно), а не на влияние, тем более массовое. Метафизика отличается от идеологии вовсе не своей элитарностью, герметизмом или даже эзотеризмом. Сократовский дух европейской и, безусловно, русской философии («русский Сократ» Г.С. Сковорода; всегда готовый к «сократическим» спорам А.С. Хомяков и мн. др.) глубоко демократичен, и она фактически обращена к каждому способному и желающему мыслить. Эзотерическо-оккультные же искания, в сущности, антифилософичны. Нет ничего парадоксального, например, в том, что философ-мистик Вл. Соловьев утверждал, имея в виду как раз оккультные доктрины, что никакая серьезная философия не может основываться на «тайне». Оккультизм (в широком смысле) и в прошлом, и поныне – это вполне определенный тип идеологии, достаточно успешно воздействующий как на узкий круг «посвященных», так и на массы простых адептов.
Все сказанное – это отнюдь не критика идеологии как таковой и не «похвала» философии. И в той, и в другой сфере есть свои взлеты и свои нередко глубочайшие падения. Речь идет о том, что, как бы порой причудливо ни пересекались в истории эти две области духовной жизни, они остаются по сути чуждыми друг другу, отвечая принципиально различным потребностям человеческого духа. К идеологии просто невозможно предъявлять те же критерии, что к метафизике: от нее нельзя требовать последовательности и в этом смысле непротиворечивости, поскольку ее целью является совсем не истина. Известный тезис о том, что «всесильность» учения доказывает его «верность» по отношению к идеологической доктрине, совершенно точно характеризует ситуацию: бессильная в социальном плане идеология никому не нужна и, следовательно, не верна. Те, кого интересует истина факта или истина умозрения, обратятся соответственно к науке или к философии, но в любом случае не к идеологии. Эффективность влияния – это основной критерий оценки идеологического учения. Можно, конечно, с достаточным основанием рассуждать о «плохих» и «хороших» идеологиях, об «истинных» элементах в их содержании и пр., но в конечном счете все определяет именно критерий эффективности. Во-первых, потому, что, как известно, даже самыми благими намерениями может быть вымощена дорога в исторический ад (о метафизическом в данном случае упоминать было бы неуместно). Во-вторых, и это главное, любую «идеальную» «гуманную» идеологию, если она оказывается социально неэффективной, ждет скорое и неизбежное забвение.
Метафизика «русской идеи», как бы ее ни оценивать, в любом случае уже является реальной частью духовной культуры России XIX века. Идеология же «русской идеи» – это не прекращающийся и по сей день и также уходящий корнями прежде всего в XIX столетие процесс возникновения, формирования и проверки на эффективность (историей, разумеется) самых разнообразных идеологий, ориентированных на «объяснение» смысла исторического бытия страны, государства, нации. Обращаясь к имеющемуся опыту философии российской истории, мы тем самым отнюдь не уходим в некий изолированный («абстрактный») мир идей, никак не соотносящийся с миром российской идеологии прошлого и позапрошлого столетий, с его «бурей и натиском» различных идейных течений, претендовавших на доминирующую роль в общественном сознании. Напротив, метафизика «русской идеи» может дать ключ к пониманию причин, определивших исключительный драматизм и принципиальную незавершенность процесса становления единой идеологической системы ценностей Российской империи.
Символично, что само понятие «русская идея» было введено в литературный оборот Ф.М. Достоевским. Трудно переоценить значение творчества писателя и его воззрений для последующей русской метафизики[1 - Мы имеем в виду безусловный факт огромного интереса к творчеству Достоевского русских мыслителей («религиозных философов», «метафизиков»), что нашло непосредственное и глубокое выражение в их собственном творчестве. Связь художественной философии писателя и последующей русской религиозной философии настолько значительна в культурном отношении, что, будучи чуждым миру идей русской метафизики, крайне сложно действительно понимать и любить творчество Достоевского. Поэтому, в частности, известная ленинская оценка «архискверный Достоевский» (в письме И. Арманд) – это, конечно, не более чем идеологическая «обзывалка», но в то же время и вполне искреннее признание полнейшей чуждости и непонятности смысла духовных исканий писателя и тех, кто решился продолжить избранный им путь (в четко идеологической редакции В.И. Ленина: стал на «дорогу к поповщине»).]. Достоевский заговорил о «русской идее» в тот момент, когда, не удовлетворенный опытом не только западничества, но и славянофильства, он стремился определить принципы нового общественного идеала – «почвенничества». Символично также и то, что с самого начала смысл «русской идеи» понимался Достоевским не идеологически. Речь не шла об определенном типе национальной идеологии, так или иначе противостоящей другим национальным идеологиям и позволяющей России успешно решать конкретные исторические задачи: внутренние и внешние. Впервые употребив выражение «русская идея» в начале 60-х годов, Достоевский исходил из собственной метафизической интуиции универсализма отечественной культуры и национального характера, которой он останется верен до конца: и тогда, когда в своей знаменитой Пушкинской речи будет призывать к «всечеловеческому братству», и когда в последних статьях «Дневника писателя» заговорит о «русском социализме». Вот каким было первое определение «русской идеи», данное Достоевским в объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год: «Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых»[2 - Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1978. Т. 15. С. 115.].
Обращает на себя внимание предположительная интонация: Достоевский «знает», что путь национального отчуждения («китайские стены») ведет в тупик, но он лишь «предугадывает» («может быть») вероятные положительные возможности русской и российской «всечеловечности». Подобная «предположительность» совершенно неприемлема для идеологического языка: здесь все должно быть ясно и категорично (стилистически, конечно). Но в метафизических размышлениях гипотетичность более чем уместна: мыслитель обязан быть предельно осторожен, когда соотносит свои метафизические умозрения и интуиции с вполне конкретными историческими обстоятельствами и перспективами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, например, Платон в своей известной характеристике подлинной философичности использует именно предположительную интонацию: «Постоянство, верность и искренность – вот что я называю подлинной философией, другие же качества, относящиеся к другим вещам, такие как хитрость и изворотливость, кажется мне, я определю правильно, если дам им имя неискренней изощренности»[3 - Платон. Соч. в 3 т. М., 1972. Т. 3. Ч. 2. С. 561.].
Уверенность же Достоевского в конечной пагубности центробежных сил, дробящих человечество, вполне объяснима: как христианский мыслитель, он исходил из универсализма христианства, не допускающего приоритета и тем более торжества какой-то одной национальной идеи и в то же время не признающего факт отчуждения различных народов и традиций в качестве окончательного и неизбежного исторического итога. Однако если доминирование какой-либо одной нации, претендующей на роль «богоизбранного народа», с христианской точки зрения принципиально недопустимо, то из этого еще не следует, что тот или иной народ не может внести свой, особый вклад в «дело Христово», сыграть важную, а возможно, и решающую роль в реальном утверждении в истории идеала «всечеловечности». В русской религиозно-философской мысли исключительно остро была поставлена именно эта проблема. Представляется оправданным следующее утверждение: если иметь в виду метафизический уровень спора российских славянофилов и западников – а наличие метафизических позиций в основе данной полемики отрицать крайне сложно, – то решающую роль в нем играл отнюдь не вопрос о конкретных исторических судьбах России и Запада и об отношениях между ними. Славянофилы и западники (по крайней мере, религиозные западники в лице П.Я. Чаадаева) спорили о реальности христианского пути в истории, о том, в какой мере европейские народы и Россия следуют этим путем и возможен ли он вообще. Для Достоевского опыт «уподобления» Христу в истории был столь же оправдан, как и для каждого христианина в личной жизни, но этот опыт исключал какой-либо гегемонизм, претензию на роль высшего судьи и распорядителя (с такой позицией во многом было связано отрицательное отношение писателя к католической идее). Более того, так же как частный успех индивида никак не может служить гарантией его «успехов» на христианском «узком пути», ведущем к спасению, так и могущество, достигнутое народами и государствами на историческом поприще, само по себе ни о какой богоизбранности не свидетельствует.
Исторические «плюсы» легко оборачиваются религиозными и метафизическими «минусами». В конечном счете, по Достоевскому, путь власти и земного могущества – это путь Великого Инквизитора. Знаком же того, что народ сохранил в себе «образ Христа», могут служить трагические испытания, выпавшие на его долю в истории, терпение, с которым он их переносит, не покидающее его чувство собственного несовершенства и греховности, нежелание признать в качестве последней истины обстоятельств и законов «мира сего». Через всю историю русской мысли и литературы проходит образ России – страдающей, претерпевающей все новые и новые удары судьбы, сгорающей в исторических бурях, но вновь возрождающейся, подобно языческому Фениксу, и чающей истинного воскресения. Какая бы историческая и духовная дистанция ни разделяла древнерусский идеал «святой Руси» и образ России, «распятой» в революциях и войнах ХХ столетия, нельзя вместе с тем не видеть и то, что они образуют единую постоянную тему отечественной культурной традиции. В данном случае есть основания говорить даже об общей ее парадигме.
Однако диапазон идей в пределах этой парадигмы был весьма широк: от тотального антиисторизма, радикального мироотрицания, неприятия исторических форм государственной и социальной организации (в том числе и церковной), культурного творчества до признания священной миссии русского государства в мировом масштабе (идея «Москвы – третьего Рима») и сокрализации монархической власти как единственно истинной и высшей формы не только политического, но и общественного бытия. Первую тенденцию мы обнаруживаем в сфере религиозного сознания: в русском расколе, в сектантских движениях. И, конечно, подобные настроения имели место не только за пределами церковных стен, но и в жизни самой Русской Православной Церкви. Продолжение этого русского спора с историей, причем в предельно радикальных формах, можно видеть в идеях позднего Л.Н. Толстого, а затем уже в нашем столетии у Н.А. Бердяева и, безусловно, не только у них.
Второй тип русского мессианизма также имеет свою историю, и именно с ним в первую очередь были связаны попытки создания единой национальной идеологии в период Московского царства (прежде всего И. Волоцкий), а потом Российской империи. И тем не менее это были только два крайних полюса в восприятии «русской идеи» (противоположности, как известно, сходятся, и нередко оба эти типа действительно совпадали, приобретая причудливые, подчас даже гротескные формы).
В истории русской мысли скорее преобладало стремление избежать выбора между образом России и русского народа, остающихся, подобно легендарному граду Китежу, вне истории и спасающихся от мира в мистическом опыте и нравственных исканиях, и Россией, наследницей Рима и Византии, видящей свое историческое предназначение в безграничном усилении государственной мощи. Перед русской религиозной и философской мыслью XIX, а затем и XX века стояла в данном случае дилемма далеко не только российского значения: каким образом, не отрекаясь от мира и истории, сохранить верность идеалам христианства и не поддаться естественному ходу вещей, не стать бесповоротно на проторенную историческую дорогу борьбы за собственные национальные и государственные интересы. Возможен ли вообще в истории христианский путь, или его единственным и подлинным символом являются лишь скит отшельника и келья монаха?
В поисках ответа на этот постоянный и, можно сказать, мучительный для христианской мысли вопрос русским мыслителям не всегда удавалось избежать соблазна утопизма. Но сводить результаты их духовных исканий к утопизму или тем более к религиозному национализму было бы, на наш взгляд, совершенно неверно. Один только Достоевский сказал едва ли не всю правду о сути утопизма, о том, что реально несут с собой человечеству разнообразные формы утопической идеологии. А традиция критики утопизма, существующая в русской религиозной философии, идеями Достоевского далеко не исчерпывается[4 - Отметим в этой связи прежде всего две работы: Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма (См.: Вопросы философии № 10. 1990); Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991.]. Понимание же Достоевским смысла «русской идеи» совершенно определенно было направлено именно против националистической идеологии. Христианский мессианизм означал для писателя возможность единства в решении двух исторических задач: определения народом своего места в истории, полного выражения в культуре и во всех сферах жизни собственного национального своеобразия и одновременно радикального преодоления национальной замкнутости, творческого восприятия иных духовных традиций, опыта исторического творчества других народов. Достоевский верил, что Россия, если она изберет этот, по его убеждению, истинно христианский путь, может не только успешно выразить свою самобытность, сохраняя верность исторической «почве» («народному духу и народным началам»), но и показать человечеству реальную возможность выхода из порочного исторического круга отчуждения и вражды. В своей знаменитой Пушкинской речи писатель говорил именно об этом. И, как мы знаем, его главным аргументом стало творчество Пушкина.
Аргумент этот, надо сказать, носил совершенно метафизический характер. С точки зрения здравого смысла и философских направлений, ориентированных на науку и тот же здравый смысл, достаточно абсурдной выглядит попытка представить творчество одного, пусть даже и великого поэта как выражение сути исторического бытия народа. На основании каких критериев последовательный эмпирик может предпочесть творчество Пушкина, Шекспира или Тагора всем прочим проявлениям исторической жизни нации? Для него творчество художника – это, возможно, и значительный исторический факт, но именно факт, один из многих в бесконечной череде исторических событий. Только метафизика допускает возможность взглянуть на событие с «точки зрения вечности» и сделать выбор. В русле метафизической традиции, идущей от Платона и последующего, уже христианского платонизма, выбор Достоевского отнюдь не кажется абсурдным. В мире платоновских вечных идей-парадигм свое место могут занимать и идеи народов, заключающие в себе абсолютный смысл национального бытия. Искать же этот смысл вполне оправданно прежде всего в духовной жизни народа и далеко не в последнюю очередь в творчестве художественных гениев нации. Именно этот путь и избрал Достоевский, признавший творчество Пушкина символом «русской идеи». Писатель говорил о «черте художественного гения» Пушкина как «способности всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного…». «Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности… – утверждал Достоевский. – Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению… русская душа… гений народа русского, может быть, наиболее способны из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия»[5 - Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 26. С. 136.].
Легко, конечно, увидеть в этих словах писателя лишь похвалу любимому поэту и собственному народу. Можно даже счесть их проявлением национальной гордыни. Бесконечно число восхвалений достоинств собственной нации, произнесенных в разные времена. И можно не сомневаться, что ряд этот будет продолжен. Достоевский действительно на пушкинском юбилее говорил о тех чертах своего народа, которые считал лучшими. Думается, что писатель, который, как возможно никто другой в русской литературе, сумел с предельным реализмом рассказать о самых мрачных сторонах российской жизни и национального характера, имел моральное право высказаться и о том, что считал светлым и положительным. Но дело даже не в этом. Достоевский, призывая Россию быть верной пушкинскому гению, формулировал идеал, который, по его убеждению, был нужен не только его стране и народу, но и всему человечеству. Он не звал Россию покорять другие народы (хотя бы и под знаком креста), порабощать их души идеологической и культурной экспансией. По сути, он говорил об огромной морально-исторической ответственности России перед собой и человечеством. Речь шла о даре понимания иного образа жизни, иных типов миросозерцания, который, верил Достоевский, есть у народа России, но который для своей реализации в истории требует колоссальных нравственных усилий. Но эти усилия необходимы, потому что человечество должно иметь выбор и не может смириться с неизбежностью национального отчуждения, с действующим и в каждом народе, и в межнациональных отношениях правилом «человек человеку волк». Достоевский отвергал путь революционного социализма, считая, что тот неотвратимо ведет лишь к «коммунистическому муравейнику», и когда в конце жизни он писал о «русском социализме», то имел в виду все ту же идею «всечеловеческого братства».
Общеизвестно критическое отношение писателя к цивилизационному прогрессу западного типа. Но выступал он не против европейских достижений в сфере культуры и цивилизации, а против исторической безальтернативности, утверждаемой идеологией европоцентризма, представляющей западный путь в качестве магистрального направления развития человечества, а все иные культурные традиции, по сути, как периферийные и едва ли не маргинальные. Не случайно в своих последних работах Достоевский размышлял о евразийской природе России, писал о том, что ее путь «лежит в Азию» и что пора покончить с «лакейской боязнью» прослыть в Европе «азиатами» и признать, что особенности национального характера и культуры в существенной мере связаны с духовным опытом народов азиатского континента. Эти мысли позднего Достоевского близки идеалам возникшего уже в XX веке евразийского движения. Хотя, конечно, было бы не вполне корректно видеть в писателе предтечу евразийства. Последнее в значительной степени явилось попыткой создания нового типа национальной идеологии, ориентированной на конкретный опыт революции 1917 года и послереволюционную ситуацию в России. Достоевский же в своих размышлениях об универсализме русской духовной традиции прежде всего отвечал на вопрос о смысле истории, и далеко не только российской. «Русская идея» у Достоевского – это метафизический принцип национального бытия России, но это и универсальный идеал национального бытия вообще. Идея «всечеловечности» может считаться русской только в той мере, в какой Россия сможет способствовать ее реализации в истории.
Метафизические идеи Достоевского серьезного идеологического влияния на российское общественное сознание не оказали. В этом нет ничего удивительного. Как известно, Пушкинская речь писателя была встречена с немалым энтузиазмом, но уже очень скоро наступило охлаждение. Как российские западники-либералы, так и представители консервативного лагеря осознали, что идеалы Достоевского слишком далеки от их собственных идеологических убеждений. Тем не менее традиция метафизического понимания «русской идеи» вскоре получила продолжение. Именно принципиальная неидеологичность позиции Достоевского была воспринята его младшим другом, религиозным философом Вл. Соловьевым.
Подход Соловьева к «национальному вопросу» уже изначально был, безусловно, метафизическим. «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности», – утверждал философ в докладе «Русская идея»[6 - Соловьев В.С. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 220.]. Эта формула Соловьева с классической ясностью фиксирует основные возможности и проблемы метафизики национального бытия. Он всегда считал, что не только личность и человечество в целом, но также и народ, нация имеют определенную метафизическую судьбу. Как и Достоевский, Соловьев апеллировал к христианскому универсализму, полагая, что тот несовместим и с национализмом – идеологией национального эгоизма, противоречащей принципу метафизического единства человечества, и с космополитическим глобализмом – идеологически принижающим историческое (и тем более метафизическое) значение национального своеобразия. Сам же тезис Соловьева «идея нации есть не то, что она думает о себе во времени» был направлен прежде всего против идеологии национальной исключительности.
Как и Достоевский, философ считал, что реальная политика современных государств, называющих себя христианскими, ни в коей мере не является христианской. Он утверждал, что те, кто призывает Россию руководствоваться исключительно национальными и государственными интересами, склоняют ее на путь подражания худшим сторонам европейской идеологии и политики. Национальное, патриотическое чувство, по убеждению Соловьева, несет в себе правду, которая может быть искажена в национализме и отрицается космополитической идеологией. Смысл «русской идеи» Соловьев, так же как и Достоевский, видел в таком «вселенском» служении, считая, что русская история и особенности национального характера свидетельствуют о том, что Россия должна сделать именно этот исторический выбор. Основной идеал народа – это идеал святой Руси, утверждал философ, а «святая Русь требует святого дела». Однако, в отличие от Достоевского, Соловьев полагал, что Россия должна первой сделать шаг к духовному примирению с Западом, прежде всего с католическим миром. В 80-е годы, мечтая о восстановлении единства христианского мира, он видел в этом возможность окончательного преодоления национального эгоизма. В борьбе за осуществление своего идеала Вл. Соловьев испытал немало разочарований. Не избежал он и утопизма: уже в конце жизни ему пришлось отказаться от своей идеи «свободной теократии» как нереальной и во многом утопической.
Метафизические идеи Вл. Соловьева не были восприняты в российском обществе, никаких серьезных идеологических функций они выполнить не смогли (и не могли, конечно). Философ в буквальном смысле оказался между «двух враждебных станов». В официальных сферах и кругах консерваторов-традиционалистов его призыв к примирению и отказу от национального эгоизма был оценен как антипатриотический и противоречащий национально-государственным интересам России. Либеральной же и радикальной российской интеллигенции соловьевская метафизика «русской идеи» также оказалась совершенно чужда.
Казалось бы, есть все основания счесть идеи Достоевского и Соловьева пусть даже и высокогуманными, но тем не менее нереалистичными и, следовательно, утопическими. Ведь они никак не изменили ни политико-идеологическую ситуацию в России, ни положение дел в мировой политике, где практика «международного людоедства» (выражение Соловьева) продолжала торжествовать и неотвратимо вела человечество к новым всемирным военным конфликтам уже ХХ столетия. Однако дело в том, что русские мыслители не были ни идеологами, рассчитывавшими (в данном случае получается – наивно) на то, что их призывы мгновенно найдут отклик в умах и сердцах миллионов, ни проповедниками отвлеченного гуманизма, напоминающими человечеству о том, насколько добро и миролюбие лучше отчуждения и вражды. «Христианская политика» у Достоевского и Соловьева – это не абстрактный идеал, который должен отменить все многообразие исторической жизни, невозможной без противоречий, борьбы интересов, и не в последнюю очередь интересов национальных. Оба мыслителя не призывали к антиисторизму и прекрасно осознавали, насколько сложен и труден путь приближения реальности к идеалу, какие соблазны встречаются на этом пути. Но они были убеждены, что без такого стремления человечество утрачивает смысл своего существования и оказывается в историческом тупике. Собственно говоря, Соловьев и Достоевский ставили перед Россией и Западом один, безусловно, метафизический, но при этом вполне конкретный вопрос: могут ли народы и государства, присягающие на верность нравственным и религиозным идеалам, не только совершенно пренебрегать ими в своих исторических действиях, но и оправдывать политику «международного людоедства» с помощью националистической идеологии, абсолютно несовместимой с провозглашаемыми гуманистическими принципами? Можно сказать, что это был и вопрос о лицемерии и даже антигуманности существовавших типов идеологии. И вправе ли мы сегодня уже в веке XXI признать смысл поставленной ими проблемы отвлеченным и утопическим? Представляется, что ни о каком утопизме в данном случае не может идти речь. Тем более если учесть, что Достоевский и Соловьев говорили не о каких-то скачках в «прекрасный новый мир», а о возможности и необходимости усилий для постепенного преодоления многоликого национализма, об опасности которого кровавый опыт ХХ века свидетельствует совершенно однозначно. Надо учитывать и то, что, видя во «всечеловечности» смысл «русской идеи», оба мыслителя отнюдь не имели в виду идеологический синкретизм, отказ от национальной самобытности и своеобразия культурного выбора народов. Напротив, в такого рода тотальном глобализме цивилизационного прогресса они были склонны видеть серьезную опасность, а отнюдь не движение к идеалу «всечеловечности». Последний же предполагал прежде всего способность понимания и уважения иного культурного опыта, иных духовных традиций; способность, говоря словами Достоевского, «всемирной отзывчивости», «трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия».
«Русская идея», как ее понимали Достоевский, Соловьев и, заметим, многие другие русские мыслители, не стала основой национальной идеологии. Но не потому, что была слишком абстрактной, далекой от реальной жизни. Метафизические идеи обладают собственной ценностью, независимой от степени их идеологического влияния. Добро остается добром, а истина истиной даже тогда, когда, казалось бы, все происходит не по истине и не по добру. Так, во всяком случае, обстоит дело с точки зрения опыта мировой метафизической традиции. Не стоит им пренебрегать во имя идеологических фантомов «современности», «прогресса», «светлого будущего» и пр.
Проблема необходимости духовного единства российского общества – это постоянная и важная тема русской философии XIX–XX веков. Отечественные мыслители думали и писали о том, какие роковые последствия для национального самосознания имел церковный раскол XVII века; о том, что в послепетровской России возник разрыв между европеизированным высшим классом общества и народом, живущим, как утверждал Достоевский, «своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отдаляясь от Петербурга», от достаточно тонкого слоя петербургской культуры. Уже в XX веке Г. Федотов скажет об этом с еще большей определенностью: «Россия с Петра перестала быть понятна русскому пароду»[7 - Федотов Г.П. И есть и будет. Париж. 1932. С. 9.]. Многим было ясно и то, что для многонациональной и отнюдь не монорелигиозной России путь формирования единой идеологии националистического типа в сочетании с распространяющимся на все сферы общественной жизни диктатом государства совершенно неприемлем и чреват в будущем социальным взрывом. Об этом думали и предупреждали как раз те, кто не желал своей родине великих потрясений. «Существующие основы государственного строя России мы принимаем как факт неизменный, – писал Вл. Соловьев. – Но при всяком политическом строе, при республике, при монархии и при самодержавии государство может и должно удовлетворять внутри своих пределов… требованиям национальной, гражданской и религиозной свободы. Это дело не политических соображений, а народной и государственной совести»[8 - Соловьев В.С. Соч. Т. 2. С. 211.].
Предпринимавшиеся уже в XIX веке попытки власти сформировать и внедрить единую идеологическую систему трудно оценить иначе как серию неудач. Знаменитая уваровская формула «православие, самодержавие, народность» в значительной степени осталась идеологическим лозунгом, санкционировавшим официозный идеологический контроль, но так и не ставшим основой системы ценностей, способной объединить различные слои российского общества. Сергей Семенович Уваров, президент Академии наук и министр народного просвещения, был человеком европейского образования и воспитания (о его литературных способностях высоко отзывался Гете). Он ничем не напоминает консерватора-традиционалиста и тем более националиста. «Умом вселенский гражданин» – так писал о нем поэт К.Н. Батюшков. Типичный представитель петербургской элиты, прошедший дипломатическую школу, Уваров в своем идеологическом опыте желал России такой же национально ориентированной идеологии, какая была у других европейских государств, то есть, говоря словами Вл. Соловьева, идеологии «национального эгоизма». По сути, именно в исключительном подчинении национально-государственным интересам Уваров видел смысл последнего элемента собственной идеологической триады – народности. «Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия, – утверждал он. – Оно само по себе, а мы сами по себе. Оно и не заслуживает нашего участия, потому что мы без него устроили наше государство, без него страдали и возвеличивались, а оно всегда пребывало в зависимости от других, не умело ничего создать и теперь окончило свое историческое существование»[9 - См.: Никитенко А.В. Записки и дневники. СПб., 1868. Т. 1. С. 403.].
Попытка «прививки» национальной идеологии сверху оказалась неудачной. Проблема духовного единства российского общества так и не была решена, и, когда в начале XX века Россия вступила в полосу внутренних и мировых потрясений, идеологическое противостояние и отчуждение в обществе сыграли в ее судьбе роковую роль. История трагическим образом подтвердила правоту русских мыслителей, утверждавших, что идеологизированный национализм не имеет перспектив на российской почве и не может стать подлинной основой национального единства. В октябре 1917 года большевики пришли к власти под знаменами интернационализма. И какой бы ни была реальная национальная политика режима на протяжении десятилетий, он был просто не в состоянии отказаться от интернационализма как основополагающего принципа собственной идеологии. Нет ничего удивительного в том, что в постсоветский период немалой популярностью пользуется представление, что единственный путь к «обустройству» России лежит через жесткий авторитаризм, который, естественно, не может не предполагать возвращения к практике идеологического диктата, к идеократии. Такой взгляд многим кажется реалистическим и трезвым. Однако в действительности – это миф, еще одна бесперспективная утопия. Давно замечено: то, что однажды оказалось исторической трагедией, при повторении может обернуться фарсом. Новый опыт диктатуры в Р оссии, под какими бы идеологическими лозунгами – «левыми» или «правыми» – он ни осуществлялся, станет именно фарсом, хотя и, безусловно, трагическим для страны и народа. Не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что у новых экспериментаторов не будет и тех нескольких десятилетий, которые история отвела коммунистическому режиму. Народы России выстрадали сложную (а не механически-примитивную) организацию государственной и социальной жизни, систему духовных ценностей, позволяющую добиться подлинного единства в многообразии культурно-национального бытия. Решение подобных задач, конечно, не может быть ни легким, ни простым. Хотя бы потому, что идти неизбежно придется во многом своим путем, поскольку никакое механическое копирование и повторение чужого опыта в истории просто невозможно. Но, думается, что именно этот, казалось бы, самый трудный выбор является действительно реалистическим. Отечественные мыслители, развивавшие своеобразную метафизику «русской идеи», считали, что национальное единство невозможно без глубочайшего понимания и уважения иных традиций, иного духовного опыта. Они верили, что Россия может добиться успеха на этом пути, и, как нам представляется, были правы.
* * *
Темой России и ее исторической судьбы содержание русской метафизики, безусловно, не исчерпывается. Отечественные мыслители ставили и решали классические и уже неклассические философские проблемы, все без исключения были участниками постоянного для мировой философии диалога о «последних вопросах» бытия мира и человека, мнимых и подлинных путях познания, смысле культурного и социального опыта человечества. Русская метафизика ХIХ–ХХ веков – это своеобразный, а во многом и уникальный мир идей и концептов, неразрывно связанный с жизнью отечественной и, конечно, мировой культуры. С продолжающейся жизнью, с жизнью, которая не терпит механического дробления на «прошлое» и «современность» и даже его не замечает. Собственно, авторы настоящей книги и предлагают читателю познакомиться с опытом русской метафизики в его открытости реальности, изменяющейся и вечной, противоречивой и удивительно постоянной. Избегая соблазна «объять необъятное», мы стремились в то же время вести речь о существенном и, что, на наш взгляд, не менее важно, интересном в этом опыте. О достигнутом же (или недостигнутом) понимании судить уже не нам.
I. Метафизическая проблематика в русской культуре ХIХ века
В XVIII столетии светская философия в России делает свои первые шаги. Для нее это, безусловно, период становления и школы. Образованное общество преисполнено уважения к философскому знанию, к общественной роли философии. «Наша эпоха удостоена названия философской, – говорил президент Российской академии наук С.Г. Домашнев в 1777 году, – потому что философский дух стал духом времени, священным началом законов и нравов». Энтузиазм в восприятии новых философских идей был так велик, что нередко приводил к идеологической увлеченности, имеющей мало общего с подлинно философским поиском истины, всегда связанным с традицией, но в то же время самостоятельным и свободным. В целом, успешно преодолевая такого рода «идеологизацию» и неизбежно с ней связанные черты эклектики и эпигонства, русские философы уже в XVIII веке добиваются весьма существенного прогресса.
Первые десятилетия XIX века в России характеризуются столь же широким и глубоким интересом к европейской философии. В центре внимания теперь уже крупнейшие представители немецкой классической философии Кант, Гегель и Шеллинг. В 1823 году в Москве возникает философский кружок «Общество любомудров», созданный очень молодыми людьми (председателю – князю В.Ф. Одоевскому было 20 лет, секретарю Д.В. Веневитинову – 18, будущему славянофилу И.В. Киреевскому – 17). Кружок просуществовал немногим более двух лет. Тем не менее событие это знаменательное: среди участников «Общества любомудров» оказались те, кто впоследствии играл очень существенную роль в общественной и культурной жизни России (в кружок также входили С.П. Шевырев, М.П. Погодин и др.).
Один из «любомудров», известный славянофил А.И. Кошелев, позднее так описывал духовную атмосферу в кружке: «Тут господствовала немецкая философия, то есть Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др.… Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед. Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, философов. Мы особенно высоко ценили Спинозу и считали его творения много выше Евангелия и других священных писаний. Председательствовал кн. Одоевский, а говорил всего более Д. Веневитинов и своими речами часто приводил нас в восторг». В такой атмосфере восторженности, экзальтированности, но и, несомненно, сильного духовного подъема происходило рождение русского романтизма.
Философия играла весьма существенную роль в этом процессе. «Философия есть истинная поэзия, а истинные поэты были всегда глубокими мыслителями, были философами», – провозглашал гениальный юноша Д. Веневитинов (он умер всего 22 лет от роду), выражая символ веры не только участников «Общества любомудров». В.Ф. Одоевский писал в «Русских ночах»: «Моя юность протекала в ту эпоху, когда метафизика была такой же общей атмосферой, как ныне политические науки».
1.1. Шеллингианство и русский философский романтизм
Если говорить о философских истоках российского романтизма, то в первую очередь следует назвать имя Ф.В. Шеллинга. «Не Канту, не Фихте, а именно Шеллингу суждено было стать властителем русских душ философских и вплоть до конца века значительным образом влиять на развитие русского философствования. Шеллинг значил для России больше, чем для Германии… Русское шеллингианство – философское направление, не повторявшее Шеллинга, а интерпретировавшее его»[10 - Гулыга А.В. Шеллинг. М., 1984. С. 289.].
Первым известным русским шеллингианцем был Данило Михайлович Велланский (1774–1847), медик по образованию. Ему довелось во время обучения в Германии слушать лекции молодого Шеллинга. Возвратившись в Россию и приступив к преподавательской деятельности, Велланский активно пропагандировал натурфилософские идеи Шеллинга. В своих трудах («Опытная, наблюдательная и умозрительная физика», «Философическое определение природы и человека») он развивал, в частности, идею синтеза опыта и умозрения, понимание природы как целостного живого единства, учение о мировой душе и Абсолюте как «сущности всеобщей жизни». Последователем Шеллинга считал себя и профессор Московского университета Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840), также естественник по образованию. Павлов следовал принципам шеллингианства в своей натурфилософии (Натуральная история // Атеней. 1830. № 4; Философия трансцендентальная и натуральная // Там же) и романтической эстетике. Авторитет Велланского и Павлова сыграл немалую роль в становлении мировоззрения участников «Общества любомудров».
Один из руководителей этого кружка князь Владимир Федорович Одоевский (1803–1869), замечательный писатель, крупнейший представитель русского романтизма, также испытал глубокое влияние философских идей Шеллинга. «Русские ночи» (1844), главная книга Одоевского, содержит исключительно высокую оценку творчества немецкого философа: «В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV, он открыл человеку неизвестную часть его мира… его душу».
В. Одоевский лично знал русских шеллингианцев – Велланского и Павлова. Уже в 1820-х годах, переживая увлечение философией искусства Шеллинга, он написал ряд статей, посвященных проблемам эстетики. Но увлечение Шеллингом в духовной биографии Одоевского далеко не единственное. В 1830-е годы он находился под сильным воздействием идей новоевропейских мистиков Сен-Мартена, Арндта, Портриджа, Баадера и др. В те годы он далеко ушел от того периода, когда вместе с другими членами кружка «любомудров» ставил Спинозу выше Евангелия. В. Одоевский изучает патристику, проявляя, в частности, особый интерес к мистической традиции исихазма. Результатом многолетних размышлений о судьбах культуры и истории, о прошлом и будущем России и Запада стали «Русские ночи».
«Эпоха, изображенная в “Русских ночах”, есть тот момент XIX века, когда Шеллингова философия перестала удовлетворять искателей истины и они разбрелись в разные стороны», – пишет автор. Это не значит, что сам он в своем сочинении вполне свободен от влияния «Шеллинговой философии». Даже критика западной цивилизации, содержащаяся в «Русских ночах», в определенной мере восходит к высказанному именно Шеллингом тезису о кризисе западной рационалистической традиции. (В курсе лекций «Философия мифологии». В том самом курсе, который Одоевский слушал в 1842 году, находясь в Берлине. Тогда же состоялось и их личное знакомство.) То, что прежде всего не приемлет мыслитель-романтик в современной ему европейской жизни, можно выразить одним постоянно используемым им понятием «односторонность». «Односторонность есть яд нынешних обществ и тайная причина всех жалоб, смут и недоумений», – утверждает Одоевский в «Русских ночах»[11 - Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 35.]. Он протестует против рационалистического схематизма, неспособного в своей односторонности действительно понять что бы то ни было в природе, истории и человеке. По Одоевскому, только познание символическое может приблизить познающего к постижению «таинственных стихий, образующих и связующих жизнь духовную и жизнь вещественную». Для этого, пишет он, «естествоиспытатель воспринимает произведения вещественного мира, эти символы вещественной жизни, историк – живые символы, внесенные в летописи народов, поэт – живые символы души своей»[12 - Там же. С. 7.]. Мысли Одоевского о символическом характере познания близки общей традиции европейского романтизма, в частности теории символа Шеллинга (в его философии искусства) и учению Ф. Шлегеля и Ф. Шлейермахера об особой роли в познании герменевтики как искусства понимания и интерпретации. Человек, по Одоевскому, в буквальном смысле живет в мире символов, причем это относится к жизни не только исторической и культурной, но и природной: «В природе все есть метафора одно другого». Символичен и сам человек: «В истории встречаются лица вполне символические, которых жизнь есть внутренняя история данной эпохи…»[13 - Там же. С. 8.]
В антропологии Одоевского нетрудно обнаружить и следы влияния европейского мистицизма. В эпилоге «Русских ночей» он прямо цитирует определение Сен-Мартена: «Человек есть стройная молитва земли». В человеке, утверждал русский мыслитель, «слиты три стихии – верующая, познающая и эстетическая». Эти три начала должны образовывать гармоническое единство не только в человеческой душе, но и в общественной жизни. Такой цельности в современном обществе Одоевский не находил. Напротив, он видел лишь торжество «односторонности», причем в наиболее худшем, с его точки зрения, варианте – односторонности материальной. Считая, что США олицетворяют вполне возможное будущее человечества, русский мыслитель с особой тревогой предупреждает, что там происходит уже «полное погружение в вещественные выгоды и полное забвение других, так называемых бесполезных порывов души»[14 - Одоевский В.Ф. Русские ночи. С. 36.].
Одоевский никогда не был противником научного или технического прогресса. Уже на склоне лет он писал: «То, что называют судьбами мира, зависит в эту минуту от того рычажка, который изобретается каким-то голодным оборвышем на каком-то чердаке в Европе или в Америке и которым решается вопрос об управлении аэростатами»[15 - См.: Русский архив. М., 1874. Кн. 2. С. 48.]. Бесспорным фактом для него было и то, что «с каждым открытием науки одним из страданий человеческих делается меньше»[16 - См.: Беседы в обществе любителей Российской словесности. Вып. 1. М., 1867. С. 76.]. И тем не менее то направление развития цивилизации, которое он наблюдал в Европе и США, казалось ему едва ли не тупиковым, поскольку оно было связано с утратой целостности и в душе отдельного человека, и в духовной жизни общества. Происходит, по его убеждению, и «раздробление наук». «Чем более я уважаю труды ученых, – писал Одоевский, – тем более… скорблю об этой… напрасной трате раздробленных сил»[17 - Одоевский В.Ф. Русские ночи. С. 168.]. В целом, несмотря на постоянный рост цивилизационных благ и мощь технического прогресса, современная цивилизация из-за «одностороннего погружения в материальную природу» может предоставить человеку лишь иллюзию полноты жизни. Но человек не может жить постоянно в «мире грез», а пробуждение вызывает у него «невыносимую тоску», «тоску и раздражительность»[18 - Там же. С. 36.].
Оценивая таким образом итоги и дальнейшие перспективы европейско-американского прогресса, Одоевский с надеждой думал о будущем России. Он писал о том, что «нет разрушительных стихий в славянском Востоке», что именно Россия и русская культура несут в себе столь необходимое Западу начало «всеобъемлющей многосторонности духа».
Отстаивая свои общественные и философские взгляды, Одоевский нередко вступал в полемику с членами славянофильского кружка. В письме А.С. Хомякову (1845) он так характеризует собственную идейную позицию: «Странная моя судьба, для вас я западный прогрессист, для Петербурга – отъявленный старовер-мистик; это меня радует, ибо служит признаком, что я именно на том узком пути, который один ведет к истине»[19 - См.: Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1970. Т. 15. С. 344.]. И действительно, князь В.Ф. Одоевский, замечательный писатель-романтик и своеобразный глубокий мыслитель, не может быть безоговорочно отнесен ни к одному из двух важнейших направлений русской общественно-философской мысли первой половины XIX века – славянофильству или западничеству. В то же время он никогда не стоял в стороне от этого русского спора и, следуя своим самостоятельным путем, был также его непосредственным участником. Полемика славянофилов и западников прошлого века – это не только идейное противоборство. Этот спор-диалог многое определил в характере русской мысли и национальной культурной традиции. И к нему в той или иной степени имели отношение многие деятели отечественной культуры. Безусловно, был в этом споре и метафизический уровень.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
МЕТАФИЗИКА БУДУЩЕГО И СОВРЕМЕННОСТИ В ФИЛОСОФСКОЙ ПРОЗЕ В.Ф. ОДОЕВСКОГО: «4338-Й ГОД»
Утопическая традиция в русской художественной литературе (и культуре в целом) представлена широко, и уже в силу этого проблемы специфики утопического жанра не могут игнорироваться при исследовании многих произведений русских писателей. В первой половине ХIХ века русский утопизм обретает особую определенность и оригинальность литературного выражения в философской прозе В. Одоевского.
В. Одоевский принадлежал к числу культурных деятелей позапрошлого века, как бы олицетворявших собой рефлексию в национальной культуре. Он был деятелем культуры в прямом смысле этого понятия и по широте своих творческих интересов (писатель, использовавший самые разнообразные литературные жанры, философ, критик, музыковед, сторонник и организатор народного просвещения и пр.), и, что не менее важно, по осознанности стремления понимать цели культурного развития и руководствоваться этими целями.
Наиболее полно в художественном и философском отношении тема культуры поставлена и раскрыта в «Русских ночах», но, будучи важнейшей для Одоевского, она пронизывает все его творчество. Проблемы культурного развития ставятся им и в «4338-м годе» – утопическом фрагменте последней части глобальной по замыслу, но так и не завершенной трилогии
.
Впервые опубликованное в 1840 г.
, это произведение относится к самому интенсивному периоду литературной деятельности В. Одоевского, творческим итогом которого стали «Русские ночи» (1844). Как и ряд других сочинений и фрагментов (в том числе и неопубликованных), «4338-й год» нельзя рассматривать безотносительно к тому центральному кругу идей, который был определен самим писателем в «Русских ночах». Тем более что выбор этот оказался, по существу, окончательным: в дальнейшем В. Одоевский практически перестает заниматься литературным трудом. Конечно, отношение разнообразных по жанру произведений писателя 30-х годов к идейному «полю» его главной книги неодинаково. Некоторые из них образуют вполне самостоятельные этапы творческого пути В. Одоевского. «4338-й год» же принадлежит к числу тех, чья связь с идеями и образной символикой «Русских ночей» кажется особенно органичной. Тем более что «Русские ночи» в значительной степени относятся к утопическому жанру, и в их состав входит «Город без имени» – яркая и последовательная дистопия
.
Признанная уже наиболее проницательными из современников В. Одоевского философская глубина и сложность «Русских ночей» уже сама по себе стимулировала исследовательский интерес к книге. Напротив, то, что «4338-й год» сравнительно редко оказывался объектом пристального внимания исследователей, объясняется, вероятно, не в последнюю очередь тем обстоятельством, что его смысл представлялся совершенно очевидным. Фактически все, кто писал о фрагменте Одоевского, сводили смысл этот к двум основным моментам: изображению «идеальной» России далекого будущего и апологии возможностей технического прогресса
. Однако сам текст отрывка дает достаточно оснований для сомнения в правильности столь однозначной оценки.
Существенным для понимания «4338-го года» является вопрос о жанре этого сочинения. Именно отнесение его к распространенному во времена Одоевского жанру идиллической утопии определило исходные критерии традиционных оценок идейного содержания фрагмента. Однако утопический жанр весьма многообразен, произведение же В. Одоевского всегда рассматривалось в качестве русского образца того типа утопизма, который более всего подходил к «классической» модели утопического творчества: философско-беллетристического изображения возможного и желательного будущего в соответствии с идеалами автора утопии.
При таком подходе «4338-й год» действительно приобретает черты преимущественно опыта, одного из первых в России, научной фантастики, поскольку, бесспорно, содержит ряд интересных гипотез, касающихся возможных перспектив развития технической мысли
. Но исчерпывают ли технические прогнозы смысл произведения писателя-романтика, и в какой степени оно действительно обращено к столь далекому (пятое тысячелетие) будущему человечества?
В имеющей непосредственное отношение к «4338-му году» и традиционно публикуемой вместе с ним заметке о романе М. Шелли «Последний человек» В. Одоевский подчеркивает, что автор «думал описать последнюю эпоху мира и описал только ту, которая через несколько лет после него началась». И далее он замечает: «Вообще редкие могут найти выражения для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих… предастся… свободному влечению души своей, – тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху». Отмечая «редкость» дара предвидения далекого будущего, Одоевский делает здесь акцент на хотя и доступной в принципе «всякому человеку», но весьма трудно достижимой возможности понимания духовного мира уже достаточно «близкой эпохи». Существенным также является очевидный скепсис в оценке им цели английского романа (М. Шелли) – изображения катастрофической «последней эпохи». А ведь, казалось бы, XLIV столетие избрано В. Одоевским по тем же принципам: «По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в 4339 году… встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, происходит за год до сей катастрофы» («Взгляд сквозь столетия». С. 240). Однако естественные ожидания читателя обнаружить в «4338-м годе» описание экстремальной предкатастрофической ситуации со всеми сопутствующими этой теме художественными вариациями оказываются совершенно неоправданными. Ни о чем подобном В. Одоевский не пишет. Хотя серьезность последствий столкновения с кометой по ходу рассказа подчеркивается неоднократно (и это делает маловероятным предположение, что «общество будущего» не слишком обеспокоено просто в силу своего технического могущества), никаких явных страстей предстоящая космическая катастрофа не вызывает. В этом отношении «4338-й год» резко контрастирует со значительно более ранним рассказом В. Одоевского «Два дня в жизни земного шара» (1825), где он впервые обратился к подобному сюжету.
В «Двух днях…» содержатся два варианта изображения космических катаклизмов. В одном случае несостоявшееся столкновение с кометой становится причиной предельного напряжения душевных сил человечества, неготового к своему концу, в другом – финал космического существования Земли («небесное сделалось земным, земное – небесным, Солнце стало Землею и Земля – Солнцем…») предстает как последний необходимый аккорд в гармонии космической и человеческой истории. Смысл в обоих случаях в изображении в романтическом ключе переживаний (эмоциональных и философических) людьми самой возможности космической катастрофы, собственно же утопический элемент существенной роли в рассказе не играет. В то время как в «4338-м годе» тема «катастрофы» уже не имеет самоценного значения, а образует особый план уже определенно утопического повествования.
Мир будущего, описанный В. Одоевским, и это соответствует общей традиции жанра литературной утопии, является, по сути, центральным образом всего сочинения. Автор указывает на определенную обособленность и уникальность этого мира, локализуя его пространственно: Россия будущего и отчасти Китай. О положении дел в иных регионах, например в Европе и Америке, упоминается вскользь, хотя, надо заметить, и в явно негативном контексте. Эффект еще более усилен подчеркнутой отстраненностью налаженного внутреннего ритма жизни людей XLIV столетия от предполагаемой близкой катастрофы. Главным действующим лицом «4338-го года» и «проводником» по утопии В. Одоевский сделал «иностранца», китайца Ипполита Цунгиева, только сквозь призму восприятия которого мы и узнаем что бы то ни было о «России будущего». (Способ изображения «идеального общества» от лица «путешественника» в пространстве, как в данном случае, или во времени
в утопическом жанре один из наиболее распространенных.) Цунгиев – «человек будущего», он полностью приемлет сложившуюся систему духовных и материальных ценностей и не мыслит себя вне ее. Положение его тем не менее особое: он, по сути дела, даже не столько иностранец, сколько провинциал. Китай 4338 года так же, как и Россия, развивается в русле технического прогресса, но вступил на этот путь позже, и потому его достижения еще далеко не так велики. Рассказчик приезжает именно «в центр русского полушария и всемирного просвещения», в «столицу». Образ «провинциала-рассказчика» представляет собой существенную трансформацию традиционного персонажа утопической литературы – «проводника» по утопии. «Провинциал» в столице, его поведение и восприятие «столичной жизни» – это классическая, например, для новоевропейского «романа воспитания» сюжетная линия, которая предполагает наличие двойной шкалы оценок, учет вероятной неадекватности «провинциального» мироощущения
.
Одоевский делает ситуацию еще более определенной, постоянно подчеркивая молодость рассказчика. Возрастная незрелость Цунгиева дополняется профессиональной (недоучившийся историк), и замечательно, что он сам непосредственно характеризует себя как «недоросля» (с. 259).
Итак, «провинциал» и к тому же «недоросль» оказывается в «мировом центре культуры» и спешит поделиться собственными впечатлениями в письмах к другому «недорослю», своему товарищу. Каким же предстает «мир будущего» в этих письмах? Отметим, во-первых, что тон посланий преувеличенно восторженный, герой восторгается всем и вся, он не в состоянии заметить не только недостатки, но и какие-либо проблемы в обществе будущего (хотя его «столичные» собеседники упоминают о последних). Почувствовать пародийность в интонации писем Цунгиева несложно, к этому располагает уже сама двусмысленность выбора рассказчика о предполагаемой мечте автора (в структуре произведения автору принадлежит роль издателя «доставленных» ему писем).
Юного китайца прежде всего поражают технические достижения жителей северной страны: высокоразвитая культура воздухоплавания (разнообразные аэростаты и гальваностаты, управляемые «особыми профессорами»); гигантские туннели с несущимися по ним электроходами; прогнозирование погоды; системы теплохранилищ, существование которых позволяет рассказчику говорить о «победе над враждебным климатом»; магнетические телеграфы и др. Хотя суждения студента-историка о «чудесах» техники крайне поверхностны, сам факт бесспорен: Россия 4338 года (так же, впрочем, как и Китай) представляет собой технически развитую цивилизацию.
Следует учесть, что интерес В. Одоевского к технике был на редкость глубоким и постоянным. Он удивительно тонко предчувствовал то значение, которое приобретает развитие научно-технических знаний в будущей жизни человека и человеческого общества. Романтическое мироощущение не мешало ему всегда быть принципиальным противником различных форм скепсиса и пренебрежительного отношения к материально-практической стороне научной деятельности
. Рассуждениям о смысле самых разнообразных изобретений отведена немалая роль в философских диалогах «Русских ночей». На склоне же лет В. Одоевский писал: «То, что называют судьбами мира, зависит в эту минуту от того рычажка, который изобретается каким-то голодным оборвышем на каком-то чердаке в Европе или в Америке и которым решается вопрос об управлении аэростатами»
. Но и эта замечательная мысль «позднего» Одоевского и многие его наблюдения 30–40-х годов свидетельствуют о проницательности мыслителя в оценках технических возможностей уже достаточно близкого, вполне реального будущего. То, чему герой «4338-го года» изумляется как «чудесам» техники пятого тысячелетия, для автора представлялось далеко не столь отдаленной перспективой.
Таким образом, необходимо учитывать условность непосредственно обозначенного в отрывке времени реализации «технических» прогнозов Одоевского. Еще большую соотнесенность с волновавшими писателя «современными» проблемами обнаруживает содержащееся в «4338-м годе» описание культурной и повседневной жизни в обществе будущего. Гуманитарий Цунгиев значительно уверенней ориентируется в этих областях и даже пытается выработать, а иногда и высказать собственное мнение: «Студенту истории больно показалось такое сомнение; я решился блеснуть своими знаниями» (с. 250). К тому же он встречается с ведущими учеными и государственными мужами, его принимают в «высшем» обществе. В письмах «китайского гостя» создается идиллическая картина постоянного стремления к гармонии и примирению как на индивидуальном, так и на общественном уровнях. Достигается это, впрочем, своеобразными государственными методами: глава государства – «министр примирений», задача которого состоит в своевременном прекращении любых раздоров в стране, начиная с «семейных распрь». Готовность к согласию щедро оплачивается государством.
Духовная атмосфера, царящая в столице, наиболее ярко изображена в письме, посвященном описанию светского приема, на котором присутствовал Цунгиев. На фоне «роскошной растительности» крытых садов, бассейнов с «ароматной водой» и многих других символов комфорта и благополучия (например, дорожки, устланные бархатными коврами) беседуют и развлекаются люди, в которых молодого китайца, воспитанного в духе традиционных «китайских учтивостей», прежде всего поражает непосредственность и естественность поведения. Подобная первоначальная реакция «провинциала» на стиль поведения аристократии в литературе фиксировалась неоднократно. Оценкам рассказчика в полной мере доверять, конечно, не следует. Но определенное, хотя отнюдь и не прямое отражение авторской позиции здесь, безусловно, имеет место.
Проблема светского общения и присущего ему поверхностного ритуализма всегда волновала Одоевского и ставилась им очень остро и предельно широко. Писатель высмеивал «нравописателей, которых не пускают и в переднюю» и которые в своей критике «высшего общества» не способны даже понять общечеловеческую и национальную серьезность вопроса о неподлинности различных социальных стереотипов поведения («двуличной жизни»).
В совершенно замечательных «Записках для моего праправнука о русской литературе» (опубликованных, как и «4338-й год», в 1840 году и, заметим, также обращенных к будущему) он подчеркивает исключительную роль этикета в китайском обществе и пишет далее о специфике отечественного светского ритуала: «В наших гостиных существует подобный церемониал: он состоит не в том только, как думают наши описатели нравов, чтоб беспрестанно кланяться, шаркать, ощипываться, доказывать, что вы не человек, а франт, – нет, существует другой церемониал, для меня… самый тягостный… – это обязанность говорить беспрерывно и только о некотором известном числе предметов: далее этого круга не смейте выходить – вас не поймут… Этот проклятый церемониал забежал и к нам из французских гостиных; французу хорошо, у него разговор – вещь совершенно посторонняя, внешняя… заведет механику в языке и пойдет работа, говорит об одном, думает о другом… Такая механика не по нашему духу; мы полуазиатцы, мы понимаем наслаждение в продолжение нескольких часов сидеть друг против друга, курить трубку и не говорить лучше ни слова, нежели нести всякий вздор о предметах, которые нас не занимают»
.
«Китайские» реминисценции, предваряющие эти рассуждения Одоевского о светском церемониале, делают совершенно определенным их очевидный параллелизм с изображенными молодым героем-китайцем «4338-го года» чертами светского приема: непринужденность ведущихся бесед, склонность к молчаливому времяпрепровождению, эмоциональность и пр. Но из этого еще не следует, что картина, рисуемая молодым китайцем, является неким идеалом человеческого общения по Одоевскому.
Начав в статье («Записки…») с иронии по поводу всепоглощающего характера китайского этикета, Одоевский направляет затем острие критики против пустоты светской беседы западного (французского) образца. Завершается же пассаж замечанием о невозможности для «полуазиатцев» внутренне принять такого рода методику, по существу профанирующую саму суть словесного общения. Лучше уж предпочесть последовательно «азиатский» вариант, то есть курить трубку и молчать. Очевидно, что для Одоевского важны не сами по себе психологические особенности общения (эмоциональность вполне может сопутствовать французскому стилю, молчаливость – китайскому и т. п.), а суть возникающих при этом отношений (в литературной форме его представление об идеальном типе «разговора» нашло воплощение в «Русских ночах», в личной жизни он руководствовался теми же принципами: многочисленны свидетельства современников об уникальной духовной атмосфере литературного салона княгини Одоевской
).
Если В. Одоевский более всего ценил возможность сохранения личностной свободы самовыражения в общении и выступал не столько против внешнего этикета, сколько против внутренней фальши, то «высшее общество» «4338-го года» исповедует совсем иные ценности. Раскованность и непосредственность здесь – это именно внешние общепризнанные особенности должного стиля поведения. Таковым оказывается само молчание: «записные же фешнонабли решительно молчат по целым вечерам – это в большом тоне» (с. 254). Вместе с тем местная аристократия удивительно говорлива, и даже музыка играет «очень тихо, чтобы не мешать разговорам» (с. 255). Единственная же серьезная тема всех этих бесконечных разговоров (а серьезность предмета обсуждения для Одоевского являлась основным критерием ценности последнего) – это «роковая комета». «Об ней заговорили нечаянно; одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер… другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидаемом бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они намекали, что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться; но большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборы а lа comete; они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры» (с. 254–255). Наивность юного рассказчика, позволяющая ему непосредственно переключаться на описание «кокетливых дам», щеголяющих «прекрасною кометною кистью», еще более усиливает впечатление от совершенной поверхностности ведущихся бесед, неспособности собравшихся серьезно отнестись к чему-либо, кроме «текущих дел», даже к вероятному столь близкому и трагическому будущему.
Апофеозом празднества становятся коллективные упражнения в «животном магнетизме», преследующие цель достижения «степени сомнамбулизма» (с. 257). Этому предшествует неограниченное поглощение гостями всевозможных «возбуждающих газов», приводящих их в состояние «веселости, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от беспрерывной улыбки» (там же)
. Смысл же дальнейших психоделических (как нам представляется, употребление этого позднейшего термина здесь вполне уместно) «забав» персонажей – в осуществлении «сомнамбулической» способности «высказывать самые тайные помышления и чувства» (с. 258). Игра эта, имеющая явно выраженный эротический подтекст («дамы… рассказывают свои тайны мужчинам», «здесь начало свадеб, любовных интриг…»), оказывается практически обязательной нормой для каждого. Участие в ней – условие нормальной социальной адаптации: «Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме; в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности» (с. 258). Юный рассказчик, погруженный в атмосферу этого наркотически-эротического веселья, преисполнен восторгов, но Одоевский, конечно, мог рассчитывать на пробуждение у читателя совсем иных чувств.
Он всегда считал, что бессмысленность светского общения достигает своего апогея в веселье бала, и последний становится устойчивым «символом» его романтической прозы («Бал», «Насмешка мертвеца», «Реторта» и др.). «Бал» у Одоевского обычно символизирует «искусственность» ухода от реальности. Писатель подчеркивал иллюзорную замкнутость пространства «бального мира», создающую искаженную перспективу будущего, нередко, кстати, катастрофического
. Катастрофа и не заставляет себя ждать (например, потоп в «Насмешке мертвеца»). То, чем восхищается китаец-провинциал на приеме, по сути, представляет собой одну из наиболее глубоких и оригинальных вариаций раскрытия Одоевским столь важной для него темы: неподлинность внешнего, поверхностного общения неизбежно дополняется столь же внешним – по вызвавшим его причинам – экзальтированным массовым весельем. «Бал» в данном случае захватывает участников полностью, они лишены возможности сохранить индивидуальную независимость даже на уровне подсознания. И все это происходит в непосредственном преддверии космической катастрофы
.
Сатирический прием изображения в «4338-м годе» присутствует постоянно: он то совершенно отчетливо проявляется в стиле и содержании «наивных» рассуждений героя, в его диалогах с другими персонажами, то, как в сцене празднества, образует внутренний план, раскрывающий подлинный смысл происходящего. Сама по себе сатирическая направленность в произведении писателя, придававшего, как известно, особое значение тому факту, что новейшая русская литература берет свое начало с сатиры, удивить, конечно, не может.
Однако это трудно объяснимо, если признать, что Одоевский решал прежде всего задачу создания некой утопической идиллии. Но в таком случае не является ли «4338-й год» не столько утопией, сколько формой скрытой сатиры (или «сатиры намеков», как, например, «Европейские письма» Кюхельбекера) на современную писателю общественную жизнь?
Думается, что такое предположение верно только отчасти. Одоевский обратился к жанру утопии потому, что хотел писать именно о будущем. Но это не отдаленное будущее «технической» утопии, демонстрирующее читателям безграничные возможности авторской фантазии и проницательности. Одоевского интересовали в первую очередь реальные перспективы культурного развития, и «4338-й год» – это произведение о возможном будущем культуры. В данном отношении незавершенная утопия писателя в наибольшей степени обнаруживает свое органическое единство с философией культуры «Русских ночей», его главной книги.
Уже в предисловии Одоевский ясно определяет центральную идею своего сочинения: вероятность в будущем разрыва традиции, утраты связи с прошлым. Он замечает, «что характеристическая черта новых поколений – заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас раззнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников» (с. 241).
Образ мира будущего, созданный В. Одоевским в «4338-м годе», непосредственно связан с реальной культурной ситуацией, он даже воссоздает ее, но в своеобразном «перевернутом» виде. Россия и Китай – ведущие технические державы, Европа полностью утрачивает свое значение, американцы совершенно «одичали», занимаются «спекуляциями» и бессмысленным «грабежом».
Вера в историческое будущее России была в высшей степени присуща В. Одоевскому и как мыслителю, и как общественному деятелю. Причем это была оптимистическая вера в достаточно близкое реальное будущее своей страны (он даже утверждал в «Русских ночах», что уже «XIX век принадлежит России»). Как отмечалось выше, нет оснований сомневаться и в его положительном отношении к техническому прогрессу. В то же время следует учитывать, что позиция Одоевского никогда не отличалась идеологической простотой. Так, например, при всей неоднозначности своих оценок славянофильских идеалов он никогда полностью не разделял «западнических» чаяний и оставался убежденным сторонником своеобразия развития русской культуры
. И само по себе то, что «утопическая Россия» «4338-го года» занимает привычное место Запада, то есть фактически следует «западным» путем, еще нельзя рассматривать как реализацию его «мечты».
Существенные место и роль отведены в композиции и содержании отрывка «китайской теме». Чтобы правильно понять смысл возникающего на страницах произведения Одоевского образа китайской культуры, необходимо учитывать общую специфику восприятия последней в русском обществе 30–40 годов XIX века. Несмотря на первые, но уже значительные успехи отечественной синологии (прежде всего в работах Н.Я. Бичурина), образ Китая все еще сохранил экзотический ореол, а главное, оказался вовлеченным в сферу внутренней общественно-идеологической полемики: для либеральной публицистики этого периода «китаизм» и «китайщина» – расхожие символы социального застоя, «косности», «консерватизма» и т. п.
Недооценка китайской культурной традиции имела общеевропейские корни и нашла, например, обоснование в трудах столь авторитетных в России авторов, как Гердер и Гегель. Естественно, что влияние западных идейных стандартов существенно способствовало формированию в России скептического отношения к истории китайской культуры. И хотя все это в конечном счете отнюдь не препятствовало растущему в русском обществе интересу к определенным ценностям дальневосточной культуры и даже своеобразной моде на «китайское», на разнообразные стилизации «в китайском духе» и т. п., но для глубокого понимания специфики китайской культурной традиции, безусловно, создавало серьезные трудности. О трудностях такого рода неоднократно писал основоположник российской синологии Н.Я. Бичурин
.