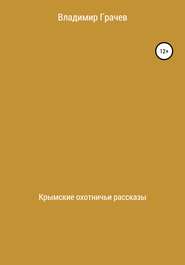скачать книгу бесплатно
В ответ Лёшка только вздыхал – тяжело и горестно. Он и сам прекрасно понимал, что с каждым прошедшим днём шансы найти Арну таяли. Если бы она попала в руки к охотникам, об этом сразу же стало бы известно. Его бы давно бы известили по «беспроволочному телефону» о находке, даже из другого города. В этих соседних городах он тоже дал объявления в газетах, да и телевизор там тоже смотрели.
Так прошла ещё неделя. Лёшка, пытаясь занять себя хоть чем-то, ездил на больничные реабилитационные процедуры, долго в одиночестве гулял по родному сосняку, в котором так любила бегать Арна, что-то читал, смотрел «телик». Дома всё напоминало об её отсутствии – и миска, одиноко стоящая в углу, и погрызенный мячик, которым она развлекалась в часы вынужденного одиночества, и поводок, свисающий с вешалки, и фотографии, висящие на стенах. Раньше он как-то не задумывался о том, как много места собака «занимает» в его душе и жизни. Привычный ритм совместного существования не оставляет много времени для чувств. Они приходят лишь тогда, когда он прерывается, и остаются лишь пустота и одиночество. Да и ритм этой самой жизни меняется – не надо утром и вечером выводить своего питомца на прогулку, не надо заботиться о его кормлении и здоровье. Некого потрепать за ухом, любезно специально подставленным для этого любимой собакой.
А вечером Лёшке позвонили. Звонила Татьяна с телевидения.
–Лёша, тут нам перезвонили откуда-то. Не знаю, почему тебе напрямую не позвонили. Ну, короче, вот такая ситуация: Арну видели в Фонтанах. Или похожую на неё собаку. Только описали приблизительно дом и двор, в котором её держат, без точного адреса. Ты бы сам съездил, посмотрел – она или нет? Телефон, с которого звонили, я тебе диктую, готов?
Лёшка схватил ручку и начал записывать номер.
– Спасибо, Танечка! – только и смог он, запинаясь от охватившего его волнения, ответить журналистке.
Ждать до утра не было никакого терпения. Поэтому Лёшка тут же набрал на мобильнике Серёгин номер.
– Серёга, можешь приехать прямо сейчас?
– А что случилось? – поинтересовался Серёга.
– Да проехать надо тут недалеко, в Фонтаны. Мне позвонили – вроде, по описаниям, Арна там. Надо только дом найти. А то точного адреса нет – только описание.
– А может, утром поедем? – ответил Серёга.
– А вдруг утром будет уже поздно? Я чувствую, что ехать надо сейчас! – закричал в трубку Лёшка.
– Ну, тогда жди, минут через тридцать подъеду!
Все эти полчаса Лёшка не находил себе места, выйдя из подъезда и дожидаясь друга на улице.
А в это время Арну, действительно, «уже приговорили». С утра она почувствовала неладное – обычно её, хоть раз в день, но кормили. А сегодня о ней как будто забыли. Все остальные собаки были накормлены, а усатый мужик, который и привёз её сюда, как будто бы не замечая, прошел с ведром мимо и только как-то странно посмотрел в её сторону. До этого Арна видела, что он много раз привозил разных дворовых собак, но все они, прожив в соседнем вольере несколько дней, бесследно исчезали поздними вечерами, когда на улице темнело. Мужик заходил за ними в вольер, надевал ошейник и выводил на заднюю часть двора. Потом оттуда доносился глухой удар, и начинало густо и противно пахнуть свежей кровью. Через некоторое время мужик выходил оттуда с ведром, наполненным тем, что ещё совсем недавно было собакой, и относил это в сарай, где варил пищу для своих алабаев – азиатских овчарок, которых он держал для разведения и продажи щенков.
Лёшка сидел на переднем сидении стареньких Серёгиных «Жигулей» и не находил себе места. Ехать было действительно недалеко. Эти самые Фонтаны были чуть ли уже не в черте города, хотя ещё совсем недавно считались деревней. За последние годы город значительно разросся благодаря и плановым, и не плановым – так называемым «самозахватам» – застройкам вновь прибывших из Средней Азии переселенцев. И найти Арну среди новых домов было весьма проблематично. Серёга вот уже минут двадцать как катался среди новостроек. Лёшка нервничал. Он уже позвонил по тому номеру, который дала ему Татьяна, и попробовал уточнить, где же находится дом, в котором, может быть, держат Арну. Судя по описаниям, это должно было быть где-то рядом. Вот он, с красной крышей и зелеными воротами с глухим, высоким каменным забором!
– Кажется, здесь. Серёга, тормози!
«Жигули» остановилось. Лёшка выскочил из машины и осмотрелся. Ни на воротах, ни на калитке не было никаких признаков звонка.
– Серёга, посигналь! – попросил он друга.
В ответ на громкое бибиканье все собаки во дворе громко и дружно залаяли. И вдруг, среди этого тяжёлого, хриплого лая, Лёшка услышал такой до боли знакомый и радостный «гавк» Арны, переходящий в вой. От нетерпения Лёшка начал стучать по воротам уже чуть ли не ногами. Вся эта какофония – стук, вой, лай – продолжалась несколько минут, пока, наконец, ворота не отворились, и на улицу не вышел хозяин дома.
– Что надо, чего стучышь? – грозно спросил он Лёшку.
Лёшка в ответ показал ему большую фотографию Арны.
– Мне сказали, что она у вас!
– Ну, заходы, посмотрышь – она или не она! А то мне кормить её уже надоело! – отвечал домовладелец, почему-то отводя в сторону взгляд.
Просить Лёшку дважды нужды не было. Он, забыв о своей недавней болячке, бегом кинулся к вольеру. Уже издалека он увидел, как о проволочную решётку ограждения, со всего разбега, прыгает и бьётся, издалека узнав его, Арна! Похудевшая, с чуть поджившей от укуса алабая раной на боку, но здоровая и невредимая.
– Арна, Арночка! – только и мог, что приговаривать вслух Лёшка, открыв вольер и крепко прижав к себе свою собаку. Ему и верилось, и не верилось, что это она. Что она, наконец, нашлась после целого месяца разлуки! Но это была действительно она! Арна выкручивалась из Лёшкиных объятий, пытаясь облизать его лицо, становясь на плечи передними лапами, да ещё и подпрыгивая при этом! Она громко и радостно скулила, совсем как в детстве, когда была ещё щенком. Она жаловалась Лёшке на все мытарства, которые она перенесла за это время, она рассказывала ему, как прыгнула в Олегову машину, думая, что сейчас туда подсядет и Лёшка, и они все вместе поедут, как всегда, на охоту. И о том, как Олег завёз её куда-то в степь, за город и, сняв с неё ошейник с именным медальоном, выбросил возле далёкой свалки, отомстив Лёшке за своё, как ему казалось, унижение. И о том, как страшно ей было сидеть в чужом вольере и каждый день ждать неминучей смерти на заднем дворе от топора! О том, как она тосковала по своему любимому Лёшке! Всё это она рассказывала ему на своём собачьем языке!
– Сколько я должен? – спросил Лёшка у усатого.
– Давай тысячу – я кормил, ухаживал! Вон смотри – не худой совсем! – отвечал он.
Лёшка, не торгуясь, достал и отдал деньги. Всё было позади – одиночество Арны, его одиночество. Они снова были вместе! В этот миг он ощутил то чувство, которое, наверное, называется счастьем! Да и действительно – кто знает, что такое счастье? Да никто! Ведь оно бывает таким разным. Вот и возвращение Арны для Лёшки, и Лёшки для Арны было счастьем! В этот миг, прекрасный миг – полным и безусловным! Арна запрыгнула в машину, Серёга надавил на газ – и они поехали домой.
«Арна нашлась!» – сбросил эсэмэски своим друзьям Лёшка. В ответ посыпались поздравительные звонки. Звонков было много и от разных людей.
«Нет, есть ещё всё-таки на свете счастье!» – подумал Лёшка, засыпая поздно ночью и обнимая лежащую и посапывающую рядом, объевшуюся и разомлевшую от тепла Арну. Ведь впереди у них были еще многие годы жизни и радости прекрасных охот!
Прощение
Вся дрожа от охотничьего азартного возбуждения, ухватившись за свежий след убегающей дичи, моя собака – молодая курцхаарша Руна – шла за фазаном. Вот она подняла голову и застыла на мгновение, пытаясь верхним чутьем «засечь» цель преследования. Постояв несколько секунд, она снова наклонила свой чуткий нос к траве, от которой так и несло птичьим запахом. Фазан был где-то рядом, но он не сидел на месте, он бежал и бежал прочь от опасности, прочь от собаки и людей, которые шли следом. Высокая, почти до пояса, и густая трава, покрывавшая поле, способствовала его скрытному и быстрому перемещению.
Те, кто хоть однажды видел, как бегает фазан, не удивятся столь длительному описанию его преследования. Ну, а для непосвященных будет интересно узнать, что бежит он быстро, бесшумно и не всегда прямо, а как бы делая так называемые, пользуясь морским термином, «противолодочные зигзаги» влево и вправо, тем самым пытаясь запутать преследователя. И не обязательно этим преследователем является охотничья собака – основным природным врагом фазана являются лисы. А уж они «охотники» великолепные, знающие его повадки не хуже самого просвещенного в своей профессии егеря. На крыло фазан становится в крайнем случае – когда он уже обнаружен преследователем, и деваться ему больше некуда. Несмотря на свою кажущуюся массивность (вес взрослого петуха частенько намного превышает килограмм), взлетает фазан стремительно, хотя и шумно, и летит достаточно быстро, но по прямой траектории, что делает его достаточно уязвимым для выстрела. Опытный охотник знает, что подняв на крыло петуха, если собака не преследовала его до того несколько сотен метров (такое часто случается – петух «уводит» преследователей от курицы), всегда можно вернуться к месту его первичного обнаружения собакой и попытаться найти где-то поблизости затаившуюся курицу-фазанку. Курица, в отличие от петуха, очень часто после недолгой пробежки пытается просто спрятаться – затаиться в густой траве или кустарнике и переждать опасность.
Судя по темпу, Руна преследовала петуха. Сегодня этому петуху ничего не угрожало. Я был без ружья, а стартовый пистолет, придающий после «работы» собаки по дичи, то есть ее подъему на крыло, своим холостым выстрелом хоть какой-то антураж настоящей охоты, был в руках у второго полевого судьи. Всеукраинские соревнования собак по фазану были в полном разгаре. С раннего утра на нескольких полях работало три судейские бригады. Дичи было много. Щелкинский фазаний заказник в том далеком году был буквально переполнен этими благородными птицами, завезенными в Крым еще в шестидесятые годы прошлого столетия и прекрасно акклиматизировавшимися здесь. Причем в совершенно разных природно-климатических условиях – начиная от Южного берега и заканчивая степными прибрежными районами Керченского полуострова, где бывают достаточно суровые зимы с морозами до тридцати градусов ниже нуля.
Сам поселок городского типа Щелкино – это уникальное, даже по современным меркам, поселение на берегу Казантипского залива неглубокого Азовского моря. Собственно, это небольшой городок, названный так именем трижды Героя соцтруда, атомщика-академика Кирилла Ивановича Щелкина – уроженца небольшого районного городка Белогорска (бывший Карасубазар), расположенного в сорока километрах от столицы Крыма – Симферополя (там он учился и окончил среднюю школу), состоящий из трех десятков пяти- и девятиэтажных зданий, построенных в конце 80-х годов для проживания в них будущих работников атомной электростанции, которую начали возводить поблизости, но так, слава Богу, и не закончили. Этому помешал целый ряд обстоятельств: во-первых, развал СССР и отсутствие дальнейшего финансирования стройки; во-вторых, крупные протестные акции крымской общественности против строительства этой АЭС в сейсмоопасной зоне (в этой местности исторически подтверждены землетрясения до десяти баллов по шкале Рихтера, а до сих пор «действующие» неподалеку грязевые вулканы лишь подчеркивает правоту экологов). Главной достопримечательностью городка являются, конечно, длинные песчаные пляжи, наличие рядом с ним круглообразного выступа массива мыса Казантип и отсутствие улиц. Вернее – улицы-то есть, и машины по ним ездят, но у них нет названий. Все «высотки» пронумерованы, и все жители и многочисленные отдыхающие, облюбовавшие в последние годы Щелкино для отдыха в летнее время, превратившееся в уютный курортный поселок, ориентируются именно по номерам домов.
Во время возведения города и блока атомной станции (он так и стоит заброшенный, одиноко возвышаясь над прибрежной степью, на берегу озера Акташ, воды которого предполагалось использовать для охлаждения реактора) вокруг Щелкино были в больших количествах высажены массивы, состоящие из сосново-лиственных деревьев. Поля разделили густыми, заросшими травой, многокилометровыми лесополосами. Еще стоит отметить, что в прибрежной зоне этой части Крыма множество мелких пресных озер, густо заросших камышом и осокой. Вот в это раздолье и были в свое время запущены первые фазаны, которые быстро акклиматизировались и успешно размножились в этих местах. Охота на них, хотя и ограничена жесткими лимитами отстрела, но все же разрешена. Единственное жесткое и непреложное правило – не стрелять куриц-фазанок. Это и не удивительно, ведь каждый петух может одновременно «обслуживать» до десятка самок на «своей» территории. А на них, собственно, и держится весь воспроизводственный цикл – от высидки яиц до сохранения потомства.
Итак, Руна преследовала петуха. Полевая судейская комиссия, которую возглавлял главный судья соревнований, шла следом и фиксировала все недочеты моей собаки. Эксперт был недоволен ею. А может быть, и не совсем ею, а вообще недоволен. Он только пообедал и почти бежать за собакой, которая преследовала дичь в быстром темпе, ему не очень хотелось. Но, с другой стороны, скорость преследования была неровной – то приходилось переходить на бег, чтобы успеть за собакой, то, когда она начинала «разбирать» хитросплетения фазаньего следа и метаться влево-вправо, низко к земле наклонив нос – стоять на месте и ждать, когда же, наконец, собака пойдет дальше. В такие минуты терпение судьи лопалось, и он нервно кричал мне:
– Ну, что она там топчется! Толкай ее вперед, толкай!
Я тоже сильно нервничал. И тому были причины. Дело не в том, что моя собака «не знала» дичь. Руна прекрасно работала по фазану в разных охотничьих условиях. Несмотря на ее молодость – ей было всего полтора года – она уже имела на своем «боевом» счету больше десятка сбитых мною фазанов. Причем, условия их поиска были гораздо хуже, чем условия, в которых проводились соревнования. Местность – пересеченней: овраги, балки, густо заросшие травой и терновником заболоченные ручьи, плотный камыш и высокая трава. Вот в каких условиях я натаскивал Руну на фазанов. И она не подводила – четко брала след, упорно преследовала убегающую птицу и, если она ей позволяла, делала по ней великолепные стойки, после которых шансов уцелеть у фазана было немного. Ведь стрелять изготовившемуся охотнику по ожидаемой дичи всегда легче и точнее, чем, если эта самая дичь неожиданно поднимется на крыло, выпорхнув из-под ноги. Хотя случаи бывали разные. Бывало и так, что фазан, словно в насмешку, ожидаемо и шумно взлетев, вместо того, чтобы улетать вдаль или в сторону, выбирал неожиданное направление, налетая прямо на тебя, пролетал над головой на высоте какого-нибудь десятка метров, а ты, целя и стреляя «в упор», мажешь по нему! Вот это обидно и досадно. Тем более, когда его преследование иногда требует неимоверных физических усилий. Я помню случай, когда оно длилось около тридцати минут и завершилось двумя пустыми дуплетами из двух стволов по все-таки перехитрившей меня и моего товарища по охоте птице. Руна была моей первой собакой. Я натаскивал и учил ее всему сам. Где-то и в чем-то, конечно, ошибаясь. И не удивительно – опыта натаски у меня еще не было, но было сильное желание развить в своей собаке все лучшие универсальные качества курцхаара. До этих Всеукраинских соревнований, за достаточно короткий срок, всего полгода, она уже честно «заработала» целых четыре полевых диплома: два (второй и третьей степени) – по куропатке, и по одному – по перепелу и водоплавающей дичи. Причем, дипломы эти были честными, полученными на городских полевых испытаниях и чемпионате Крыма. Собака оценивалась разными экспертами и в разных условиях. С этим дипломным «капиталом» я и приехал в Щелкино на Всеукраинские соревнования по фазану.
Лагерь участников расположился на краю поля, поросшего густой травой, возле лесополосы, состоящей из деревьев весьма специфических, свойственных к посадке только в Крыму – лоха серебристого и акации. Надо сказать, что, несмотря на относительную удаленность проведения этих ежегодных состязаний от крымских больших городов (до ближайшей Керчи около семидесяти километров, а уж до Симферополя – почти двести), на них съезжается довольно много желающих, в надежде получить заветный диплом по столь редкой птице, как фазан. В том числе, и с Украины, и даже из России. Ведь до керченской переправы расстояние сравнительно небольшое, а поблизости расположены крупные российские города – Краснодар, Новороссийск и другие. Вот и едут они со своими собачьими питомцами в Щелкино. Часто и густо привозят собак заранее, на несколько дней раньше, чем начинаются собственно соревнования. Делается это с целью натаски собак. И правильно – дичь специфическая, обитающая в очень немногих местах. А диплом по ней получить хочется, и собаку выставить – тоже. Если учесть, что, кроме того, все это стоит немалых денег (само участие в состязаниях да плюс еще и транспортные расходы), то желание достичь результата увеличивается в несколько раз.
После обязательного торжественного построения все участники, зарегистрировавшиеся в секретариате соревнований, начали разъезжаться по полям с судьями-экспертами, в чьи комиссии они попали по жеребьевке. Я с Руной попал в комиссию главного судьи – очень уважаемого эксперта национальной категории из Киева с многодесятилетней судейской практикой. И, честно говоря, когда узнал об этом – обрадовался. Обрадовался тому, что мою Руну будет оценивать приезжий высококвалифицированный эксперт и что, в случае успешной работы, в ее очередном дипломе будет подпись киевского авторитета. В рабочих качествах своей собаки я не сомневался!
О, как же я был потом наказан за свою мысленную самоуверенность и самомнение! А начиналось все как всегда – эксперт, перед выездом в поле, переписывал в свой блокнот породы и клички собак, их возраст и предыдущие дипломы, оценку экстерьера, фамилии и местопроживание владельцев. Дошла очередь и до меня. Я лихо отрапортовал все данные, дошел до полевых дипломов и возраста, и вот тут-то произошла первая неприятная заминка.
– Сколько, сколько у Вашей собаки дипломов? – начал уточнять, сразу не поверивший мне главный эксперт.
– Это что ж, собаке нет еще полутора лет, а она уже четыре диплома имеет, в том числе и второй степени? Кто же тебе их надавал столько? Или все одним экспертом подписаны? – с явной подковыркой продолжал он сыпать колкими вопросами.
Я, не ожидавший такого поворота сюжета и столь предвзятого отношения к себе и моей собаке, сначала и не знал, что ответить. Помнится, что впервые за многие годы, я покраснел, хотя мне это и не свойственно, в голове моей что-то помутилось, а сердце забилось явно в более высоком темпе, чем ему положено. Вообще-то я не умею отвечать на разные колкости. Являясь по натуре не спорщиком, а скорее, созерцателем, я всегда теряюсь тогда, когда меня явно пытаются оскорбить или заставить ответить неприятными словами на какие-то оскорбительные высказывания в мой адрес. Это уже потом, когда ситуация остается в прошлом, я «про себя» изобретаю «правильные и остроумные» ответы, страстно жалея о том, что мне это сразу не удалось сделать в реальной обстановке словесного противостояния. И тогда тоже со мною повторилась та же самая история. Вместо того чтобы четко и твердо ответить, что дипломы зарабатывались собакой и мною на состязаниях разных уровней, что давались они по заслугам и по объективным критериям оценок разными экспертами – я только и сумел из себя выдавить:
– А что, Стоячко вам не авторитет что ли?
Я прекрасно знал, что киевский эксперт и наш крымский самый опытный и уважаемый эксперт Анатолий Владимирович Стоячко дружат уже много лет, не раз слышал интересные истории об их совместных судействах, спорах и приключениях. Но также я прекрасно знал и то, что Стоячко лично оценивал мою Руну на городских испытаниях. Это был ее дебют, первая проверка ее профессиональных охотничьих навыков. И она ее с честью выдержала. И не только получила полевой диплом, а сразу – диплом второй степени, что для еще совсем молодого, годовалого курцхаара является великолепным достижением. А если учесть, что таких дипломов на тех далеких испытаниях из всех молодых собак был удостоен еще только пойнтер Чак (который почти на год, надо сказать, был старше моей Руны), то можете себе представить мою радость в тот момент!
И вот теперь авторитет моего крымского кумира-эксперта вдруг оказался под сомнением. И у кого – у его столичного друга и соратника. Я не знал, что мне ответить и как оправдать и свою собаку, и себя, и Анатолия Владимировича?
Закусив от обиды губу, я только и сумел еще выдавить из себя почти шепотом:
– В поле посмотрим – липовые у нас дипломы или нет?
А что я еще мог сказать или сделать? Действительно – только и оставалось в поле показать качество подготовки своей собаки, продемонстрировав ее чутье, послушание и работоспособность. Доказать-то – доказать, но я уже заранее знал, что теперь сделать мне это будет очень нелегко, особенно после такого нелицеприятного диалога, который состоялся перед испытаниями – обмена колкостями и возникновения явной неприязни по отношению ко мне лично со стороны главного эксперта.
И вот настал наш с Руной черед. Второй эксперт зовущее поднял руку вверх, призывая меня занять свое место впереди комиссии.
– Отпускайте собаку! – скомандовал киевский авторитет.
Я отпустил Руну с поводка. Время пошло! У нас был только час. Теперь все зависело только от собаки и охотничьей удачи. А удача была вначале на нашей стороне. Идя широким зигзагом против ветра по невспаханному, заросшему сорняками, полю Руна уже через несколько минут «прихватила» свежий фазаний след. Вот она изменила направление движения и пошла уже боком к ветру, уткнувшись носом в землю и изредка поднимая морду кверху, причуивая доносившиеся запахи дичи. Темп движения то нарастал, то замедлялся. Позади меня ерничал столичный эксперт и все время отпускал какие-то колкости:
– Ну, что она у тебя, как неживая! Вперед, вперед! Не позволяй ей останавливаться! Это же фазан, а не куропатка, она должна его дожимать!
Я прекрасно понимал, что ситуация складывается какая-то нестандартная. С одной стороны – ни к одному другому участнику состязаний не было таких претензий и замечаний по поводу работы их питомцев. А с другой – если бы не было нашего разговора до испытаний, может быть я и не обращал бы внимания на эмоциональные возгласы эксперта и считал бы их, наоборот, знаком персонального внимания и желания помочь начинающему собаководу в работе по сложной дичи. Но я-то знал, что эти возгласы не имеют «к помощи» никакого отношения.
Руна, наконец, стала в стойку, загнав убегающего фазана почти к самой лесополосе, ограждавшей полей. Подбежав к собаке и подняв, как это положено на соревнованиях, руку, сигнализируя тем самым экспертам о том, что «собака на стойке», и сейчас я дам команду на подъем дичи, я выдохнул почти ей на ухо:
– Вперед, возьми!
У хозяев охотничьих собак нет универсального слова для посыла собаки после стойки на дичь. Одни кричат «Дай!», другие – «Пиль!», третьи – еще что-то. Да и в правилах испытаний об этом тоже ничего не сказано. Главное, чтобы собака выполняла эту команду.
Руна рванулась к фазану броском. С громким шумом из травы поднялось сразу два петуха. Громко клокоча от негодования, они под холостой выстрел второго эксперта разлетелись в разные стороны, набрали высоту и скрылись за деревьями.
– Ну, продолжай, продолжай! – только и сказал мне киевский гость, что-то фиксируя у себя в полевой тетради.
Мы пошли дальше вдоль лесополосы. Руна опять тут же «прихватила» фазаний след и пошла по нему, постоянно заворачивая в лесополосу и вновь выходя на поле. Так, все вместе, мы прошли еще метров триста. Руна вновь свернула в лесополосу, пересекла ее и вышла на ее противоположную сторону. С другой стороны тоже было поле, но заросшее зеленой невысокой осокой. Ни секунды не раздумывая, Руна вошла в эту осоку, продолжая идти по свежему следу.
Вот здесь-то все и произошло! По проселочной дороге к нам подъехала какая-то легковая машина. Из нее призывно посигналили, привлекая внимание киевского эксперта.
– Мне надо перекусить! – изрек он, явно намекая на то, что испытания сейчас придется прервать на неопределенное время.
А Руна в этом время, застыла в очередной стойке. Я, не обращая внимания на внешние отвлекающие обстоятельства, ринулся к ней. Команда – бросок – подъем дичи! Еще один бросок – еще один подъем! Мы напоролись на целый фазаний выводок. Фазаны взлетали по несколько штук сразу. Когда все кончилось, я обернулся назад, пытаясь увидеть реакцию судей, и увидел, что сзади никогошеньки нет. А мой главный судья сидит метрах в ста от меня рядом с машиной и что-то закусывает. Я подошел к нему.
– Ну, что я тебе могу сказать?! – сказал он, глядя куда-то в сторону. – Сыроватая у тебя еще собака, тормозит, скорости преследования нет такой, которая требуется. Надо еще поработать с ней. На диплом она еще не тянет!
– А как же сделанные работы? – начал лепетать я, заикаясь от, захлестнувшей меня обиды. – Они что, тоже не в счет? А последние три подъема один за другим?
Знаете, дорогой мой читатель, сейчас, когда уже прошел почти десяток лет с того достопамятного дня, и описывая все, что со мной произошло тогда, я заново пережил тот неописуемый шок от явной несправедливости к моей собаке и ко мне лично. Ведь и я, и второй эксперт (кстати, феодосийский, оценивший Руну на диплом на предыдущих крымских соревнованиях по перепелу) были совершенно уверены, что все идет нормально. И тут такой облом! Поняв, что «плетью обуха не перешибешь», я отозвал второго эксперта в сторону и спросил:
– Сережа, ну как же так? Ты же сам все видел!
Сережа только пожал плечами, тоже виновато смотря в сторону:
– Извини, но что я могу сделать – ты же сам видишь, ну не хочет он тебе давать диплом!
Я все это прекрасно видел и сам. Неожиданно подступившие слезы душили меня. Чтобы никто их не увидел случайно, я рванул в лесополосу, а затем дальше в поле. Рядом была только моя Руна. Я гладил ее по умной собачьей морде и что-то ей говорил. Она бежала сбоку и все время пыталась забежать вперед и заглянуть мне в глаза, виновато виляя своим куцым, купированным в детстве хвостом, словно прося прощение за что-то…
В тот же час, на попутной машине со своим товарищем-охотником я уехал из лагеря, быстро собрав свою палатку и нехитрые туристские принадлежности. Делать в этом лагере нам было больше нечего! Нет, можно бы было, конечно, доплатив еще денег, выставить Руну на так называемую «испытательную станцию» для молодых собак, но в зачет соревнований это бы не пошло, да и после вынесенного унижения не было никакого желания выставляться еще только ради получения очередного диплома, рангом гораздо ниже предыдущего.
И мы уехали на Капсель. Капсель – это небольшое урочище, расположенное между мысом Меганом и крымским курортным городком Судак. Именно туда, в теплую уютную долину, покрытую невысокими холмами, и прилетает осенью перепел, откочевывающий на юг. Во время сезонной миграции этой птицы охота в этом урочище открыта каждый день. Можно покупать разовые отстрелочные карточки на один день, а можно приобрести сразу сезонную – на весь месяц. Так называемые «сезонки» покупают в первую очередь, конечно, местные охотники из Судака. Но есть и любители поохотиться и отдохнуть в палатках на берегу моря с семьями, приезжающие сюда из многих городов Украины и России – Днепропетровска, Запорожье, Орла, Москвы. Я много лет по осени наведываюсь в Капсель во время перелета перепела. Когда попадаю на «высыпки», когда не попадаю! Но всякий раз знаю, что у моря стоят палатки, рядом с которыми бегают охотничьи собаки – в основном, курцхаары, в этих палатках неделями живут мои многолетние знакомые охотники. Они знают и помнят меня тоже. Ведь я приезжаю не только с ружьем и с собакой. Но еще с гитарой и со своими новыми и старыми песнями, до которых они тоже большие любители.
Дров на побережье взять негде – вокруг степь, поэтому долгими вечерами у совместного стола сидим мы при свете луны и нескольких ламп. Тихо звенят гитарные струны, льется очередная песня. Четвероногие наши друзья-собаки лежат рядом со своими хозяевами, чутко насторожив свои большие уши и периодически пытаясь привлечь к себе внимание, укладывая тонкие морды им на колени. Развлечений на берегу не так уж и много – купание днем, чтение книг, конечно же, охота, когда «приходит» перепел. Сейчас еще добавился и интернет, но все это – мелочи. Ведь главное – это чувство единения с природой. Рядом море – волны с тихим шуршанием наползают на каменно-галечный берег, ветер шелестит песком по палаткам. Он иногда бывает здесь очень сильным, порывистым, иногда вообще стихает, и тогда слышно, как где-то далеко-далеко, за несколько километров от палаток, по дороге, прорезающей все урочище, негромко фырчит чей-то автомобильный мотор. Вечером ветер дует с моря, а утром – с берега, с недалеких гор главной Крымской гряды. Классика! «То муссон, то пассат…»
Вот сюда-то и приехал я в тот же вечер с товарищем и с Руной «зализывать» душевные раны. На берегу, как всегда, стояли знакомые палатки и бегали знакомые собаки. Вечер был тих и лунен. После искренних приветствий, выяснилось, что перепела почти уже нет. Высыпки, конечно же, были, что-то осталось, но совсем немного. Меня, честно говоря, это совсем не огорчило. Я приехал «излить» душу. Моя гитара аккомпанировала мне почти четыре часа. И только изредка она прерывалась для того, чтобы слушатели могли поднять очередной тост за дружбу, за хорошую охоту, за собак, за Крым – и еще много-много за что хорошее…
Рано утром мы с моим знакомым и с Руной выдвинулись в поле. И действительно, пройдя несколько километров по холмистым, заросшим небольшой выгоревшей травкой местам, мы почти ничего не обнаружили. Перепела уже не было. Только несколько стоек, только три выстрела – но все в цель. Время приближалось к обеду. Октябрьское солнце еще ярко и жарко светило, поэтому приходилось иногда останавливаться, чтобы напоить собаку и самим попить воды. И тут, прямо по целине, которая была не такой уж и ровной (во всяком случае, даже идя по ней пешком, приходилось, ступая, попадать в мелкие ямы, и взбираться на невысокие холмики), к нам наперерез выкатился здоровенный «внедорожник» серебристого цвета.
– Как для егерей, что-то больно уж крутая тачка! – заметил мой товарищ, разбирающийся в марках автомобилей.
– Последняя модель «Ниссана»! – уточнил он. – Тысяч на сто пятьдесят баксов тянет!
Если честно, то мне было абсолютно все равно, на сколько «тянет» эта, не Бог весть откуда взявшаяся машина. Она явно дисгармонировала с окружающим ландшафтом – горами, травой, жаворонками, парящими в небе. В конце концов – даже с моим внутренним мироощущением пусть и мимолетного, но все же покоя, посетившего меня после вчерашней нервотрепки в Щелкино. «Ниссан» подъехал к нам почти вплотную. Дверь распахнулась, и на подножку, опершись на дверцу вывалился его владелец – сравнительно молодой парень лет тридцати, и явно не охотник.
– Мужики, ну как, перепел есть? – спросил он у нас.
Я показал ему рукою на тощий пакет, который нес мой товарищ.
– Да вот, немного совсем! – ответил я ему.
– Ну, сколько, немного? – продолжал уточнять автомобилист.
– Три штучки только.
– Мужики, продайте! Ну, очень надо! – неожиданно продолжил он.
– Да зачем тебе три штучки-то?
– Да надо позарез!
Мы с товарищем удивленно переглянулись.
– Отдай, раз надо! – сказал я ему.
Мой товарищ подошел к машине и было видно, что они с водителем о чем-то говорят. Мне, честно говоря, было все равно, о чем. Я стоял и смотрел в степь, которая травяными барханами перекатывалась под несильным свежим ветерком и думал: «Вот и еще один год скоро окончится, время летит быстро, перепел ушел, скоро наступит осень и у нас». На душе было легко и спокойно. Все перипетии вчерашних нервных событий казались уже далекими и не столь уж и важными. Ну, дипломом больше – дипломом меньше. Какая разница. Получим мы еще этот диплом. Не сейчас – так в следующем году, не в следующем – так через пару лет.
Мотор взревел, отвлекая меня от философских мыслей, и автомобиль, переваливаясь по кочкам с борта на борт, укатил от нас вдаль. А мой товарищ, подойдя ко мне, протянул мне три пятидесятигривневые купюры.
– Что это? – удивленно спросил я у него.
– Плата за перепелов! – ответил он.
– Не слишком ли?
– Да нет, с учетом стоимости его машины – не слишком. Да я и не просил ничего – сам выдал и уточнил еще – не мало ли будет?
Да уж, в жизни бывают всякие приключения. Может быть и «крутому» владельцу «Ниссана» тоже надо было перед кем-то отчитаться – еще более «крутым» – может, это была жена – мол был не где-нибудь на «лядках», а на самой, что ни на есть охоте, а может – еще кто-то? Вот и доказательства непреложные – свежие птички. А чего так мало – так мало и было. Что взял – то взял! На то и охота…
А свой десяток перепелов мы с Руной все равно тогда «взяли». И вернулись домой, в Симферополь, обиженные, но не побежденные.
С той поры минуло несколько лет. Моя Руна получила уже всеобщее признание в глазах крымских собаководов: родила великолепное потомство, которое в свою очередь тоже показало замечательные профессиональные качества, заработала еще пять полевых дипломов. Все это в совокупности дало ей право получить высшую собачью награду – Большую золотую медаль на Республиканской выставке охотничьих собак. Жизнь и охоты продолжались.