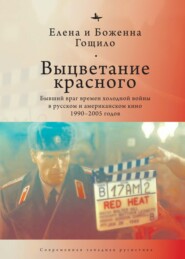скачать книгу бесплатно
Задумчивый Олег, воскресший после своей «смерти по сценарию», в аэропорту Дж. Ф. Кеннеди
Интерпретация Нины Цыркун, рассматривающей аэропорт как чистилище, отделяющее рай Америки от ада России [Tsyrkun 1999: 58], игнорирует тот факт, что сам аэропорт Дж. Ф. Кеннеди находится в Нью-Йорке и поэтому уже является частичкой рая. По понятным причинам критики высмеяли и сам финал фильма, и неспособность Хвана объяснить чудесное воскресение Андрея, особенно в свете довольно претенциозной сцены, обрамляющей повествование. Пока под аккомпанемент траурной музыки Малера идут вступительные титры фильма, мы видим на экране кузнеца, кующего нож. Снятая с обилием концентрированного света, падающего на желто-красные горящие угли, эта сцена и начинает, и завершает фильм, контрастируя со всем остальным его содержанием как по своему цветовому решению, так и по стилистике. Предположительно, она вводит тему «силы судьбы», поскольку Николай убивает Андрея, нанося ему удар точно таким же или этим самым ножом. Однако в таком случае как объяснить внезапное появление Андрея в Нью-Йорке? Может быть, таким замысловатым образом Хван хотел показать посмертное воплощение мечты погибшего о бегстве? Или эпилог фильма говорит о том, что вся история с Таней – это всего лишь фантазия Андрея, его попытка сочинить криминальную драму? Последнее объяснение кажется наиболее вероятным, особенно учитывая пролог фильма, где Андрей мысленно репетирует сценарий, сидя на ступеньке поднимающегося эскалатора в московском метро, – мы видим, что он хорошо умеет придумывать истории[66 - Эта версия соответствует прочтению фильма Анной Лоутон. См. [Lawton 2004: 128].]. В эпилоге он также поднимается по эскалатору – теперь уже в аэропорту Дж. Ф. Кеннеди, – и этот параллелизм придает некоторую завершенность полному дыр повествованию фильма: размышления художника о собственном творчестве обрамляют его студенческое упражнение в криминальном жанре, в котором и он сам принимает участие. Невразумительная реплика Хвана о том, что зрители могут интерпретировать возвращение Андрея по собственному желанию [Лындина 2002, Павлова 1993], едва ли ответит на все вопросы и вряд ли оправдает небрежный и надуманный характер финала картины.
Эпиграф из Первого послания апостола Павла к Коринфянам, сразу после вступительных титров появляющийся на экране, скорее окончательно запутывает зрителя, нежели проясняет загадку последней сцены: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся» [1 Кор 51:167]. Появление Андрея в аэропорту после его предполагаемой смерти в самом деле являет собой «тайну», и кажется, что он определенно «изменился», став счастливым, опытным и уверенным в себе человеком, но при этом история с Таней все равно остается необъясненной, так же как и обручальное кольцо, которое Андрей созерцает с улыбкой.
Но каким бы темным ни было это невнятное завершение фильма, роль Америки как страны надежды, мечты и бегства от непригодной для жизни реальности здесь очевидна. В самом начале истории Андрея и его друга-сценариста Виктора среди других студентов киноинститута вознаграждают длительной стажировкой в Нью-Йорке. Впоследствии Нью-Йорк в фантазии Андрея сыграет роль убежища для Тани, где она могла бы скрыться от российского закона. Как и «Такси-блюз», «Дюба-дюба» показывает Америку как место вознаграждения и свободы – то контрастирующее с повседневностью, несравненно лучшее «где-то», о котором тоскуют русские. Слова песни Элвиса Пресли «Its Now or Never», регулярно появляющейся на протяжении всей второй половины фильма и сопровождающей безмолвный подъем Андрея на эскалаторе в эпилоге, служат отсылкой к «нафантазированной» романтической истории с Таней, в то время как само название песни («Сейчас или никогда») подчеркивает необходимость воспользоваться предоставившейся возможностью и попробовать альтернативный, а может быть, даже и лучший способ существования. В интервью Ирине Шиловой Хван говорит: «С моей точки зрения, кино является чем-то вроде коллективного сновидения человечества», утверждая далее, что эти сновидения более «реальны и истинны», чем повседневный опыт, потому что они представляют собой реальность, в которой подведены итоги [Хван 1992: 166]. Несмотря на всю свою слабость, фильм «Дюба-дюба» передает российский постсоветский коллективный сон о полете в лучший мир, идентифицируемый здесь с бывшим врагом времен холодной войны.
«Америкэн бой» (1992 год, режиссер Борис Квашнёв, Украина)
Нигде образ Америки в постсоветском кино первых лет сближения России и Запада не был настолько лучезарным, как в недооцененной картине «Америкэн бой», в основе названия которой также лежит текст песни[67 - Хотя фильм украинский, говорят в нем по-русски. Строка популярной песни 1980-х годов «Америкэн бой, уеду с тобой» отражает типичные устремления молодых женщин того времени. Жюри московских журналистов присудило фильму приз за его конкурентоспособность, и в бывших советских республиках он привлек в кинотеатры огромную аудиторию. См. [Муравьев 1993].]. Правда, этот образ усложняется из-за проблемы двойной идентичности героя (Александр Песков). С одной стороны, он – русский, Коля Найденов, сын неизвестных родителей (Найденов – «найденыш»), выросший в приюте и обучившийся военному искусству на Афганской войне; а с другой стороны – американский гражданин Ник Маккенн, спортивный инструктор, эмигрировавший в США и женившийся на Дебби (Анна Униговская), чистокровной американке в нескольких поколениях, излучающей доброжелательность первых американских поселенок и вынашивающей его ребенка. Хотя большая часть фильма снята в украинской провинции, начинается картина сценой в Силвер-Спринге (штат Мэриленд), где российские телерепортеры берут интервью у Ника на фоне его большого комфортного дома, на который камера делает наезд после установочного кадра[68 - Установочный кадр (или адресный план) – в монтажном решении сцены: общий план, определяющий для зрителя место действия и мизансценическое сорасположение актеров и предметов. – Примеч. пер.], снятого уравновешенным и спокойным общим планом.
В этом одном из первых постсоветских фильмов, показывающих на экране подлинный американский город[69 - Снятый, однако, в другом месте.], а не описывающих вербальными формулами некую мифическую страну, Квашнёв мгновенно отмечает разительный контраст между двумя нациями – бывшими участницами холодной войны. Для этого он прибегает к метафоре «дома» и «места обитания», которая с некоторыми изменениями оставалась доминирующим тропом в русскоязычных фильмах девяностых годов[70 - Утверждение Е. М. Стишовой о том, что постсоветский кинематограф, в отличие от кинематографа Андрея Тарковского, больше не использует метафору стремления к отцовскому дому как к нормальной жизни («Тоска по нормальной жизни не оборачивается больше образом отчего Дома, как у Тарковского» [Стишова 1993:66]), попадает точно в цель. Фактически возможность обретения постоянного дома и спокойной жизни лежит за границей.]. Отвечая на вопросы журналистов перед просторным и комфортным домом, вероятно, доставшимся его жене в наследство, Ник отмечает, что в России он никогда не имел настоящего имени, дома и семьи и что его спасение Красным Крестом из заключения (по всей видимости, в Афганистане) и последующий перелет в Америку обеспечили ему новую и счастливую жизнь. Это утверждение, вкупе с гостеприимством Ника, ведущего дружественную беседу с репортерами в хорошо обустроенной гостиной, а также залитые солнцем улицы правдоподобно выглядящего Силвер-Спринге, визуально разительно контрастируют со сценой прибытия Ника в Россию – дождливую, неряшливую и безотрадную. Вернувшись сюда, чтобы навестить своего друга Сергея Губанова (спасшего его в Афганистане), Ник на каждом шагу сталкивается с преступлениями, предательством, насилием и жестокостью. В целом Америка представляет в фильме безопасность и тепло Дома и Порядка; Россия же здесь – дикая территория, на которой царят движимые страхом и эгоизмом атавистическая агрессия и беззаконие. В этом смысле Россия в целом отражает личный опыт Коли, пережившего беспризорное детство, войну и тюремное заключение[71 - Спустя десятилетие «Война» Алексея Балабанова создаст новый мрачный образ Родины.].
Разительное различие между двумя странами Квашнёв частично передает посредством противопоставления разных жанров. Короткий американский сегмент фильма напоминает семейную драму или мелодраму, он подчеркивает любовь, согласие, надежность и эмоциональную близость в отношениях между Ником и его женой Дебби (их постоянные объятия и поцелуи, игры, а также забота о благополучии и комфорте гостей). Вся эта роскошь, однако, невозможна в постсоветской России, где сами жизненные обстоятельства очень быстро превращают нежного мужа Ника в эксперта по боевым искусствам Колю, одновременно преобразуя и жанр фильма в криминально-приключенческий боевик, где подобный Сталлоне или Ван Дамму герой демонстрирует свое искусство уничтожать «врагов» – то есть всех, кто встает на его пути.
Повествование в фильме линейное, темп развития динамичный: оказавшись в России, Коля узнает от беременной жены Сергея Тани (Галина Мороз), что ее муж убит. Затем следует напряженная встреча с Пашкой (Олег Рогачев), товарищем по Афганской войне, прикованным к инвалидной коляске. Предоставленная им информация, перемежаемая обиженно-язвительными фразами вроде «Возвращайся в свою Америку!»[72 - Эта обидная насмешка повторяется и в позднейших фильмах, таких как «Дикая любовь» Виллена Новака.], в конечном итоге приводит Колю к пониманию произошедшего: работая охранником в частном кафе, Сергей был ликвидирован группировкой, занимающейся наркобизнесом. Далее следует тяжелая сцена, в которой члены этой группировки зверски пытают и убивают жену Сергея. Полный решимости отомстить за оба убийства, Коля систематично и жестоко уничтожает всех причастных к этим преступлениям. Его действия в конце концов пересекаются с расследованием, которое в это же время ведет немолодой лейтенант милиции Иван Данилович Мухин (почитаемый киноаудиторией ветеран экрана Владимир Гостюхин), носящий красноречивое прозвище Железяка. Трудолюбивый милиционер, чья прямота и честность мешают ему продвинуться выше звания лейтенанта, Мухин быстро заменяет Коле отца[73 - Тема биологического и суррогатного отцовства была весьма популярна в постсоветских фильмах: «Американская дочь» Карена Шахназарова, «Вор» Павла Чухрая (1997), «Папа» Владимира Машкова (2004) – все три с Владимиром Машковым в главной роли; «Коктебель» Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского (2003); «Отец и сын» Александра Сокурова (2003); «Возвращение» Андрея Звягинцева (2003). Об отцах в современном российском кинематографе см. в [Goscilo 2010].]. Во время обеда в ресторане гостиницы «Интурист» он сочувственно выслушивает Колины воспоминания о войне; вместо того чтобы арестовать Колю, Мухин провожает его в аэропорт, гарантируя ему благополучное возвращение домой в Соединенные Штаты; наконец, он открывает Коле свое имя, которым тот обещает назвать сына.
Роль Мухина в фильме – ключевая: он выполняет функцию профилактического средства, не позволяя прийти к вытекающему из логики фильма заключению, что дело России безнадежно[74 - Пересечение личной вендетты Коли и официального милицейского расследования также избавляет его от роли простого мстителя: как он сам говорит Мухину, «я выполнил вашу работу за вас».]. Во время обеда в необычно пустом ресторане гостиницы «Интурист», где герои по-настоящему узнают друг друга, Коля спрашивает у него: «Что вы со страной сделали, как можно так жить?» – на что лейтенант милиции отвечает ему, вторя твердолобым героям Сильвестра Сталлоне: «Здесь нет настоящих людей». Идея, что лишь горстка «настоящих мужчин» может привести страну в порядок, подкрепляется и самим сюжетом фильма. «Все же Россия выживет», – замечает Мухин, давая понять, что именно такие люди, как он, сыграют решающую роль в процессе ее выживания, а может, даже и спасения.
После ритуальной серии убийств, совершенных преимущественно Колей, в конце фильма Квашнёв усложняет его идеологический смысл несколькими неожиданными визуальными мотивами и репликами. Во время разговора героев в гостиничном номере, пока Коля смывает кровь с разбитого лица, камера фокусируется на Мухине, который смотрит на висящую на стене картину – репродукцию знаменитых «Богатырей» В. М. Васнецова (1898)[75 - Примечательно, что «Брат 2» Алексея Балабанова, который на подсознательном уровне находится в огромном долгу перед «Америкэн боем», также использует картину Васнецова в качестве культурного референта. Иногда юмористически, иногда всерьез – реклама, постеры и фильмы постсоветского времени использовали этот визуальный образ как проект возрождения былой славы России. См. [Goscilo 2008: 248–253].]. Стойкие защитники православия и границ Русской земли в тяжелую для нации эпоху Средневековья, эпические герои выглядят очевидными прототипами и Коли, и Мухина, этих современных паладинов на службе правосудия, предшественников героя фильмов А. О. Балабанова «Брат» и «Брат 2». Как говорит Мухин, «я своих не сдаю»[76 - Противопоставление «наших» / «своих» и «ваших» / «чужих» опирается на разделяющие добро и зло географические или моральные границы и коренится в традиционной русской ксенофобии, а также в постсоветской уязвленной гордости России как страны, потерявшей свой международный статус.], – хотя на протяжении фильма все встречавшие Колю воспринимали его как американца и называли американцем. Кроме того, строки из популярной песни 1980-х годов, давшие название фильму, – «Америкэн бой, уеду с тобой»[77 - Популярность этой песни указывает на значимость американской темы для русской культуры 1980-х и 1990-х годов. Заголовок рецензии на «Русский отдел» состоит именно из строки песни «Америкэн бой» [Сашко 1992].], – указывают на предстоящее возвращение героя, а песня, сопровождающая саму сцену перелета Коли / Ника, – не что иное, как американское «Never тоге» («Никогда больше»), последнее прощание Ника с Россией[78 - Название фильма (намеренно или нет) обыгрывает слова «бой» и «боевой», являющиеся точными характеристиками деятельности Коли в постсоветской России, а также самых трудных и памятных лет его жизни, проведенных в Афганистане.]. Но несмотря на то, что в «Америкэн бой» постсоветская Россия представлена как нечто среднее между боксерским рингом и убойным отделом, честь и борьба за справедливость все же помогают подружиться «американцу» Нику и русскому милиционеру Мухину – точно так же, как в «Такси-блюзе» музыкальный талант объединил русского и американского джазовых саксофонистов. С такими людьми, как Иван Данилович, и с помощью Америки Россия в итоге может стать «нормальной» страной. Свой жестокий и усыпанный трупами кинорассказ Квашнёв завершает на оптимистичной ноте возвращения русско-американского героя на Запад.
«Американский шпион» (1991 год, режиссер Леонид Попов)
«Американский шпион», в значительной степени проигнорированный как рецензентами, так и критиками, схож с «Америкэн бой» несколькими чертами. Здесь также присутствует и роман между американкой и русским, поверхностно очерченный и визуально отодвинутый на второй план, чтобы выделить приключения героя; и попытка показать «Америку» на экране; и сокрушительное обвинение российской действительности, контрастирующей с американской; и оптимистичный финал, где главный герой, в данном случае предположительно, также отправляется на Запад. Расходятся эти фильмы во многих аспектах, но два из них принципиально важны. Во-первых, «Американский шпион», охватывая разные эпохи, предлагает темпорально двойственный взгляд на Россию. Большая часть событий происходит непосредственно после Второй мировой войны, когда Советский Союз и Штаты, будучи союзниками-победителями, еще официально пребывали в теплых отношениях; последняя же сцена переносит нас в переломный 1991 год – главным образом для того, чтобы обеспечить фильму контрастный и наспех сконструированный «хэппи-энд». Во-вторых, если «Америкэн бой» показывает дикость постсоветской жизни, то «Американский шпион» обличает жестокость именно советской системы, в особенности за то, как она отправляла невинных граждан отбывать срок в необъятной сети удаленных трудовых лагерей.
Иронично названный «Американским шпионом», фильм начинается в советской тюрьме, но через воспоминания героя действие вскоре переносится в неясно очерченную Америку, где в 1945 году Николай Королев (Федор Сухов), молодой морской офицер с советского корабля, спасает тонущую американку Мэри Мёрфи (Айрин Торнтон). Офицер советской контрразведки сообщает властям об их романе, обвиняя Николая в том, что под прикрытием фиктивной любовной связи тот занимается шпионажем и передает Мэри секретную информацию. Спешно арестованного, допрошенного и избитого Николая заочно приговаривают к десятилетнему заключению. Когда Мэри убеждает его бежать с ней в Штаты, он категорически отказывается покинуть СССР («Я люблю родину»), и только во время отбывания срока начинает прозревать, видя, что его любимая родина полна людей, несправедливо осужденных на каторгу. Когда он после отчаянного побега оказывается в тундре на грани смерти, его спасает кочевник-оленевод, помогающий ему переправиться через Берингов пролив в Америку, где Николай надеется воссоединиться с Мэри. Вновь захваченный советскими пограничниками, он возвращен в лагеря. Сорок шесть лет спустя постаревший и седой Николай, с юности обладавший талантом рисовальщика, теперь занимается тем, что продает мгновенно нарисованные с натуры портреты, сидя на Старом Арбате. Это место с богатым культурным прошлым, увековеченное бардом Булатом Окуджавой, было выбрано авторами фильма в надежде завоевать симпатии российской аудитории. Когда молодой прохожий-американец (оставшийся в фильме безымянным) случайно замечает выполненный Николаем набросок молодой женщины, очень похожей на его мать, он мгновенно приходит к выводу, что перед ним – отец[79 - В отличие от россиянки Ксении Боголеповой, сыгравшей роль американкиСью в «Дикой любви» Виллена Новака, актер изъясняется на грамматически безупречном разговорном русском языке, но с американским акцентом. В целом российские фильмы сталкиваются с трудностями при изображении попыток американцев говорить по-русски: грубый акцент и незнание базового сленга, используемого молодежью, сочетаются с самоуверенным использованием разговорных идиомам. Это особенно актуально для фильма «Дикая любовь», где Сью понимает и даже сама составляет сложные предложения, но при этом, – будучи обитательницей студенческой среды! – не знает элементарного слова «жопа». Та же проблема касается и американских фильмов, в которых нерусские актеры исполняют русские роли.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: