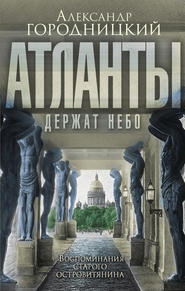скачать книгу бесплатно
Я люблю духовые оркестры,
Что других мне оркестров нужней.
Это все начинается с детства,
С довоенных забывшихся дней.
Те старинные слушая марши,
Что запомнил тогда наизусть,
Почему-то я делался старше
И впадал в непонятную грусть.
Поистлели нашивки и канты,
Неуместны в эпохе другой,
Те военные спят оркестранты
Кто под Гатчиной, кто подо Мгой.
Позабыть бы давно это надо —
Где обратно дорогу найду?
Догнивает пустая эстрада
В Соловьевском осеннем саду.
Мне оркестр духовой не поможет,
Впереди холода и дожди.
Отчего же, скажи, отчего же
Снова сердце заныло в груди?
Не вернуть мне васильевских линий.
Что я в жизни хорошего знал?
Все уходит, как в фильме Феллини,
Где всегда неизменен финал.
Где теряешь и дом, и подругу,
И годами налаженный быт,
А оркестр все ходит по кругу
И веселые марши трубит.
Одна из моих нянек, набожная старуха из-под Крестец, во время прогулок ежедневно таскала меня в Андреевский собор на церковные службы, строго-настрого наказав не рассказывать об этом матери. Более всего любила она отпевания. Торжественность мрачноватого этого обряда, усугубляющаяся казавшейся мне странной неподвижностью лежавшего человека, бледное лицо которого ярко освещалось свечами в таинственной полутьме храма, необычно выпевавшиеся слова, терпкий запах плавящегося воска – все это внушало тоску, побуждало скорее выйти наружу, под яркий солнечный свет, на нагретые каменные ступени, где играли другие дети. Я не мог разгадать пугающей тайны смерти и понял тогда только одно: смерть – это неподвижность. В 36-м с собора сорвали кресты, и церковь свое существование прекратила.
Вместо свергнутого Бога появлялись другие. Помню, как над воротами домов на нашей линии прибивали странный знак Осоавиахима – с винтовкой, пропеллером и противогазом, напоминающий языческий тотем, который должен был защитить жилище от беды. Увы, не защитил.
Поскольку мать и отец нередко возвращались домой поздно, спать меня в раннем детстве, как правило, укладывали няньки, так что я хорошо запомнил и полюбил старые народные и колыбельные песни, которые они пели. Больше других запомнились мне две песни. Одна из них начиналась строчками:
Спи, дитя мое, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.
Вторая, которую, я, конечно, так же как и первую, услыхав впервые от своих нянек, считал народной, начиналась так:
Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман:
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.
Уже через много лет я сильно удивился, узнав, что слова одной песни принадлежат Якову Полонскому, а второй – другу Пушкина Антону Дельвигу. Именно эти песни всплывают в моей памяти как одни из первых в жизни.
Стена, как Ванька-встанька,
От двери до угла.
Поет мне песню нянька
Про солнце и орла,
Крестецкою растяжкой
Коверкая слова.
Садится солнце тяжко
В окне за острова.
Орел, избегнув сети,
Летит к себе домой.
Струится теплый ветер
По линии Седьмой.
Июньское бесцветье
И тридцать пятый год.
Струится пыльный ветер
Вдоль запертых ворот,
У близкого причала
Качая корабли.
Вот здесь мое начало
И край моей земли,
Где то, что в коммуналке,
И то, что за стеной,
Покачивает валко
Единою волной
Та песня, что надолго
Мне на душу легла,
Как ощущенье дома,
И света, и тепла.
Что касается самого Пушкина, то первая картинка, увиденная мной на стене нашей узкой комнатки, – большой, работы Тропинина, портрет Пушкина с перстнем на пальце. Отец вырезал эту литографию из какого-то журнала и повесил над моей кроватью.
Так что с Пушкиным я знаком почти с самого рождения.
А с улицы из черных репродукторов гремели другие песни и марши, заполняя собой окружающее пространство и призывая воевать и строить: «Нам нет преград на море и на суше», «Мы железным конем все поля обойдем», «Сталин – наша слава боевая». От песен этих становилось весело и тревожно, хотелось маршировать вместе со всеми, бороться и обязательно побеждать. Только через много лет, привыкший к этим песням, как к неотъемлемой части моей жизни, я вдруг обратил внимание на то, что почти ни в одной из них нет местоимения «я» – вместо него всегда безликое «мы». Так исподволь, через песни, в подсознание слушающих вливалась привычка все делать строем, по команде: сеять, строить, воевать, ненавидеть и даже любить. Сейчас, когда в дни Первомая или 7 ноября я вижу на улице редеющие группы плохо одетых стариков с орденскими колодками, размахивающих красными флагами и распевающих надтреснутыми голосами эти старые песни, сердце мое сжимается от жалости к ним и горечи за наше обманутое поколение.
Что же касается песен времен революции, то их тоже, конечно, пели, но постепенно они как бы уходили из жизни. Это относилось и к «Варшавянке», и к «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и ко многим другим песням. Набирающему силу авторитарному режиму, хотя еще и называвшему себя революционной властью, такие песни были уже не нужны.
Мне вспоминается небезопасная шутка отца. Мы с ним стояли на краю тротуара на Большом проспекте, а мимо нас шагом двигался кавалерийский эскадрон в буденовках с алыми звездами и шишаками сверху. Эскадрон лихо распевал «Интернационал». Когда я спросил у отца, для чего на буденовках эти суконные шишечки сверху (их еще называли «громоотводами»), он, усмехнувшись, сказал: «А ты слышишь, они поют: «Кипит наш разум возмущенный»? Вот через них пар и выходит».
Моя теща, Нина Ивановна Сундарева, как-то в разговоре заметила, что почти все песни революции – переводные, пришедшие к нам с Запада, ни одна из них практически не родилась в России. Это и «Интернационал», и «Марсельеза», и та же «Варшавянка». Красноармейцы на Гражданской войне, у костров, подальше от бдительных комиссаров, эти песни не пели. Они предпочитали петь «Ермака» и другие народные песни. Часто одни и те же песни пели и белые, и красные. О чем это говорит? Не о том ли, что сам дух революции, бунта «бессмысленного и беспощадного», чужд российской душе? Вслушайтесь в раздумчивый тон русских народных песен, вы не отыщете в них и следа грозных мятежей, не раз сотрясавших империю. Даже гениальная стилизация Блока в «Двенадцати» – «Уж я ножичком полосну, полосну!» – кажется на этом фоне чужеродной и явно звучит из уст маргиналов, которым «на спину б надо бубновый туз».
В 33-м году отец перешел на работу на Картографическую фабрику Военно-морского флота, где проработал почти всю жизнь – около тридцати пяти лет. Имя его не раз упоминается в книгах, посвященных истории гидрографии ВМФ в нашей стране.
Даже в те дни, когда отец и мать были вечером дома, они, как правило, работали. Мать проверяла бесконечные ученические тетради, а отец готовился к занятиям или штудировал очередную полиграфическую литературу, которая тогда в основном была на немецком языке. По вечерам, засыпая, я видел отца или мать, склоненных над столиком при неярком свете настольной лампы. Зрелище это вселяло чувство покоя и уюта. Зато настоящими праздниками были те нечастые дни, когда отец ненадолго освобождался и мы отправлялись гулять. Основным местом этих гуляний была набережная Невы, куда няньки не слишком любили ходить, предпочитая ближние бульвары и садики. Здесь начинался другой мир.
Под сырым пронизывающим до костей балтийским ветром поскрипывали у причалов самые разные суда – от гигантских (так мне тогда казалось) пароходов до маленьких, густо дымивших буксиров, которые все почему-то носили имена героев Великой французской революции – «Сен-Жюст», «Демулен», «Робеспьер». Веселые матросы курили на палубах. Иногда там же можно было услышать звуки баяна и лихие матросские песни, из которых запомнилась: «По морям, морям, морям, морям. Нынче здесь, завтра там». За маленькими круглыми окнами в медной оправе, светившимися в черном борту, происходила какая-то таинственная жизнь – уже не на земле, а в другой, хотя и близкой, не далее шага, но совершенно недоступной стихии. Это детское ощущение сладкой притягивающей тревоги и непреодолимого любопытства я вспомнил уже взрослым, когда впервые прочел строки Осипа Мандельштама: «Зимуют пароходы. На припеке зажглось каюты толстое стекло».
Другим любимым местом был зоопарк на Петроградской стороне. Туда надо было ехать на трамвае, хотя и не слишком далеко, а все-таки – настоящее путешествие через мосты. Трамваи тогда были с открытыми площадками и колокольчиком, объявлявшим отправление. Вечером на них зажигались разноцветные огни – для каждого маршрута свой, чтобы можно было опознать в темноте нужный номер. Сейчас трамваев в Питере почти не осталось. Их вытеснили на дальние окраины пахнущие бензином автобусы и маршрутки. А жаль.
Прощай, трамвай, прошла твоя пора.
Ты вровень стал с ненужными вещами.
Тебе вчера лишь оды посвящали,
А нынче выгоняют со двора.
Прощай, трамвай, не надо лишних слов.
Ты в прошлое ушел. Не на тебе ли
Сквозь питерские черные метели
Летел навстречу смерти Гумилев?
На рубеже изменчивых времен
Не ты ли вызывал в сердцах стесненных
Церквей, большевиками разоренных,
Из детства возвращенный перезвон?
В блокадные лихие времена,
Будя людей неугомонным звоном,
Внушал ты горожанам истощенным —
Мы победим, и кончится война.
Прощай, трамвай, тебе уж не звенеть
По площадям и набережным старым.
Тебя автобус не заменит впредь,
Бензиновым чадящий перегаром.
Забуду ли мальчишеских времен
Былой азарт? По островам зеленым
Ты двигался к футбольным стадионам,
Обвешанный людьми со всех сторон.
В далекие студенческие дни
Ты неизменно доставлял нас к цели,
Через дожди, туманы и метели
Светили разноцветные огни.
Теперь к поре не возвратишься той,
Когда во тьму мы вглядывались зорко,
Где шла зеленоглазая «семерка»
И желтоглазый шел «двадцать шестой».
Прощай, трамвай, ты устарел давно.
С тобою завтра встретимся едва ли.
Те парки, где трамваи ночевали,
Распроданы теперь под казино.
Прощай, трамвай, скорее уезжай.
Твой звон я не услышу спозаранку.
Ты вытеснен сегодня за Гражданку,
За Купчино, за Охту, за Можай.
Прощай, трамвай, судьба твоя темна.
Мы оба – уходящие натуры,
Два персонажа той литературы,
Которая сегодня не нужна.
В зоопарке, налюбовавшись на слонов, жирафов и львов, мы обычно шли кататься на «американские горы». Маленькая тележка с лязгом и звоном взлетала вверх и стремительно неслась вниз по крутым головокружительным виражам, проскакивая через какие-то тоннели. Сердце замирало от ужаса и восторга.
Кстати, именно здесь, на Петроградской, несколько позднее, когда я уже мог по складам читать объявления на стенах и вывески, я сделал неожиданное для себя открытие. Зная наизусть «Доктора Айболита», я пришел в восторг, увидев на угловом доме надпись: «Бармалеева улица». Вот оно что, оказывается, даже улица есть в честь Бармалея! Мне тогда, конечно, было невдомек, что все как раз наоборот. Здесь прежде жил богатый английский купец Бромлей, по фамилии которого и была названа улица, а уже по названию улицы придумал Корней Чуковский имя своему герою.
В последние годы, приезжая в Питер, я часто останавливался на Петроградской стороне в квартире моего друга, исследователя литературы Серебряного века и творчества обэриутов профессора Александра Аркадьевича Кобринского. До своего переезда жил он на улице Подковырова, параллельно которой идут улицы Подрезова, Бармалеева и Плуталова. Само перечисление этих чудесных названий – уже почти готовая стихотворная строчка. Несколько лет назад я написал песню «На Петроградской», которую профессору Кобринскому и посвятил:
Подковырова, Подрезова,
Бармалеева, Плуталова.
Успокой меня, нетрезвого,
Подбодри меня, усталого.
Ах, родная Петроградская,
Меж Большой Невой и Невкою!
Там примеры нынче брать с кого?
Там влюбляться больше не в кого.
Почему в моих глазах тоска,
На губах моих ирония?
По Введенской и по Лахтинской
Ходят люди посторонние.
Ходят с вечера до вечера
По Зверинской и по Гатчинской.
Здесь искать мне больше нечего —
Все былое смыто начисто.
Бармалеева, Плуталова —
Только разве дело в имени.
Все подруги стали старыми,
Все друзья мои повымерли.
Ты меня припомни резвого,
Дай мне запах снега талого,
Подковырова, Подрезова,
Бармалеева, Плуталова.
Любил я и праздничные демонстрации, особенно первомайские, куда отправлялся либо с мамой и ее школой, либо с отцом. Второй вариант был гораздо привлекательней, поскольку колонну картфабрики обычно возглавлял большой военно-морской оркестр, да и в самой колонне было довольно много людей в морской форме. Это вселяло иллюзию причастности к морю. Да и сама морская форма осталась любимой на всю жизнь.
Когда в марте 1985 года неожиданно выяснилось, что у отца рак легких и оперировать его бесполезно, я, пытаясь отвлечь отца от размышлений о болезни, уговорил его начать писать воспоминания о своей жизни. Поначалу он никак не мог к ним приступить, но, будучи человеком крайне трудолюбивым, понемногу втянулся в это занятие и успел написать довольно много. Уже после его смерти, внимательно прочитав написанное, я еще раз ощутил горькое чувство сиротства, незнания своих даже самых, казалось бы, близких корней.
Из записок его я узнал многое, о чем при нашей многолетней жизни в одной комнате даже не догадывался, – например, о том, как в 49-м году, когда началась «борьба с космополитами», отца чуть не посадили по ложному доносу и наших соседей по квартире вызывали в Министерство государственной безопасности, чтобы они дали на него показания. К счастью, все наши соседи были людьми порядочными.
Более всего отец любил книги, которым, будучи полиграфистом, посвятил свою жизнь: работу на картфабрике он совмещал с преподаванием в Ленинградском полиграфическом техникуме и Промакадемии, а выйдя на пенсию, руководил дипломными проектами и принимал постоянно участие в конкурсных комиссиях Ленинградского общества научно-технических изданий, заместителем председателя которого был много лет. Беря в руки красиво изданную книгу, он всегда радовался. Как-то он сказал, что брать в руки неряшливо изданную или грязную и затрепанную книгу хорошего автора так же неприятно, как общаться с умным и талантливым человеком в грязной и рваной одежде.
Судя по воспоминаниям отца, читать я научился по газетным буквам к пяти годам, а стихи запоминал со слуха довольно легко и очень любил читать их во время прогулок совершенно незнакомым людям. Вот что написал в своих записках отец без тени юмора. «На бульваре Алик мог подойти к сидящему на скамейке человеку и спросить: «Дядя, вы знаете стихи про челюскинцев?» Если тот говорил «нет», Алик выпаливал ему это стихотворение от начала до конца. Вот откуда у него появилась любовь к публичным выступлениям».
Почти каждое лето родители выезжали вместе со мной в Белоруссию – в Могилев или под деревню Полыковичи, «на Полыковские хутора». После тесной василеостровской комнатушки и питерских дождей белорусская солнечная деревенская вольница казалась сказочной. В памяти смутно брезжат протяжные белорусские песни, и до сих пор звенит в ушах лихая «Лявониха» с замечательными четырехсложными рифмами: «Лявониха – душа ласковая, черевичками поляскивала».
Не браню своих дней остаток,
Собирая в дорогу кладь.
Бог послал мне восьмой десяток,
А ведь мог бы и не послать.
Я в грядущем себя не вижу:
Дунет ветер – и нет меня.
Мне сегодня прошлое ближе
День становится ото дня.
Постепенно впадая в детство,