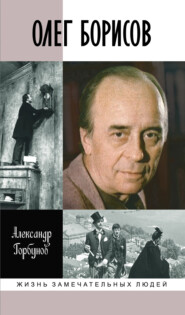скачать книгу бесплатно
В «Беседах…» на Борисова сильное впечатление произвело упражнение, когда немому нужно объясниться в любви к женщине, как при этом вместо чарующего голоса должен был появиться отвратительный скрип. «Я этот скрип, – рассказывал спустя годы Олег Иванович, – хорошо натренировал и стал с ним ко всем приставать. Додумался еще забраться в колодец и читать оттуда “Сказку о Золотом петушке”, да так, чтобы слышали в доме. Ложился между грядок и клал на грудь кирпичи – учился постановке голоса». Звук, как известно, держит диафрагма. Как у певцов. И Олег диафрагму, как ему советовали, постоянно укреплял. Делал дыхательные упражнения, включая дыхание при давлении на грудь кирпича или булыжника.
Перед очередной волейбольной баталией на территории дома отдыха Олег взобрался на огромный пень, стоявший на краю поляны, и стал читать Покровскому монолог Бориса Годунова. Алексей не выдержал – захихикал: «Зачем тебе это? Ты читай какую-нибудь пушкинскую сказку, о Золотом петушке, например…»
Хотел было Олег подготовить к вступительным экзаменам поэму А. С. Пушкина «Домик в Коломне», но его вовремя отговорили; поэма чрезвычайно трудна для чтения:
Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
«Домик в Коломне» Борисов читал в феврале 1989 года в Концертном зале им. П. И. Чайковского на талантливо придуманном сыном Юрой вечере, посвященном 190-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Алексею Олег, признаться, не поверил и завел перед приемной комиссией годуновское «Достиг я высшей власти…»… Но Михаил Михайлович Тарханов, комиссию возглавлявший, правоту Покровского подтвердил. Почему, кстати, Борисов к вступительным экзаменам в Школу-студию решил подготовить монолог Бориса Годунова? «Решение, – рассказывал он, – было принято под впечатлением рассказа моего отца Ивана Степановича о том, что наш род происходит от знатного воеводы периода Ливонской войны Ивана Бутурлина. Значит, из знати. Этот окольничий был брошен Годуновым на борьбу с повстанцами. Бутурлин погиб со словами: “Бояре Борисовы от смерти заговорены!” Я это рассказал М. М. Тарханову, который, увидев меня перед комиссией, спросил: “Молодой человек, зачем вам этот монолог? Басенку… Такое впечатление, что вы давно не видели себя в зеркале”.
Я и вправду был соломинкой, в деревне меня называли “шкилей”. Только что “затяпал зверка” (на нашем жаргоне это значило: украл курицу), и вот я уже перед комиссией, и из моих уст полилось: “…Достиг я высшей власти; Шестой уж год я царствую спокойно…”
И до конца. У Тарханова появилась ухмылочка, правда, доброжелательная. Я еще захотел как-то оправдаться: “Понимаете, Михаил Михайлович, вот чую, что сыграю когда-нибудь царя или монарха…” И в грудь кулаком. “Это хорошо, что есть такая уверенность, но сначала – если примем – челом бить учиться будете, кланяться до земли, за полу хвататься”. Тарханов как в воду глядел. Только на сороковом году жизни монарха сыграл, да и то – английского».
Борисова в Школу-студию приняли сразу (при тогдашнем конкурсе около двухсот человек на место). Приятеля – нет. Доводилось читать совсем уж смехотворную версию истории поступления Олега в Школу-студию. Будто бы он решил остаться на японском отделении Института востоковедения, но товарищ его (тот самый, которого не приняли) сдавал экзамены в Школу-студию и попросил Олега «подыграть (?) в нескольких сценках»…
Педагогов своих Борисов называл «прекрасными». Часто вспоминал Александра Михайловича Карева, Георгия Авдеевича Герасимова, Сергея Капитоновича Блинникова, Бориса Ильича Вершилова (знаменитого режиссера, работавшего еще со Станиславским), Марию Степановну Воронько…
Авнера Яковлевича Зися, преподававшего диамат, Борисов называл «замечательным человеком». «Замечателен, – рассказывал, – он тем, что, рассказывая о какой-нибудь работе Сталина, быстро от нее отвлекался и уходил в дебри высокой философии. У многих, кто вызывал у него опасения, и у меня в том числе, он спрашивал перед экзаменом: “Знаешь? Если нет, ставлю тебе тройку и можешь не приходить…” Видя наше кислое, недовольное лицо, тут же предлагал четверку… однако с тем условием, что мы в этой жизни будем иногда сомневаться… не станем самоуверенными баранами… Если говорят: “черное”, нас хоть на секунду посетит сомнение… Авнер Яковлевич дружил с нами и после того, как мы окончили Студию. К нам пятерым, распределенным в Киев, он приезжал на один день. Без чемоданчика, просто пообщаться. Приглашал в ресторан, заказывал котлеты по-киевски и сам расплачивался. Что-то искал в наших глазах…»
Олег Иванович рассказывал, как выучил в Школе-студии рассказ А. П. Чехова «В Москве», начинающийся:
«Я московский Гамлет. Да. Я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам и редакциям и всюду говорю одно и то же:
– Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!
И мне сочувственно отвечают:
– Да, действительно, ужасно скучно».
Этот Гамлет казался Олегу фельетонным, и он обратился к Вершилову, преподававшему актерское мастерство, с просьбой послушать его чтение.
Он остановил принявшегося читать Борисова почти сразу и попросил читать так, как будто он, Вершилов, и есть «московский Гамлет». Олег запротестовал: «Тут совсем не так, Борис Ильич. Разве вы “легко миритесь с низкими потолками, и с тараканами, и с пьяными приятелями, которые ложатся на вашу постель прямо с грязными сапогами?”» Вершилов отвечал не задумываясь: «Легко мирюсь, молодой человек, представьте себе, приходится. И что каждую минуту Америку открываю – тоже правда. Тут все про меня. (Он открыл томик Чехова и стал приводить другие примеры из текста.) Например, “когда говорят мне, что Москве нужна канализация или что клюква растет не на дворе, то я с изумлением спрашиваю: ‘Неужели?’ ” За всем этим, мой милый Олег, не я один, а все поколение отстрелянной интеллигенции. Зачем же так немилосердно его бичевать? Посочувствуйте. А этот монолог просто до слез трогает: “С самого рождения живу в Москве, но, ей-богу, не знаю, какой город богаче: Москва или Лондон. Если Лондон богаче, то почему?”». Он как-то трогательно пожал плечами, и в один момент Борисову показалось, что он действительно заплачет. «Трагедия! Как для гоголевского Гаврюшки, который не мог решить, какой из городов партикулярней – Рязань или Казань?»
«И тут же, улучив момент, начинаю, – рассказывал Борисов в дневнике, – задавать Вершилову глупые вопросы: например, как сегодня играть Гамлета? “А что, тебе уже предложили? – тут же переспросил Вершилов. – Знаешь такое латинское выражение ‘Буриданов осел между двумя лужайками’? Жил когда-то умный философ Буридан, он и поведал миру эту притчу: осел находится между двумя стогами сена, одинаково от него удаленными, долго колеблется в выборе, начинает между ними метаться и, в конце концов, умирает с голоду… Трагедия! То же и с нами, только вопрос не в том, ‘быть или не быть?’, а вопрос: ‘с кем быть?’ Понимаешь – с кем? Я вот и у Михаила Чехова побывал, и у Вахтангова. Ты что-нибудь слышал о моей постановке ‘Разбойников’?.. Ко мне ведь во МХАТе отношение настороженное, прохладное, даже со стороны студентов…” – и он, погладив меня по голове, зашагал по коридору. Я на всю жизнь запомнил эту удаляющуюся тень». И на всю жизнь запомнил урок Вершилова: «После тебя никому не должно захотеться произносить твой текст. Пусть это даже роль Гамлета. Вложи в нее свой уникальный смысл и сумей им воздействовать – вот и все!»
Борис Ильич Вершилов, стоит заметить, был инициатором того, чтобы в студенческой работе на втором курсе – гоголевской «Женитьбе» – Олег играл не очевидного для его натуры Кочкарева (роль Ильи Фомича Кочкарева Олег Иванович, к слову, блестяще сыграл в 1977 году в фильме Виталия Мельникова «Женитьба»), персонажа всегда почти взвинченного, хлопочущего «черт знает для чего», а – Ивана Кузьмича Подколесина (в фильме его играл Алексей Петренко – еще одно точное режиссерское «попадание в актера»), человека в некотором роде заторможенного, с характером, ничего общего с характером молодого Борисова не имеющего.
«Заставив Борисова работать над ролью Подколесина, – считал театровед Сергей Цимбал, – учителя, можно сказать, заведомо толкнули его на полемику с собственными актерскими задатками. Плодотворность подобной полемики подтверждается не скоро, но считается, что она в любом случае расширяет внутренний диапазон актера… Тому факту, что Борисову было, как говорится, на роду написано влезать в характеры, далекие от прожитого и пережитого им самим, удивляться не приходится. Примененный учителями Борисова педагогический прием не так уж, вероятно, хитер и нов, и, может статься, не надо было о нем упоминать, если бы он не сработал в актерской жизни Борисова по-новому. Уже в зрелые годы актер прибегал к этому приему, стараясь в иных случаях уйти от пренебрежительно резкой манеры держать себя, от своей холодноватой актерской лапидарности. Он-то догадывался, что ими никак не исчерпывается его актерская натура, что резкость движений и пластическая сдержанность только разные проявления его в главном неделимой, напряженной и пытливой внутренней жизни».
В одной из сцен того студенческого спектакля Олег, которому в работе над этой ролью приходилось наступать «на горло собственной песне» – подвижности, искрометности и, конечно же, несовместимой с образом Подколесина вспыльчивости, – лежал на диване и разглядывал седой волос, а сзади подкрадывался Миша Давыдов – Кочкарев: «Ну, ничего, пошутил…» По словам Борисова, Давыдов играл Кочкарева лучше, чем он – Подколесина. Когда появлялся Миша, Олег злился, что он играет его роль – ведь сам Борисов получил Подколесина «на сопротивление». Герасимов говорил: «У тебя шило в одном месте, надо бы его вынуть…»
В середине 1980-х Давыдов заходил к Олегу в мхатовскую грим-уборную, и они вспоминали студийное время. «Знаешь, почему ты стал таким артистом? – задавал Миша вопрос Олегу и сам же на него отвечал: – Тебе удавалось анализировать себя с разных сторон, просчитывать все невозможные варианты, я же останавливался на одном – что лежало на поверхности. А помнишь, как педагоги говорили про нас “Хороший курс… а способнее всех Давыдов”?» 14 мая 1987 года Михаила Давыдова похоронили на Ваганьковском кладбище. «Пришло много людей, – записал Борисов в дневнике, – но говорить особенно не хотелось: и так понятно, к чему все идет… Миша четвертый с нашего курса».
В школьном танцевальном кружке, занятия в котором Олег некоторое время с удовольствием посещал (по той же самой причине, какая привела его в кружок художественной самодеятельности), ему говорили, что у него – ни много ни мало! – есть, вспоминал Борисов, «наклонности к героическому мужскому танцу». Маленькому ему говорили в школьном кружке: надо идти учиться танцам, но какое там хореографическое училище – в селе. Олег же был прыгучий, танцевал действительно неплохо. В одном из первых своих спектаклей в Киеве – «Учителе танцев», – когда его ввели на роль слуги Белардо (ввели после всего лишь трех полноценных репетиций), 22-летний Борисов танцевал так, что все диву давались. А уж когда играл Кохту – главного героя в комедии «Стрекоза» Марии Бараташвили, – то в классических кавказских ичигах такие па на носочках выделывал – профессиональным грузинским танцорам на зависть. Невесомость, подвижность, которую не всегда мог уловить глаз, легкость сродни с балетной – Борисов был неподражаем.
«Мы с Борисовым, – вспоминала Наталия Тенякова работу с Олегом, игравшим в спектакле БДТ «Выпьем за Колумба!» молодого гения, изобретателя с признаками мании величия, – танцевали, а из зала казалось, что парили над землей – то “разлетаясь” на тысячи мелких осколков, то снова “собираясь” вместе. Я танцевала в комбинезоне телесного цвета, как будто голая, а он – в белом халате, с острой бородкой, в непроницаемых темных очках. Борисов от природы был легким, пластичным, с сильным элементом музыки и в душе, и в теле…»
В Школе-студии танцами в его группе занималась Мария Степановна Воронько. «Когда, – рассказывал Олег об этом замечательном педагоге, – она танцевала со мной в паре, задыхаясь, произносила целый монолог: “Вы хоть и не Ермолаев, а от души – атитюд!.. Вы хоть и не Мессерер, а от всего сердца – плий-э!.. Вы хоть и не Лепешинская…”».
Когда Борисову предложили работу в народном танцевальном коллективе, – это после Школы-студии МХАТа! – а он почти согласился, «чтобы как-то зацепиться за Москву», Мария Степановна «схватилась за голову и чуть не сорвала свою накладную косу». «“Что с вами, Олег? – вспоминал Борисов ее реакцию на почти уже принятое им решение. – У вас же симпатичное личико (надо заметить, немногие мне это говорили), не то что мое – лошадиное! Хотите по секрету? В балете у всех что-нибудь лошадиное: личико, ягодичная мышца… Это же ваш любимый Чехов сказал: ‘На лице у нее не хватало кожи: чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот – и наоборот’. Чехов наверняка балетных в виду имел…” Говорила это женщина, фанатично служившая своему делу. Я нередко вспоминал ее уроки…»
Когда Борисов уже работал в Киеве, режиссер Театра музыкальной комедии Борис Рябикин пригласил его набрать вместе с ним курс студентов при театре. Перед репетицией шимми Олег, почерпнув необходимых знаний, начал целую лекцию: «Суть этого танца состоит в том, что танцовщики пытаются стряхнуть с плеч свои рубашки». Кончалось тем, что он «стряхивал» свой свитер или пиджак и сам пускался в пляс до седьмого пота. «Учил я их, – вспоминал Борисов, – осмысленному танцу. И это… почти никогда не удавалось. Появлялась примитивная хореография и вместе с ней… все пропадало. Конечно, хороший танцовщик, как и хороший артист, это преодолеет. Преодолеет за счет соединения техники, актерского проживания и оголенного нерва. Но видел я это… только один раз. Точнее, только у одного. У Барышникова».
С основами этикета, предметом исключительно для будущих артистов важным, студентов Школы-студии знакомила Елизавета Григорьевна Никулина, урожденная княжна Волконская (студенты называли ее «княгиней»). Она, в числе прочего (одежда, походка, манеры…), объясняла детям, в большинстве своем – из простых семей, правила поведения за обеденным столом: какими приборами следует пользоваться, как держать руки во время еды, в какой момент можно вести беседу…
Однажды Елизавета Григорьевна спустилась вместе со студентами в студийную столовую и спросила: «Можно поприсутствовать? Я бы хотела разделить с вами трапезу. Не против?» Разумеется, ей не отказали, и Олег Иванович поведал в дневниковых записях эту забавную историю:
«Помню, ели толстые синие макароны. Она сначала улыбалась, пока макароны остывали, а мы от неожиданности, голодные, между собой переглядывались. “Знаете, как у Чехова… ‘По-моему, наши русские макароны лучше, чем италианские. Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги, так я чуть не зарыдала!’ ” – процитировала она и начала аккуратнейшим образом заворачивать макароны на вилку. Ей эта процедура не давалась – макароны, напоминавшие переваренную лапшу, слетали обратно в тарелку. “Вот видите, доказать, что наши макароны лучше италианских, мне пока не удается”, – и отставила от себя тарелку. Я сидел рядом с ней. Поймал ее взгляд на моих черных, неаккуратно срезанных ногтях. Ту руку, которая была ближе к ней, тут же убрал в карман, другая держала на весу вилку с макаронами. “Вам нечего стыдиться своих ногтей, – поспешила успокоить княгиня. – Вы, наверное, успеваете еще работать в саду… Вот если бы вы содержали или посещали какой-нибудь салон, вам бы пришлось отпустить длинные ногти. Длинные настолько, чтобы они только могли держаться, и прицепить в виде запонок блюдечки, чтобы на протяжении всего вечера нельзя бы было пошевелить руками. Помните, что говорит Облонский Левину: ‘В чем цель любого образования – изо всего сделать наслаждение!..’ ” Лева Брянцев уже глядел на княгиню волком. В его глазах читалось: здесь, за столом, нам не до лекций, Елизавета Григорьевна! “Деревенские жители старались поскорее наесться, чтобы быть в состоянии работать в саду, – не обращая внимания на Брянцева, продолжала невозмутимая княгиня, – а аристократия старалась как можно дольше потянуть время и для этого заказывала устрицы”. Лева Брянцев уже не мог слушать княгиню без слюноотделения. Он тупо уставился на остывающие макароны и был готов плакать. Елизавета Григорьевна, еще раз попробовав намотать макароны, вскоре от этой затеи вовсе отказалась и попросила каши. Мы ждали с замиранием сердца. “По-моему, гречневая каша – тоже очень изысканное блюдо. Грубая пища вообще полезна…” – сказала она, но мы уже не дождались, когда она донесет свою ложку до тарелки. Мы стремительно заглотнули свои макароны (секунд за 30–40 нами опустошалось любое блюдо, особенно мной и Брянцевым), а княгиня Волконская еще только тянулась к своей каше. Мы урчали, втягивали не только макароны, но и воздух. Она снисходительно реагировала на наш стук вилками. – “Боже мой, разве я вас так учила?! Пусть это и не суп прентаньер, и не тюрбо сос Бомарше… Будьте осторожны, Борисов, не проглотите свои пальцы!” Когда в конце трапезы я громко попросил “поджарить нам воды” (имелось в виду – подогреть чай), Елизавета Григорьевна не выдержала и убежала со словами: “Фуй, Борисов, этого от вас я не ожидала!”».
Все это вспомнилось Борисову на репетициях «Тихого Дона», когда Басилашвили распекал его – Гришку Мелехова – за отсутствие манер: «Во время еды ты руки вытираешь либо о волосы, либо о голенища сапог. А ногти на пальцах либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки! В вопросах приличия ты просто пробка». Товстоногов, рассказывал Борисов, «просит меня ответить “с надрывом” – задело за живое! Отвечаю именно так: “Это я у вас пробка! А вот погоди, дай срок, перейду к красным, у них я буду тяжелей свинца! И тогда уж не попадайтесь мне приличные и образованные дарр-мо-е-ды!” Басилашвили передернуло…»
Учился Олег прилежно, с любовью. Учился серьезно при не совсем серьезном – по молодости – характере. Брал не усидчивостью – способностями. «Четверку» – пивное заведение на улице Горького, 4, в котором подавали пиво, водку в стограммовых граненых стаканчиках, раков, рыбку и бутерброды, – посещал редко. Разве что после сдачи сессии – отмечать окончание очередного семестра. Забегаловкам везде давали звучные названия. Борисов вспоминал московский «Ливерпуль» (сокращенно – «Ливер»), киевскую шашлычную «Барселона» возле стадиона, стекляшку на Крещатике «Мичиган» и вопрос подвыпившей парочки около ленинградских Пяти Углов: «Папаш, где здесь “Сайгон”? Ты че, папаш, не знаешь “Сайгон”? Как же ты, такой темный, дремучий, в натуре, живешь?» «И мне, папаше дремучему, – рассказывал, – долго смеялись».
Слыл Олег хулиганистым – иногда ему приходилось вспоминать эпизоды и приемы из детско-юношеского прошлого, дабы дать отпор (в основном словесный) обидчикам, желавшим подчинить себе «деревенщину». Хулиганистым, правда, в меру – без вызовов «на ковер» к ректору Вениамину Захаровичу Радомысленскому, «папе Вене»: правила внутреннего распорядка Олег соблюдал. Был влюблен одно время в Валю Николаеву, которая потом стала женой Кирилла Лаврова.
В Школе-студии Олега и его однокурсников учили любви к дому, в котором они воспитывались. Студенты грезили о труппе единомышленников, которые понимали бы друг друга с полуслова, были бы одной театральной крови, которые были бы примерно равны в профессиональном отношении, чтобы над ними витал один – мхатовский – дух.
«Держали нас в строгости, – вспоминал Олег Иванович. – Наш мастер Георгий Авдеевич Герасимов терпеливо сдирал с нас наносное, неживое и добивался, чтобы мы делали все без фальши – независимо от того, посетит нас вдохновение или нет. Мы знали: надо идти от предлагаемых обстоятельств. Это был закон. Студия готовила смену для театра. Мы знали и гордились этим. И трепетали. Там, через переход, соединяющий Студию и театр, была святыня, куда нам предстояло войти. Мы стремились туда. Стремились и проникали. Подглядывали репетиции, которые вели Кедров и Ливанов. Мы не пропускали спектакли, смотрели все подряд, сидя на ступеньках бельэтажа. Билетеры знали нас и не выгоняли. Когда первый раз смотрел “Трех сестер”, уехал домой не в ту сторону…»
27 октября 1949 года в нижнем фойе МХАТа собралась вся труппа – отмечали 51-ю годовщину театра. В тот день вечером шел «Царь Федор Иоаннович». Студенты, как всегда, смотрели сверху. Свободных мест не было, им разрешалось сидеть на ступеньках. «В конце шестой картины, – вспоминал Олег Борисов, – после елок “Пусть ведают, что значит / Нас разлучить! Пусть посидят в тюрьме!” – на сцене – мы это чувствовали! – какая-то заминка. Что-то случилось… Побежали вниз, но уже по пути увидели помощника режиссера, зовущего доктора. Тело Добронравова – бездыханное – перенесли в аванложу и положили на тот же диван, на котором умер Хмелев – умер в костюме Ивана Грозного. Добронравов не доиграл одну лишь сцену – финальную, “У Архангельского собора”, когда там должна начаться панихида по его отцу, Ивану Грозному!..
Не забуду “Трех сестер”, шедших в день панихиды и похорон Бориса Георгиевича Добронравова. Мы приехали на спектакль с кладбища. Там мы еще держались, но когда в четвертом акте заиграл марш и прозвучала реплика: “Наши уходят”, мы рыдали».
Борисов застал практически всех великих мастеров. Со своим курсом он был на сцене МХАТа, когда праздновали пятидесятилетний юбилей театра. Игрались три акта различных спектаклей. Первый – из «Царя Федора Иоанновича» (в роли царя Федора – Борис Георгиевич Добронравов). Второй – из «Вишневого сада» с Раневской – Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, весьма уже в то время пожилой, восьмидесятилетней, но все равно – Книппер-Чеховой, первый раз сыгравшей эту роль в 1904 году. И третий – из спектакля «Любовь Яровая» с блистательным Борисом Николаевичем Ливановым в роли матроса Шванди. «И мы, – вспоминал Олег Борисов, – были в массовке! Потрясающе! Это забыть невозможно».
Невозможно было забыть, как приходил к ним Василий Иванович Качалов и читал не обкатанные программы в маленьком зальчике. «Или, – рассказывал Олег Иванович, – мы ходили к Ольге Леонардовне, она угощала нас чаем с малиной, и у нее на груди на массивной цепи большая чайка». Там она и надписала Олегу фотографию.
Юрий Борисов спустя годы начнет книгу о Святославе Рихтере («По направлению к Рихтеру») рассказом отца о выступлении мастера в аудитории Школы-студии МХАТа. Студийцы стояли в проходах и на подоконниках. Места оставались только на сцене. Рихтер опоздал минут на двадцать и виновато развел руками: «Что-то с часами…» Олег стоял на сцене прижатый к роялю. Рихтер попросил помочь передвинуть инструмент, и колесиком рояль наехал на ботинок Борисова, который мужественно простоял весь концерт с колесиком на ноге. Записал потом в дневнике, что боли не чувствовал, весь был в музыке, но «оказался во власти странной галлюцинации…».
В июле 1951 года Олег Борисов получил диплом № 126005-Е об окончании актерского факультета Школы-студии МХАТ и выписку из зачетной ведомости № 125. В выписке 27 позиций (11 из них – зачетные, в том числе по таким предметам: «марксистско-ленинская эстетика», «законы речи», «манеры, навыки, необходимые актеру», «сольное пение», «грим» и «французский язык»). Восемь оценок у Борисова – «отлично» (в числе прочих пятерки по «истории русской литературы», «дикции», «танцу», «движению и фехтованию»), семь – «хорошо» (в частности, по «истории МХАТа», «истории русского изобразительного искусства», одна – «посредственно» по «истории зарубежного изобразительного искусства»). Три государственных экзамена Олег сдал так: «мастерство актера» и «историю русского и советского театра» на пять, «основы марксизма-ленинизма» на четыре.
Актер Виктор Коршунов, однокурсник Борисова, рассказывал Андрею Караулову, что Олег «был самым веселым человеком среди студентов. Жил достойно. Без суеты. Умел ждать». Должен был – по общему мнению – сразу после выпуска попасть во МХАТ. Об этом уверенно говорили и многие сокурсники, и преподаватели – видели не только его исключительное отношение к учебе, но и потенциал…
Не сложилось. Причина банальная: место в штатном расписании театра понадобилось сыну одного из педагогов. Так, во всяком случае, «за кулисами» Школы-студии говорили. И Олег Иванович об этом записал в дневнике: «Обещали, возьмут, но предпочли сына моего педагога. Свои дела. Может, в другой ситуации надо было размахивать руками, дескать – несправедливо, но я на удивление легко пережил распределение в Киев».
Сергей Капитонович Блинников, рассказавший, к слову, Борисову о том, что вместо него в мхатовскую труппу запланирован учившийся курсом младше сын одного из педагогов, говорил Олегу: «Ты не отчаивайся – поезжай в провинцию, поработай, а потом придешь во МХАТ…»
«Умей ждать, – утешал Олега Борис Ильич Вершилов. – Если катится все легко и ты имеешь быстрый успех, то путь твой, скорее всего, короток. Бери лучше другой сценарий: постепенный, через ошибки и ожидания».
Глава третья
Киевское начало
Когда Театр русской драмы им. Леси Украинки приехал в 1951 году в рамках Дней украинской культуры на гастроли в Москву, Константин Павлович Хохлов, главный режиссер и художественный руководитель (с 1938 года!), заглянул в Школу-студию МХАТ к знакомым педагогам и попросил порекомендовать ему нескольких выпускников. Порекомендовали Олега Борисова, Льва Брянцева, Валентину Николаеву, Изабеллу Павлову и Евгения Конюшкова (через год к ним присоединился Николай Рушковский). Они показали отрывки, выбранные ими самими, не только Хохлову, но и режиссеру Владимиру Александровичу Нелли и директору театра Виктору Петровичу Гонтарю. С каждым Константин Павлович Хохлов, приехавший в Киев из Москвы, где с 1931 по 1938 год он работал режиссером в Малом театре, – достаточно было увидеть его внешность, чтобы понять, какая это порода, какие это века, какое это наследие, – переговорил, элементов скепсиса у ребят не обнаружил. И, стоит сказать, во многом благодаря Хохлову, разглядевшему в Борисове не только то, на что просили обратить внимание педагоги Олега, но и нечто большее, новичок очень быстро сумел стать одним из ведущих артистов театра, в котором в то время «царствовали» такие прекрасные актеры, как Юрий Сергеевич Лавров, Михаил Федорович Романов, Виктор Михайлович Халатов…
В Киев Олег отправился с «внушительным» багажом: в небольшом чемоданчике (в таких в ту пору футболисты носили на тренировки и матчи свое «обмундирование») поместились старые солдатские ботинки, пошитый Надеждой Андреевной к школьному выпускному вечеру шевиотовый костюм и мешочек с сухарями. Поехал поездом. На вокзале мама сказала: «Береги себя!..»
У костюма, надо сказать, к тому времени уже была своя история. Олег частенько ходил в нем на студийные репетиции. Однажды, возвращаясь в свою «деревню», попал поздно вечером под сильный дождь. Спрятаться было негде – даже деревца поблизости не оказалось. Костюм надо было спасать. Олег разделся, скатал в тугой ком брюки, пиджак и рубашку и в одних трусах, с комом под мышкой, помчался домой и, не рассчитав скорость, слетел с горки прямиком в грязную лужу – вместе с одеждой, которую, конечно, потом пришлось приводить в порядок.
Корифей Театра им. Леси Украинки Константин Хохлов
Поначалу вчерашние студенты обитали в большой гримерке, разделенной на две части. Потом поселили новичков, с которыми – со всеми вместе и с каждым по отдельности – побеседовал и директор театра Виктор Гонтарь, зять Никиты Сергеевича Хрущева, недавнего первого секретаря ЦК компартии Украины, а на тот момент первого секретаря Московского обкома ВКП(б), на третьем этаже здания театра. Несколько комнат отвели там под общежитие. В мебельном и реквизиторском цехах подобрали кровати и матрасы, театр закупил постельное белье. Когда уезжали на гастроли, казенное имущество сдавали по описи.
С питанием было, мягко говоря, неважно. Там был буфет. И была Роза, которая молодым артистам неизвестно что варила на плитке. На это уходила почти вся зарплата. Долги Роза записывала в специальную тетрадь, и молодые артисты шутили – по Шекспиру: «Мы в книге бедствий на одной строке».
Первая зарплата Олега – 680 дореформенных рублей в месяц. Почти все, и Борисов не исключение, старались подрабатывать концертами. Ездили по вузам, колониям, колхозам, больницам, домам престарелых, интернатам для незрячих и слабовидящих. Получали за концерт 200 рублей на двоих.
Однажды Олега с актрисой театра Екатериной Деревщиковой (в десятилетнем возрасте она играла Женьку в фильме «Тимур и его команда») «занесло» даже в знаменитую психиатрическую лечебницу на Куреневке (район Киева) – «Павловку», самую большую лечебницу этого профиля в Европе. Об этой истории Борисов вспоминал в дневнике:
«Чаще всего играли сцену из спектакля “Когда цветет акация”. Сами сочинили такую “выжимку”: я выхожу с гитарой, за мной – Катя, следует сцена ревности – подозрения, пощечина, – потом примирение.
В больнице на Куреневке площадка была крошечная. Только и помещалось раздолбанное пианино – такое, что гитару не настроить, – и банкетка, с которой Машины ноги свисали прямо в зал. По традиции впереди сидели врачи, надсмотрщики, медперсонал. Больные – сзади, немного пригнув головы, будто на них будут лить холодную воду. В зале почему-то пахло карболкой. Один медработник попытался схватить Катю за ногу. Очевидно, в экстазе. Почему-то зааплодировали. Вслед за ним повставали с мест врачи, первые два ряда. В этом не было ничего удивительного – моя партнерша была прехорошенькая, глаз не оторвать: когда еще представится возможность пообщаться так близко! Жалко было больных – за выросшими спинами медперсонала им ничего не было видно. Когда мы сцену отыграли, эти вроде как “нормальные” побежали в ординаторскую, где мы переодевались, стали просить билеты в театр, автографы, предлагать бесплатные лекарства, спирт, а Кате даже импортные босоножки…»
Одна из первых ролей Борисова в Театре им. Леси Украинки – старый отставной солдат Конь в горьковских «Врагах». Это был ввод, как и остальные пять ролей в первые два киевских сезона. 22-летний артист так сыграл старика, достиг такого уровня перевоплощения, что зрители, еще не успевшие узнать недавно приехавшего из Москвы Борисова, были уверены: Коня, «вечного» денщика, опекавшего полусумасшедшего генерала в отставке Печенегова, играет зрелый актер, соответствующий возрасту персонажа, который, конечно же, старше 45-летнего Захара Бардина, годы которого обозначены автором пьесы. И вдобавок всем было невдомек, что Борисов отлично справился с ролью после одной-единственной репетиции.
Считается, что молодые артисты – на первых порах – успешно справляются с представлением публике стариков. Театральный критик Сергей Львович Цимбал, видевший спектакль, в который был введен Борисов, называл это «вполне традиционным чудом».
Цимбал отмечал, что Борисов во время дебюта во «Врагах» сумел избежать («почти», оговаривается театровед) штампов, привычных для дебютантов. «Удалось ему это совсем не потому, что он сознательным творческим усилием ушел от банальных решений, – писал он. – К этому, надо полагать, он еще не был готов. Скорее можно было бы сказать, что он отдался во власть актерского инстинкта, который в иных случаях без объяснений удерживает от сознательного или подсознательного подражания. Чем-то сыгранный Борисовым Конь был похож на всех появлявшихся на сцене Коней, но какой-то особой, горькой своей резкостью не был похож ни на одного из них.
Ничем особенным не был примечателен горделиво, невзирая на годы, выпрямившийся, угрюмо размышлявший и так же угрюмо глядевший в глаза людям солдат. От времени до времени выпаливал он короткие, прямодушные и, тем не менее, полные особого, скрытого значения слова, и слов этих, вероятно, было слишком мало, чтобы только по ним можно было понять его до конца. Самое главное он, скорее всего, оставлял при себе, на всякий, как говорится, случай. И не только негромкими, злыми и усмешливыми сентенциями, но и безмолвно укоряющим, умным, пристальным взглядом он прямо-таки вынуждал Якова Бардина спросить его, оглядывая с ног до головы: “Вас сильно намучили, оттого вы и умны?”
Именно эта работа молодого исполнителя, – писала “Правда Украины”, – заставила поверить в Олега Борисова, как в одаренного актера, остро чувствующего тонкую природу сценического искусства, обладающего незаурядным актерским обаянием, глубоко постигающего сущность изображаемых лиц. В этой же роли Коня, образа далекого от всего того, что играл до того Борисов и что было привычно его актерской палитре – исполнитель обрадовал не столько внешней комичностью персонажа, сколько своеобразием внутреннего мира старого солдата, любителя пофилософствовать и “подразнить” господ. Все в Коне – от старческой, но по-солдатски старческой походки, и до несколько растянутых насмешливых интонаций речи – выдавало в нем много пожившего, бывалого человека, знающего цену людским слабостям и несправедливостям, умеющего облачать свои явно иронические реплики во внешне серьезную форму».
Рассказы о том, что Олег сам подошел к Хохлову и напросился на роль Коня, от истины далеки. Через некоторое время после появления в театре вчерашних московских студентов Константин Павлович пригласил его к себе в кабинет и поинтересовался, сможет ли он сыграть Коня – ввод был необходим.
Предложение сыграть Коня было, в общем-то, случайным, сделанным Хохловым в экстремальной для конкретного момента ситуации. Николай Рушковский говорит, что «сейчас актеры приходят в театр и годами ждут серьезных ролей, а Олег за первые полтора года столько всего получил!». Сколько и чего – «всего»? В первые полтора сезона у Борисова были в основном вводы и участие в массовках.
О том, кого Олег Борисов играл в театре в первые шесть сезонов, в киевской прессе писали так: «Главное место в репертуаре артиста (Борисова. – А. Г.) занимает исполнение ролей комсомольцев и молодежи в бурные годы Гражданской войны и наших дней – это и мечтательный, порывистый ревкомовец, поэт с горячим комсомольским сердцем Налево из драматической поэмы “20 лет спустя” Светлова; и влюбленный в романтику подъема целинных земель, душевный и немножко застенчивый Алексей из “Товарищей-романтиков” Соболя; и стремительный, находчивый разведчик одесского подполья Сашко Птаха из “Рассвета над морем” Смолича; и комедийно-невезучий кубанский казак – тракторист Андрей Пчелка из “Стряпухи” Софронова; и неугомонный краснодарский студент Борис Прищепин из спектакля “Когда цветет акация” Винникова…» Странным образом автор статьи, рассматривая шесть первых сезонов Борисова, не упомянул роль Андрея Аверина, блестяще сыгранную в пьесе Виктора Розова «В добрый час» (1955 год).
«У меня, – вспоминал Борисов, первой ролью (эпизодической, разумеется) которого в Театре им. Леси Украинки был колхозник в «Свадьбе с приданым», – амплуа в Киеве было – простак. А все начинают с простаков. А если начинают с героев, то плохо кончают». В картотеке Киностудии им. А. Довженко он так и значился – «простак».
Слыть простаком Олег начал с… «козы». «Это был, – вспоминал он, – один из самых знаменитых этюдов в Школе-студии. Я разыгрывал его с Левой Брянцевым. Я – за сонную, индифферентную козу, Лева – за ее хозяина. Он заходил то с одного бока, то с другого, рискнул даже зайти с тыла, чтобы отыскать там сосцы. “Она” брыкалась, и ведра с хозяином летели в разные стороны. Наконец Лева плюнул, зашел спереди и стал доить через нос и уши».
Когда-то Олег с Брянцевым хотели разыграть такой этюд – как у Чехова: «Ялта. Молодой человек, интересный, нравится сорокалетней даме. Он равнодушен к ней… она мучается и с досады устраивает ему скандал». Брянцев непременно настаивал, чтобы «сорокалетнюю даму» играл Олег. Но у него и тогда не шло, и позже не шло. «Могу сказать, – говорил он, – что все в жизни переиграл… кроме дам. Манежиться так и не научился. Вот Гертруду бы хотел…»
Брянцев думал еще об одном этюде, тоже из Чехова. Как один господин в отпуске сошелся с девочкой – бедной, со впалыми щеками. Он пожалел ее и оставил сверх платы еще 25 рублей – из великодушия. Брянцеву хотелось показать, что выходит из ее квартиры с чувством человека, совершившего благодеяние. И еще хотелось – лежать на ее кровати в сапогах и с сигарой. «Заканчиваться, – рассказывал Борисов, – должно было так: он снова приходит. А она на эти 25 рублей купила ему пепельницу и папаху. Сидит над пустой тарелкой с трясущимися руками. Плачет… Почему-то этот этюд посчитали невыигрышным. Или не договорились о девочке… И стали делать нашу знаменитую “козу”».
Вторым спектаклем Олега в Киеве стал «Овод». У него в нем было два эпизода: один с «ниточкой», другой – без «ниточки» (роль маленькая, умещается на одном листке и не требует ниточки, скрепляющей листки с текстом роли. – А. Г.): нищий – оборванец на паперти и солдат, который расстреливал Феличе Ривареса. Ривареса в «Оводе» играл Юрий Сергеевич Лавров. Олег cыграл в этом спектакле не больше двух раз, потому что состроил на паперти какую-то невообразимую рожу, чем очень рассмешил Лаврова. Он вызвал Олега в свою грим-уборную, попросил еще раз показать эту рожу – они посмеялись вместе. Потом попросил еще раз, и они опять посмеялись. После чего он распорядился Борисова в этом спектакле заменить.
В наследство от Олега эта роль в «Оводе» досталась Юрию Мажуге. Олег не только рассказал Мажуге, что нужно делать, но даже поползал по сцене вместе с ним.
С первых дней в киевском театре Олег, несмотря на молодость, легко вошел в коллектив. Как и в Школе-студии – в меру хулиганистый, веселый, выдумщик страшный. Он участвовал в театре во всех футбольных матчах, устраивал капустники. Группами ездили на рыбалку, все вместе – на днепровский пляж в выходные дни.
Потом этот коллектив, в который он так легко влился, в полном составе его и предал. Пережить успех молодого талантливого актера в театре не смогли. Ни кое-кто из стариков, занимавших в театре особое положение, ни ровесники Олега. Но все это было потом.
Пока же – вводы, «комсомольцы», «ревкомовцы», «подпольщики»… Обойтись без этого молодым артистам было невозможно. Не стоит забывать о времени, с которого началась театральная жизнь Олега Борисова, и о привычном для любого, наверное, театра, а для театра, входившего в число лучших в стране, привычном вдвойне главенстве старых, знаменитых артистов: в Киеве таковыми безусловно были Юрий Лавров, Виктор Халатов, Михаил Романов, Михаил Белоусов, Евгения Опалова… Весь репертуар принадлежал им. Это не обсуждалось. По умолчании предлагалось ждать. «Не торопитесь, успеете», – витало в театральном воздухе.
Молодежь между тем в Театре им. Леси Украинки собралась боевитая, всем хотелось играть, причем играть много и – желательно – главные роли, и постепенно сложилась оппозиция по отношению к 40—45-летним «старикам», не признававшим тех, кто был моложе их на 20–25 лет.
Борисова в оппозиционный лагерь хотели включить – по возрасту – автоматически, но он, с раннего детства привыкший все делать сам, никогда не становившийся ни ведущим, ни ведомым, всегда считавший, что отношения между людьми должны быть предельно прямыми и понятными, ни в каких «лагерях» пребывать не собирался. Ни тогда, ни в будущей своей жизни Олег Борисов не входил ни в какие группы оппозиции, ни в какие коалиции. Единственным случаем, когда ему пришлось «примкнуть» к одной из групп, был раздел МХАТа, но это – отдельная и печальная для него история.
По поводу «ухода» из рядов оппозиции никакого разлада у Олега с оставшимися там коллегами не было. Не было, однако, и заметных ролей. В 1954 году Борисов получил в спектакле «Ромео и Джульетта», в котором мечтал сыграть Ромео (Хохлов обещал ему эту роль, когда «рекрутировал» из Школы-студии в Киев) или Тибальда, всего лишь бессловесного слугу Грегорио. Роли Чичикова не получил. «Маскарад» поставили без него (потом был ввод – Арлекина). И еще сыграл Кохту в «Стрекозе».
В том же 1954-м Хохлов собрался было поставить с молодежным составом «Гамлета», а на главную роль определить Борисова – у них был разговор на эту тему, но не сложилось: Константина Павловича Хохлова, талантливого ученика Станиславского, сумевшего превратить Театр им. Леси Украинки в один из лучших в стране, из Киева в 1954 году (Хохлов возглавлял театр – с небольшим перерывом – 17 лет, был фактически его основателем) выдавил, выставил из дома, могущественный зять Хрущева Виктор Петрович Гонтарь, пожелавший вмешаться в творческий процесс.
Профессиональный интриган, он спровоцировал грандиозный конфликт. Завлит театра Борис Курицын причиной ухода Хохлова называл «актерское интриганство». «Противники Хохлова, – писал Юрий Сергеевич Лавров, – а среди них оказались и те, кто считал себя несправедливо обойденными в репертуаре, сплотились». Гонтарь нажаловался на Хохлова партийному начальству, и Хохлов был вынужден уехать в Ленинград, где год с небольшим возглавлял пребывавший тогда в состоянии полного развала БДТ и 1 января 1956 года ушел из жизни.
Считается, что для Олега Борисова в Театре им. Леси Украинки «лед тронулся» с появлением в Киеве режиссера Владимира Эренберга, приглашенного из Ленинграда для постановки пьесы Виктора Розова «В добрый час». Это был 1955 год. Выбирая артиста на роль Андрея Аверина (выбирая, несмотря на то, что уже получил от руководства листочек с распределением ролей – Борисова в этом списке не было), Эренберг, просматривая спектакли и репетиции, обратил внимание на Яшу – Борисова в пьесе «Весна в Москве». После увиденного спектакля ленинградский гость твердо сказал: главную роль – Андрея – будет играть только Борисов.
Говорят, что с момента триумфа Михаила Романова в роли Протасова в «Живом трупе» в Театре им. Леси Украинки не было такого успеха, который сопровождал игру Борисова в розовской пьесе. Андрей Караулов приводит цитаты из киевской прессы, сделавшие Борисова известным и популярным в городской театральной среде. «Яркий талант комического актера соединяется с настоящей трогательностью и душевностью. Андрей – Борисов по-мальчишески непосредствен, искренен, остроумен…» «Просветленный взгляд, детская непосредственность, серьезность, тревога, прозвучавшие в его голосе, о многом сказали нам, приоткрыли душевный мир героя». «Отлично играет… Андрея О. Борисов. Сколь обаяния, озорства, непосредственности, буйства молодых, неперебродивших сил в этом пареньке!» «Наиболее интересным в спектакле является исполнение О. Борисовым центральной роли пьесы – Андрея. В комедии В. Розова молодой артист получил возможность развернуться и, так сказать, крупным планом продемонстрировать своеобразие своего дарования… Нужно было органически вжиться в роль, чтобы О. Борисов – Андрей так полнокровно и темпераментно, совершенно естественно существовал на сцене как живой, экспансивный, временами взбалмошный и привлекающий общие симпатии юноша».
Успех Борисова в 1955 году заставил оппозиционную молодежь Театра им. Леси Украинки положить за пазуху камень, который, спустя несколько лет, в течение которых Борисов «выстрелил» еще несколько раз (особенно феерично в фильме «За двумя зайцами»), она бросила в Олега.
В 1955 году в театре начали репетировать «Дни Турбиных» Михаила Булгакова. Первый запрет Министерства культуры УССР последовал на стадии репетиций (довольно редкий случай даже для советских времен). Пьеса была названа «сомнительной». Не понравилось цензорам от культуры и то, что подготовкой спектакля занялся отсидевший в сталинских лагерях (пусть и реабилитированный) Леонид Викторович Варпаховский. Театр апеллировал к министру культуры СССР Николаю Александровичу Михайлову, и репетировать разрешили, недвусмысленно намекнув, что уж спектакль-то запретят точно.
«Мы, – вспоминает Рушковский, – приступили к репетициям с большим воодушевлением. Булгаковская пьеса совершенно выбивалась из тогдашнего советского репертуара…»
Булгакова Варпаховский знал лично. Пьесу эту Леонид Викторович ставил в тбилисском Русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова в 1954 году. В январе 1955 года приступили к репетициям. На роль полковника Турбина был назначен Юрий Лавров, Лариосика – Олег Борисов, Елены – Татьяна Семичева, Николки – Николай Рушковский… В мае 1956 года спектакль был готов.
К премьере напечатали афиши и продали билеты сразу на четыре первых показа – 9, 10, 11 и 12 июня. Но не тут-то было! В газете «Радянська культура» появилась заметка, автор которой – А. Козлов – буквально набросился на никем еще не виданный спектакль: «Разве это сочинение отражает героическую борьбу украинского народа, разве в нем показаны лучшие люди Украины, отдавшие жизнь за становление нового общественного строя? Бурные революционные дни Октября отображены в пьесе Булгакова сквозь призму восприятия белогвардейской семьи Турбиных, сужены до интересов затхлого дворянского мирка…»
В те времена подобные заметки просто так не появлялись. Скоро стало ясно, что это только начало травли. В Министерство культуры Украины стали поступать письма писателей, чьи имена, кроме поэта Миколы Бажана, неизвестны даже профессиональным литературоведам. Все они требовали немедленного запрета показа пьесы. Бажан писал, например, что пьеса Булгакова еще в 1920-е годы вызвала «активное возражение общественности» в Москве и на Украине, что «компетентные руководящие органы» дали тогда разрешение на ее постановку только во МХАТе, что роль трудящихся в ней не показана, что она «враждебна делу дружбы русского и украинского народов» и одновременно «льет воду на мельницу украинских националистов». «В чем, в чем, – писал Олесь Бузина, – а в петлюровщине Булгакова до этого еще никто не обвинял! Но Бажан умудрился навесить на него ярлык даже “националиста”!» Бажан, надо сказать, требовал запретить «Дни Турбиных» во всех театрах страны и остановить экранизацию, которая планировалась на «Мосфильме».
Борис Курицын считает, что «за демагогией украинских писателей скрывались не столько убеждения, сколько зависть к таланту Булгакова. Они чувствовали, что появление “Турбиных” обнажает убожество их официозной драматургии».
В те дни, когда Театр им. Леси Украинки боролся за выпуск спектакля, в Харьков на гастроли приехал Московский драматический театр им. К. С. Станиславского и с большим успехом показывал… «Дни Турбиных».
25 октября 1956 года, после обращения Варпаховского к секретарю ЦК КПУ по вопросам идеологии Степану Васильевичу Червоненко (был послом СССР в Чехословакии в годы Пражской весны. – А. Г.), украинские власти разрешили устроить закрытый просмотр «Дней Турбиных», на который были допущены только актеры, занятые в спектакле, а также чиновники Министерства культуры и представители Союза писателей. Не задействованных в постановке артистов в зал не пустили. Заместитель министра культуры Леонид Куропатенко лично стоял у служебного входа и определял, кого впустить, а кого завернуть. Он остановил и Олега Борисова. Когда Олег заявил, что он актер этого театра, Куропатенко в ответ прокричал: «Вы – актер, а я – министр!», забыв от усердия, что только первый заместитель.
По завершении спектакля состоялось обсуждение, если, конечно, можно назвать обсуждением непрекращающийся крик «рецензентов»: «Никаких художественных достоинств в пьесе нет!»… «Лариосик, наверное, остался в Киеве, чтобы вредить советской власти!»… «Булгаков – белогвардеец! На сороковом году советской власти нет смысла показывать пьесу о белогвардейцах!»… «Пьеса сталкивает русский и украинский народы и направлена на реабилитацию Петлюры!»…
И Министерство культуры Украины пьесу «Дни Турбиных» 29 октября 1956 года окончательно и бесповоротно запретило. «Творчество» гонителей Булгакова и Варпаховского оценили. Один из них – Юрий Смолич – получил дивиденд: уже в следующем году театр обязали поставить очередную поделку – инсценировку по его «бессмертному» роману «Рассвет над морем», ту самую, после которой игравший «выдающегося полководца» времен Гражданской войны Григория Котовского Михаил Федорович Романов, выходя на поклоны вместе с Олегом Борисовым (связной Сашко Птаха), приговаривал: «Извините, пожалуйста. Я ничего не могу сделать. Приходится и такое играть. Извините, пожалуйста».
Однажды в «Рассвете…» Олег с Михаилом Федоровичем изрядно на сцене похулиганили. Связной должен был встретиться с Котовским и передать указание Центра. Встречу назначили в кабинете врача. Конспирация. Котовский – Романов набросил на себя белый халат, подошел к Сашко Птахе – Борисову, попросил его открыть рот и сказать «А-а-а…». Связной в ответ должен был прошептать: «Завтра в полдень» – о предстоящем появлении отряда на помощь Котовскому. Но Сашко Птаха – Борисов, как и полагалось настоящему пациенту врачебного кабинета, ответил «А-а-а…». Тогда Котовский – Романов, едва сдерживая смех, предложил сказать «Б-э-э…». «Больной» просьбу выполнил. И так – буква за буквой. До тех пор пока суфлер Яков Эммануилович Бликштейн шипящим шепотом не призвал их вернуться к тексту.
Бликштейн говорил Борисову: «Я, Олег, еще до сих пор дирижирую под пластинки. У меня нет своего оркестра. Завтра в Киеве выступает Филадельфийский оркестр, но меня на концерт не отпустили, потому что я один такой суфлер – вы же знаете… Вечером всегда спектакль, и, значит, я работаю. Я никогда не услышу Филадельфийский оркестр. Но я знаю, какую программу они будут играть. Они приехали в Киев и будут играть Тридцать девятую симфонию Моцарта. Я представляю, как они будут играть! Знаете, Олег, какое это большое сочинение! При всем этом я независим ни от кого – запись того же оркестра, правда с другим дирижером, но с этой же симфонией, есть у меня в фонотеке – я под нее буду сам дирижировать! У меня все продумано, все проводочки подсоединены… даже если выключат свет, я буду в порядке! Ведь эта симфония у меня здесь… – Он постучал по своей голове бамбуковой дирижерской палочкой. – Я знаю ее наизусть!»
На следующий день в Театре им. Леси Украинки давали какой-то спектакль, и Олег иногда поглядывал в суфлерскую будку. Бликштейн не видел никого из артистов, он был в темных очках. Он даже не смотрел в сторону сцены. Что-то мурлыча себе под нос, упоенно рисовал в воздухе какие-то фигуры и круги. Его плечи и огромные брови ходили в такт Моцарту.
«Он, – записал Борисов, – выработал иммунитет. О такой независимости можно только мечтать».
Тогда же, в 1956-м, Борисов сыграл Мишу в пьесе Максима Горького «Дети солнца» и Гульельмо Капую в спектакле «Ложь на длинных ногах» Эдуардо де Филиппо.
Этот спектакль любопытен тем, что стал первой работой выдающегося – в мировом масштабе – художника Давида Боровского, с которым Олег Борисов дружил всю жизнь (на свадьбе Давида и Марины Боровских Олег лихо отплясывал фрейлехс) и который стал автором памятника Олегу Ивановичу на его могиле на Новодевичьем кладбище. 22-летний Давид работал тогда в декорационном цехе театра. Его, четырнадцатилетнего, принимал на работу заведовавший этим цехом Гавриил Пименович Кучак, дедушка Аллы Латынской, будущей жены Олега. Гавриил Пименович рассказывал дома о том, какой к ним пришел «удивительно способный мальчик!».