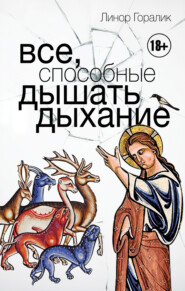скачать книгу бесплатно
Это был последний раз, когда Михаэль Артельман ударил мужа (восемь, восемь раз: в живот 2 р., по ногам 5 р., по лицу 1 р.) – и вот мы здесь: я хочу сказать, вы изволите полагать, у асона тридцать три фасона, и за окном Простоквашкино, Москвашкино, все это снежное кино, все это снежное кино, и ушлые собачки бегают по внутреннему дворцу Михаэля Артельмана, просят деткам на игрушки, на развивашки.
5. Ссученный
Беленький котик серенького по морде хряп, хряп, коготь входит в тугую надбровную складку, страшный абордажный крюк. Серенький котик боится дернуться, уши расставлены вертолетом, орет, резко припадает вниз, перекат на спину, руками закрывает лицо, беленького котика ногами, ногами по животу. Беленький котик выгибается, руками серенького за горло, орет, наваливается всем весом, хрипит, хамон лежит, идет дождь. Беленький котик хрипит, горелого цвета котик ждет, ждет, серенький вжимает морду беленького в грязь, сам в слепом оскале, горелый рывком переносится на сорванный гидрант, скользит на животе, когтем левой поддевает изодранный полиэтилен, всем ртом впивается в мясо, мясо жесткое, хамон скользит и подскакивает, разбрасывая черные брызги, хамон тяжелей, чем три кота вместе, беленький котик орет, серенький котик орет, беленький котик на вытянутых ногах делает два огромных шага, падает на горелого котика зубами, едет зубами вдоль порченой побуревшей шкуры, горелый котик орет, серенький котик закусывает веревку, обмотанную вокруг копыта, судорожно головой влево, влево, к темным дебрям горелых досок и битого кирпича, хамон едет скачками, подпрыгивает на обломках витринных пластмассовых декораций. Черненький котик, рваный котик, рыжий, испачканный в желтом котик, пыльный с ошейником тощий котик ждут, орут, черненький котик шипит, решается, уходит в бросок, подъезжает к хамону на липком грязном боку, всеми когтями впивается в темный копченый край, потом одной рукой серенького снизу вверх по лицу, когтем в ноздри, серенький котик орет, глотает кровь, отшатывается назад, хамон подпрыгивает, веревка соскальзывает с зубов, копыто стучит по асфальту, рыжий, испачканный в желтом котик воет, шипит, решается, длинной дугой выплескивается из бетонного развороченного цветка, на руках делает несколько мелких шажков, орет, ногами падает черному котику на лицо, ногами бьет по воздуху, по летающим ошметкам жирного полиэтилена, по глазам горелого котика, пытающегося откусить от мякотки и бежать, правой рукой и ртом ухватывает почти оторвавшийся тонкий, скользкий от грязи шмат, ногами упирается хамону в бок, перекатывается, дергает, дергает, шипит, рваный котик воет, шипит, пыльный с ошейником котик воет, шипит, мотает задом то вправо, то влево быстрей, быстрей, решается, выгибается, встает на обе ноги, и тут серенький котик выворачивается и кричит, подвывая, глядя через плечо на Марика Ройнштейна (который уже полтора часа неподвижно сидит на асфальте перед развороченной, расколотой падением огромной бетонной плиты родительской лавкой, сопли блестят на его верхней губе, а он смотрит на свиную голову из папье-маше с осколком стекла под левым глазом и думает: «Надо встать; надо встать или лечь, встать или лечь, встать или лечь встать или лечь встать или лечь»). «Блйаааадь, да иди же сйууудааа, мудааааак, тащи, блйаааадь, мудаааак, давааааай, тащи, давааааай, дам кусоааак!» – орет Марику Ройнштейну серенький котик. Черненький котик шипит, бьет хвостом по воздуху, прыгает, когтями серенького за уши, ногами в живот, в живот, серенький котик орет, горелый котик секунду мешкает, выпускает хамоний шмат изо рта, зубами серенького за загривок, мелкая взвесь золотистой шерсти взлетает, плывет в холодном зимнем луче, серенький котик орет, воет, беленький котик расставляет уши, зализывает бок, в три прыжка падает на серенького, кусает за ногу, скользит, подъезжает, левой ногою серенького в пах, в пах, серенький котик воет, визжит, рыжий, испачканный в желтом котик пытается прорваться в середину клубка, достать серенького, ловит пальцами воздух, хрипит, орет, серенький котик вдруг визжит свинячим высоким визгом, клубок распадается, серенький котик лежит, бок ходит вверх и вниз, выталкивает темные капли, темный тоненький ручеек. Черненький котик тяжело дышит, грузно садится на задние лапы, молчит; беленький котик мотает головой, выталкивает чужую шерсть изо рта, часто мигает, молчит; рыжий, испачканный в желтом котик боком движется вокруг своей оси, не мигает, вздрагивает всей шкурой, дышит, молчит. Горелый котик, рваный котик, пыльный с ошейником тощий котик, пыльно-дымчатый котик, пятнистый котик дышат, переглядываются, молчат. Ветер похрустывает мясным полиэтиленом, скребет по асфальту золотой этикеткой. Пятнистый котик решается.
6. Мачеха
Вл. Ермилову
Он опять назвал Дану «Дорой» – и опять подумал, что будь дочери не десять, а двенадцать лет, реакцией на его ошибку было бы едкое подростковое раздражение вместо нынешнего дурашливого смеха. Иногда ему приходилось делать паузу, прежде чем окликнуть дочь – соленую и перемазанную мокрым песком, – когда она и ее обожаемый, вечносопливый вислогубый Марик Ройнштейн подбирались слишком близко к воде или когда нужно было в последнюю секунду сунуть в руки маленькой растеряхе, уже пробивающей себе путь вглубь школьного автобуса, очередную забытую дребедень. Сейчас Марик Ройнштейн бессильно хлюпал носом – стоял сусликом, покачиваясь вправо-влево, слабо отражая тельцем энергичный и яростный рисунок движений Даны Гидеон. После окрика дочь на секунду отвлеклась от своего важного дела и расхохоталась – вот же рассеянный папа! – а Дора осталась стоять, поджав одну ногу и держа в зубах уже основательно обслюнявленный бумажник. «Ты капнул мясом, и она его лизала!» – прокричала дочь. Она всегда кричала, мир словно не умещался в ней целиком и рвался наружу – криком, скачками, хохотом, внезапными рыданиями безо всякого повода, дурацкой идеей схватить со стола кошелек, когда собака его облизывает, чтобы та, конечно, немедленно вцепилась в него зубами. Можно было тихо взять кошелек, вытереть салфеткой и отдать отцу – но нет. Как это часто бывало, его окрик сперва вызвал заливистый смех из-за перепутанного имени, но потом Дана Гидеон как-то медленно погасла, и на лице ее появилось то же пустое, вислогубое выражение, которое бесило его у Марика Ройнштейна. Он давно перестал давиться, как прежде, внезапным чувством вины перед дочерью – чувством жирным, многослойным, густо присыпанным колючей крошкой маленьких, но особо мерзких родительских промахов; теперь у него во рту просто всегда стоял привычный вкус вины, и он все реже обращал на этот вкус внимание, и за это тоже чувствовал себя виноватым. Он велел Дане Гидеон перестать ковыряться в ухе, а Доре – отпустить бумажник, и бумажник тут же шлепнулся на пол. В нелепо маленькой и катастрофически забитой кухне гостиничного люкса он нашел салфетку, поднял мокрый бумажник и брезгливо понес в ванную – обтирать мыльной тряпкой. Собственно, ничего бумажного в бумажнике, естественно, не было, но идея целиком сунуть его под кран казалась идиотской. Он опаздывал. Дора стояла в дверях и молча смотрела на него, Дана с Мариком тихо ушли в коридор, он услышал, как постепенно голос дочки снова наливается звоном (бедный часовой, миллион вопросов – и на половину из них он не вправе давать ответы), и малодушно подумал, что преувеличивает, что его бесконечное гавканье и рявканье не оставляет в Дане Гидеон никакого долгого следа, ничего страшного, Дана Гидеон умная девочка, Дана Гидеон знает, что папа ее любит. Он прислушался, и ему показалось, что Мариково хлюпанье долетает даже сюда. Что поделаешь, «мы – Израиль, у нас сирот не бывает». Несколько секунд алюф[13 - Генерал (ивр.).] Цвика Гидеон с Дорой смотрели друг на друга молча, и вдруг приступ панического страха в очередной раз накатил на него, и он понял, что снова пытается вычитать в ее длинных темных глазах ответ на мучающий его вопрос. Дора дышала, влажные волоски у черной кромки пасти ритмично шевелились; на секунду ему показалась, что собака смотрит на него нехорошо, исподлобья – или нет, или наоборот, как-то косо, и что лучше – косо или исподлобья? Он почувствовал, что у него немеют щеки и намокает шея, и тоже задышал глубоко, и быстро отвел глаза от Доры. Сердце его колотилось. Панические атаки стали привычными с того самого дня, как Илана Гарман надавила на него, с того дня, когда отступать стало некуда, с прошлого вторника. Боясь посмотреть на Дору, он вдруг сказал тоненько, как мальчишка: «Хочешь мяска?» – и от этого заискивающего «мяска» его передернуло, тем более, что Дорин паек кончился, следующая раздача должна быть через четыре часа. «Не», – сказала Дора (слава богу), и он с облегчением сказал (эдак бодренько): «Ну, как хочешь!»
Иногда собаки случайно съедают что-нибудь ядовитое и умирают. Иногда прыгают за птицей, падают с балкона и разбиваются.
Через четыре часа Илана Гарман уже будет здесь, а он еще будет в штабе. От этой мысли у него опять онемели щеки. Он в сотый раз подумал, не взять ли Дору с собой в штаб, не пошутить ли как-нибудь про то, что эта сучка ни на шаг его от себя не отпускает – или, наоборот, что это вроде традиционного «Дня профессий», как когда на работу приводят ребенка. Дебильная идея, он опаздывал, надо идти, а они с Дорой все смотрели друг на друга (почему, почему всем не спалось в пять утра? Иногда он думал, что эти невыносимо ранние поголовные вставания – тоже признак асона, но все было проще: людей поднимала маета, вот что). Потом неразговорчивая Дора развернулась совершенно внезапно и потрусила в коридор, где Дана Гидеон скакала по клеткам бесконечной ковровой дорожки, уча Марика Ройнштейна бесконечной игре под бесконечную кричалку. Он опаздывал, но дождался момента, когда кричалка прервалась на последнем задыхающемся «…са-ла-мат!»[14 - «До свидания!» (араб.)]. Топ-топ по мягкой дорожке, прочь, на пляж, на узкий, хорошо охраняемый квадрат песка, где каждый день играли или занимались с хорошо охраняемой учительницей (бывшей медсестрой) одни и те же хорошо охраняемые дети. Несколько дней назад он попытался встроиться в какую-то их пляжную игру – подбежал легкой трусцой, скинул сандалии, бодренько («Хочешь мяска?») закричал: «А вот кто на генерала? А? Кто на генерала?» Дочь, только что скакавшая с мячом вправо-влево и делавшая вид, что ее хлюпающий носом суслик способен перехватить атаку, тут же уронила мяч на песок и медленно провела грязной рукой по лицу. Он не мог сдаться сразу, немножко попрыгал по песку туда-сюда, а потом сделал вид, что направлялся не к детям, а к воде, к водичке; снедаемый неловкостью, он обернулся, чтобы помахать детям рукой, ветер подбросил в воздух пригоршню песка, и радужный блеск вдруг создал для алюфа Цвики Гидеона неприятный персональный мираж: ему показалось, что Марик Ройнштейн смотрит на него с нехорошей, взрослой язвительной улыбкой. Он впервые заметил, что у Марика Ройнштейна начал выпирать кадык.
Алюф Цвика Гидеон проверил, в бумажнике ли пропуск для Иланы Гарман, и на выходе отдал этот пропуск часовому, идиотски улыбнувшемуся в ответ, как будто ему доверили любовную тайну. Чтобы дурень не мнил о себе бог весть что, алюф Цвика Гидеон строго и громко сказал ему: «Моя будущая жена с сегодняшнего дня переселяется к нам. Вот ее пропуск на случай, если она придет раньше меня», – и, не глядя на часового, пошел к лестнице, вниз, в подвал, в обшитый кафелем и сталью, обвешанный дуршлагами и половниками чрезвычайный штаб Южного округа. Все дуршлаги были никакими, а один – огромным, тяжелым, мятым, похожим на пьяное лицо с запавшими глазами; вроде этот дуршлаг лично принадлежал какой-то кулинарной знаменитости, вроде в меню гостиничного ресторана были какие-то блинчики по адовой цене, и муку для этих блинчиков просеивали только через этот дуршлаг уже пятьдесят лет. Сколько прелести в таком гастрономическом выпендреже! На первое свидание, всего за несколько недель до асона, он повез Илану Гарман в холодный и темный русский ресторан, вычитанный им в газете для тех, кто считает себя сильно умным (сам он любил читать там про еду и музыку и еще смотрел, нигде ли не упоминают его самого). Официант в мягкой белой рубашке долго рассказывал про каждый пункт в меню, и почти все названия были чьими-то нечитаемыми фамилиями на «-ов» и «-ский», и деликатная Илана Гарман сказала, что заказывать в русском ресторане черную икру – это пошлость, так что они ели крошечные порции крошечных кисунэй-басар[15 - Вареники с мясом (ивр.).]. Илана Гарман пыталась объяснить ему, что это никак не кисунэй-басар, а совершенно другое блюдо, которое только выглядит, как кисунэй-басар, но на самом деле его лепят с сырым мясом внутри. Он так и не смог произнести название этого блюда правильно. Вернувшись к себе, он быстро сунул в микроволновку четыре сосиски и съел их стоя. Будь в этом русском месте нормальные порции, он бы не спешил домой, а первое свидание могло бы закончиться постелью – и обернуться простым стуцем[16 - Перепихон, одноразовый секс без обязательств (ивр.).]. Второго свидания у них не было – оно оказалось как бы не нужным, они как бы просто начали жить дальше хорошо устаканенной семейной жизнью, словно Илана Гарман уже шесть лет водила Дану Гидеон к врачу, когда та заразилась от Марика Ройнштейна какой-то глазной дрянью (и Марика заодно взяла с собой, добрая женщина). Словно сказать ему, что он должен чаще мыть голову, – совершенно нормально. Словно она вообще не знала, кто он, собственно, такой. Конечно, она знала, кто он, собственно, такой и что с ним произошло, но ни разу ни о чем не спросила. Наверное, она ждала какой-то безмолвной награды за свою тактичность. Он знал, что на самом деле ее снедает вечная бабья жадность (или просто человеческая жадность, уж он-то навидался такой жадности за годы, прошедшие со смерти жены): расспросить, вызнать; но еще сильнее была жадность другого рода: оказаться доверенным лицом. Он не рассказывал ей ничего и получал от этого несколько непристойное удовольствие: обычно ему не нравилась подобная тягомотина, игра в молчанку, тихая и вечная супружеская битва за крошечные заначки личных тайн. Но. Но. Илана Гарман мечтала зарыться с головой в глухую, темную, всей страной обсосанную драму шестилетней давности, окружить его величественным мрачным сочувствием, зализать его раны (он привык, что женщины липли к нему, выдавая информационную жадность за сострадание, как только узнавали в нем Того Самого Алюфа). Илана Гарман хотела страдать вместе с ним и наслаждаться своими самоотверженными муками – а у него в голове постепенно складывалось нечестное, но приятное уравнение: словно бы радость, которую вся эта дррррррррама приносила Илане Гарман, в какой-то мере искупала ужас, выпавший на долю бедной Шуши в ночь ее черной смерти. Правды о происшедшем Илане Гарман не видать, как рыбке своей пиписьки, но он планировал по капле поить эту женщину тем, что вся страна считала правдой. Да, по капле, по полслова – здесь трагическое умолчание, там кривая усмешка, – чтобы Илане Гарман хватило надолго, чтобы она понимала, как много она для него значит, как сильно он хочет научиться раскрывать перед ней свое измученное сердце. Втайне он еще и лелеял важную догадку: страдания, перенесенные им когда-то, – это индульгенции, которые можно реализовать сейчас. Он не собирался этим пользоваться, мысли такого рода добавляли к постоянному серому вкусу вины во рту еще один оттеночек, но вот сейчас, проходя мимо отключенных лифтов с зеркальными дверями, он представил себе, как Илана Гарман стоит за его плечом, а он медленно проводит рукой по хорошо сохранившимся волосам и вдруг говорит: «Шуши не верила, что я поседею». Лицо Иланы Гарман в зеркале изменится, выражение станет одновременно страдальческим, сосредоточенным и значительным, и это сделает их ближе. Вспомним сюжетец: он дал официанту в белом сюртуке с крошечным мясным пятном у кармана свою кредитку, но разрешил Илане Гарман положить в папочку со счетом пятьдесят пять шекелей чаевых. «Я не люблю наличные», – сказал он, ничего особого не имея в виду, и вдруг ее лицо стало серьезным и нежным: о, самоотверженное женское сострадание; о, тихое понимание; о, деликатная поддержка. Ну да, ну да, после истории с выкупом, с провалившимся выкупом, со срезанной татуировкой («Маленькая черепашка, покрытая запекшейся кровью, потрясла следователя, когда он пинцетом извлек содержимое из конверта, подсунутого Гидеону под дверь», – своим бежевым замшевым слогом писала газета для тех, кто считает себя сильно умным). После такого любой человек имел право невзлюбить наличные, и предположение Иланы Гарман было совершенно резонным. Увидев выражение ее лица, он решил ничего не объяснять, не говорить, что наличные действительно всегда были ему неприятны, что в прилюдном пересчете денег он видел нечто непристойное. Илана Гарман имела право воображать… ну, что? Как он дрожащими руками запихивает триста двадцать тысяч наличными в потертый китбек[17 - Зд.: солдатский заплечный мешок (ивр.).] («оставшийся у него со времен тиронута[18 - Курс молодого бойца, первый этап службы в израильской армии.] – алюф Цвика Гидеон говорил потом, что выбрал этот китбек бессознательно, словно собирался на войну», – писала все та же газета)? Как он роняет пачку-другую, как шарит в сейфе – точно триста двадцать? Не ошибся ли он, не дай бог? Все ли выгреб до последней купюрки? Илане Гарман явно были дороги эти воображаемые картины. Их первое свидание, кстати, могло оказаться обыкновенным стуцем, хотя это было хорошее свидание. Он остался голодным после кисунэй-басар и крошечного десерта с названием на «-ский», уложенного в огромную тарелку. Но был доволен собой, этой женщиной, этим сюжетом. Она наверняка тоже осталась голодной. Он мог поехать спать к ней, а мог позвать ее спать к себе, но не сделал ни того, ни другого.
После первых шести дней асона он сумел ее разыскать – они оба рыдали, оба не могли поверить, что встретились и остались живы, и Дана Гидеон тоже рыдала, уткнувшись Илане Гарман в мягкий живот и вцепившись пальчиками в порванный карман ее куртки. О да, тогда он точно мог позвать ее спать к себе – и опять не позвал. За последующие месяцы он мог позвать ее спать к себе десятки раз. Он мог позвать ее жить к себе, забрать ее из «каравана»[19 - Зд.: длинное временное передвижное жилое помещение (ивр.).], в котором, кроме нее, ютились еще шесть женщин, забрать из барачного спасательного лагеря, где был один душ на восемьдесят человек. Он мог давно забрать ее к себе – но говорил ей, что пропуск нужно делать очень долго, что его уже делают, что его сделают вот-вот. Она явно понимала, что алюф Цвика Гидеон врет, но не сердилась. Наверняка она считала, что сближение с женщиной дается ему тяжело. Что впустить другую женщину в дом после того, что произошло с Шуши, – это огромное, огромное решение. Что Цвика Гидеон дает Дане Гидеон время подготовиться к этому решению (кажется, Илана Гарман ни секунды не сомневалась, что они съедутся рано или поздно). Наверняка она находила некоторое удовольствие в том, что оказалась такой понимающей, тонкой и терпеливой.
На самом деле постоянный пропуск в гостиницу давали за семьдесят два часа, а главе штаба Южного округа пропуск (как выяснилось) готовы были дать через час после того, как он положил на стол Адас Бар-Лев свою заявку (понимающая, поддерживающая улыбка, вечная игра в «если бы» – если бы не его ужасная трагедия, между ними могло бы и быть кое-что, тем более теперь, когда муж Адас Бар-Лев сгинул в какой-то больнице, но нет, ах, нет, – кстати, не задела ли Адас Бар-Лев эта заявка на пропуск для Иланы Гарман?). Когда он спросил Дану Гидеон, как она смотрит на то, чтобы Илануш переехала к ним жить, Дана Гидеон в свойственной ей нехитрой манере вопила и скакала и чуть не повалила торшер (нет, не сегодня! Не завтра! Не скачи! Потому что пропуск! Пропуск очень долго делают, это же война, это же штаб. Успокойся! Бери Марика, и идите поешьте, хватит скакать). Словом, Илана Гарман давно могла жить в гулкой, неестественно пустой роскоши пятизвездочной гостиницы с собственным пляжем, с собственным куском радужного моря, с неработающими кондиционерами, но с работающим по три часа в день электричеством, с настоящими простынями, которые солдаты из службы быта меняли два раза в неделю. Формально говоря, постоянные пропуска должны были выдаваться только в исключительных случаях и только ближайшим членам семьи, но алюф Цвика Гидеон знал, что Зеев Банай поселил у себя престарелую мать одного из своих почерневших подчиненных, что Сури Магриб приводила к себе уже двух женщин, каждый раз заказывая пропуск на имя своей пропавшей без вести сестры (и о сестре, и о женщинах битахон[20 - Служба безопасности (ивр.).] не мог не знать, но, видимо, хлопот и без того хватало) и что в номере у Зеева Тамарчика (похабнейшее гнездышко для новобрачных, с красными покрывалами, зеркальными потолками и прозрачным джакузи; и шутки-то все уже выдохлись) живет его падчерица, дочь бывшей жены, Соня, Сонечка, худышка на пару лет постарше Даны (и весь штаб делал вид, что рыдающая девочка-подросток, которую Тамарчик иногда выносит на пляж на руках и с которой Дана Гидеон и Марик Ройнштейн боятся заговорить, – это призрак, призрак, Плакса Миртл). Илана Гарман давно могла мыться каждый день, мыться теплой водой из проточного нагревателя. Если бы не Дора.
Иногда собаки убегают, и с ними случается что-нибудь плохое. Иногда их крадут сумасшедшие похитители чужих собак. Иногда они подкапываются под дом, застревают между креплениями и погибают.
Алюф Цвика Гидеон совсем не думал о Доре после асона, хотя Тамарчик и пытался пару раз спросить, как там его собака (у глухонемого сына Тамарчика был попугай, который во время асона вроде как улетел, и Тамарчик рассказывал всем, что это в чистом виде милосердие Божье, а то страшно даже подумать, каково бы его сыну было вот это вот все). Дора оказалась немногословной животиной, так что разница между прежними временами и нынешними была небольшой (Дана Гидеон, кстати, словно бы отказалась признать способность Доры к человеческой речи, и это было довольно странно: большинство детей новая реальность или пугала до шока, или радовала до визга. Сама же Дора почему-то охотнее всего разговаривала с Мариком Ройнштейном – может, потому, что этот недотыкомка всегда, и до асона и нынче, немел при ее приближении, а теперь только покорно кивал в ответ на любое ее редкое слово). Алюфу Цвике Гидеону же, ей-богу, и без Доры было о чем подумать: он отвечал за миюн, за разделение выживших в его округе гражданских лиц (а их тут, кстати, было больше, чем даже в «волшебном кольце») на тех, кого следовало запихнуть в медлагерь, и на тех, кого ждали «временные поселения» – сговняканные на скорую руку барачные города, про которые было ясно, что они тут навеки – если еще существуют «навеки». Два часа инструктажа, проведенного на рассвете падающим от усталости военным психологом, – и его солдаты отправились объяснять людям, что их писающая под себя бабушка поедет в гериатрический медлагерь – и нет, с ней нельзя. И что их ослепший мальчик поедет в педиатрический медлагерь – и нет, с ним нельзя. И что их дрожащая, покрытая радужной коростой, бесконечно повторяющая на одной ноте: «Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что?» левретка поедет в ветлагерь – и нет, с ней нельзя. В ответ его солдат называли фашистами. Их называли зверями хуже фашистов. Их называли «доктор Менгеле». Лично его называли «доктор Менгеле» чаще всех, и когда заработало радио, он дважды слышал, как некто хамоватый (и, судя по голосу, жирный) быстро-быстро выплевывал в потрескивающее пространство словесную дрянь, за которую его полагалось бы прижучить как следует, обволакивал ее патокой и делал вид, что занимается разъяснительной работой: «Вы спрашиваете: „Неужели человек, потерявший жену в такой страшной личной трагедии, способен разлучать семьи? Неужели нельзя было построить систему, при которой медлагеря принимают вместе с несчастным пострадавшим его близких? Неужели алюф не помнит, каково это – знать, что любимый человек страдает, самому быть в шоке – и не иметь возможности повидаться?“ Я вам скажу: не дай нам всем бог пережить то, что пережил алюф Цвика Гидеон в те двадцать шесть часов – больше чем двадцать шесть часов! – когда его жена была неизвестно где, а его маленькая девочка не знала, куда делась ее мама; в те двадцать шесть часов, когда алюф Цвика Гидеон ждал, что ему позвонят про выкуп, а дальше произошел весь этот ужас с его несчастной Шуши! „Как может этот человек отделять людей, тем более больных людей от семьи, если не то что пострадавшим – нам всем надо сейчас быть вместе, мы сейчас все должны быть как одна большая семья! Как можно в это жуткое время забирать больную маму у ребенка и больного сына у родителей? Неужели нельзя было придумать что-то, хоть что-то вместо этого позора?“ – спрашиваете вы, а некоторые еще и добавляют: „И ладно жена – но ведь Господь благословенный помиловал дочку нашего алюфа в первый день асона – сколько детей выжили в этой школе? Сорок девять человек во всей школе! А если бы (хамса-хамса-хамса![21 - Выражение, точнее всего переводимое как «не приведи бог» (ивр.).]) с девочкой тогда что-нибудь случилось – что, алюф Цвика Гидеон отдал бы раненого ребенка в медлагерь?..“» – трещало радио, и алюф Цвика Гидеон слушал эту трескотню, сидя, как вот сейчас, на стальной разделочной поверхности посреди десертного цеха, ждал, когда подтянутся еще три человека. В подземном десертном цеху гостиницы, все еще наполненном нежными и бесстыжими запахами, в невыносимо ранние часы заседал малый совет Южного штаба. Было пять тридцать утра, и алюфу Цвике Гидеону казалось, что не осталось во вселенной никакого другого времени суток – только изнурительный, безнадежный рассвет.
Сегодня надо было наконец решить, как организовать перевозку выздоровевших из медлагерей в барачные города – по разорванным дорогам, покрытым скользкой радужной пылью. До сих пор получалось, что никак, выздоровевшие слонялись по медлагерям, требовали, чтоб их вернули к семьям, изнывали, устраивали бардак, и медлагеря постепенно превращались в те же самые барачные города, только еще хуже. К счастью, он придумал кое-что сегодня ночью (пока думал про Дору, про Дору): надо договориться с лошадьми и с верблюдами. Собрать лошадей с каких-нибудь ферм, из катательных аттракционов, из кибуцев, откуда можно, и еще договориться с верблюдами (потому что в Негеве до сих пор оставались верблюды, несмотря на «бури» или как там это решено называть). Надо, сказал он, всем им (лошадям, верблюдам, каким-нибудь пони, ослам еще, может быть, если найдутся… кстати, а что бараны? Нет?) предложить паек, предложить загоны, чтобы прятаться от «бурь», надо предложить им «хабасы» (или это будут «кабасы»[22 - Вымышленное ивритское слово, составленное из слов «халифа» (костюм) и «бадшаб».], раз не костюм, а – покров? чехол? – неважно). Сейчас кто угодно сделает что угодно за паек и полипреновый костюм, сказал он. Ох, ну естественно: вам случалось видеть, как двуслойным наждачным одеялом ползет на вас буша-вэ-хирпа? (Кроме Сури всем случалось: Сури, понятно, не видела ничего, асон застал Сури в этой гостинице, она проводила тут отпуск с сестрой, связи не было, две роты под командованием Баная и Тамарчика пытались обследовать район, чернея по одному, и так штаб Южного округа постепенно собрался в этом «Рэдиссоне». Сури ни разу не вышла из гостиницы с асона, даже на пляж, и все делали вид, что это нормально.) Так вот, если вы это видели, вы поймете: когда наползает на землю двуслойным наждачным одеялом буша-вэ-хирпа, верблюды гибнут десятками, по большей части затаптывая друг друга в панической драке за укрытие. Давайте договариваться с верблюдами, сказал он, я поеду. (Потом он даже не поинтересовался, как в результате стали называть огромные верблюжьи чехлы из полипрена, сказал, чтобы ему не морочили этим голову. Наверное, все-таки «кабасы».) Он поехал в Рахат и дальше, за Рахат, и договорился. Он показывал верблюдам на пальцах, как чехол будет покрывать их с головы до ног, и топал, изображая копыта, защищенные полипреном, а потом верблюды что-то блеяли между собой и мялись, потому что боялись двигаться с места, боялись перехода через пустыню. Идея про лошадей отпала с третьей попытки: куда бы он ни отправил своих людей, тут же выяснялось, что лошади – истерички, он не хотел иметь дела с истеричками. Верблюды были ок, хотя ему и двум его солдатам пришлось повторять одно и то же по пятьдесят раз, потому что у верблюдов не было никакого нормального центра, никакой самоорганизации. Он приходил с ящиком пайков, собранных его мальчиками из того, что было не жалко, Милена стояла у него за спиной с автоматом, он клал перед каждым верблюдом по две пайки и начинал говорить. Верблюды сбивались в группки по трое и четверо, один раз он выступал перед аудиторией из восьми верблюдов сразу. Верблюды смотрели только на ящик с пайком и на рулоны полипрена, а он смотрел на них, с тоской думая, сколько же времени эти дохлые огрызки будут идти от, скажем, «Бриюты» (самого набитого из медлагерей и самого криво расположенного, поставленного в низине, и дела там тоже всегда шли криво) до огромной караванки «Далет», где жило в бараках с наспех забитыми полипреном щелями испуганное и растерянное человеческое стадо поголовьем в несколько тысяч штук. Но в результате прицепы с выздоравливающими каждый день отправлялись из медлагерей в караванки (мальчики Сури спроектировали высоченные оглобли для верблюдов и сами сколотили их из говна и палок). А его все равно называли доктором Менгеле, все равно пеняли ему на то, что он живет в «Рэдиссоне» (как будто остальной штаб жил в говне), припоминали, что его дочка, уж извините, жива-здорова и находится рядом с ним. «Дай ей бог всего самого лучшего, бедной сиротке, – трещало радио, – но некоторые люди продолжают задавать алюфу Гидеону очень нехорошие вопросы. Они говорят: „Неужели алюф отдал бы свою девочку в медлагерь, если бы, не дай бог, поиски сначала велись в другой части школы, если бы, хамса-хамса-хамса, девочка пострадала и ей надо было лечиться?“» Он никогда не видел ведущего передачи «Рэфуа шлема»[23 - Дословно «Полное исцеление» (ивр.); это же выражение используется как пожелание скорейшего выздоровления.], но чувствовал, какой этот говнюк жирный, и с наслаждением представлял себе, как мягко вдавливает ботинок в его кадык и как на шее у этого говнюка собираются бордовые складки. Но все равно он слушал радио каждый день, тайком от дочери уносил приемник в ванную, надевал наушники, не признался бы в этом никому, делал вид, что ему плевать на радио (хотя ему и казалось иногда, что возле замочной скважины подозрительно хлюпает кое-чей сопливый любопытный нос). Он даже внеурочного сыру ни разу дочери не принес, все строго по пайку! (И внутренний голос сразу: тварь бездушная, даже сыру внеурочного дочери не принес, все строго по пайку!) Слова толстяка обостряли в нем чувство вины, но не за медлагеря, нет, а за то, что на самом деле он был бы счастлив куда-нибудь деть сейчас Дану Гидеон, а о Марике Ройнштейне и говорить нечего. У него просто не было сейчас сил на Дану Гидеон. И Марик же! Так вот, когда по ночам он сидел в наушниках на унитазе, перелистывая насквозь проштудированный гостиничный журнал (что-то вроде медитативной практики), его иногда внезапно охватывало просветление: господи, да он совершенно напрасно нервничает из-за Доры! Ну что Дора? Что Дора? Шесть лет назад Дора была щенком. Дора была тогда как бы трехлетним ребенком, а сейчас, в пересчете на человеческий возраст, ей шестью четыре? Двадцать четыре года. Что человек двадцати четырех лет может помнить о разговоре, который случайно услышал, когда ему было три? Не о разговоре даже: об одном коротеньком телефонном звонке. Даже не звонке: об одном «нет», повторенном дважды, а потом на той стороне дали отбой, и алюф Цвика Гидеон (тогда еще алюф-мишнэ[24 - Полковник (ивр.).]) остался стоять с колотящимся от ярости сердцем и липким от пота мобильником в руке. Ах, ну не будем морочить голову читателю: короче, Дора была в комнате, когда они позвонили ему во второй раз. Не на мобильный и не на рабочий мобильный, которые в этот момент прослушивались как минимум десятком битахонщиков, а на третий мобильный, про который Шуши ничего не знала и никто ничего не знал: у него было право на собственную жизнь, в конце концов, – а откуда эти твари узнали про третий мобильный? – тут он чувствовал, что к боли и ненависти примешивается некоторое, чего скрывать, уважение: хитрые же гады, твари, хитрые же твари (неполиткорректные нынче эпитеты, причем оба, объяснила им Сури на недавнем инструктаже, проведенном по распоряжению каких-то идиотов из центра, мы больше не обзываемся словами, которые означают животных). Так вот: да, Дора во время этого избежавшего прослушки разговора была с ним в комнате. Да, только он и Дора, миленький щеночек, Dora the Explorer, которую малютка Дана Гидеон настоятельно требовала назвать Даной Гидеон, – еле договорились, мудрено ли, что он путается? Какая же сложная девочка все-таки, хамса-хамса-хамса. Кажется, Дора тогда спала. В любом случае, лежала, закрыв глаза. Так или иначе, Дора не могла ничего понимать. Они назвали сумму, очень точную, знали, твари, точную сумму в сейфе до бумажечки (откуда?! – так и не выяснилось). Он давился яростью. Они сказали, что сейчас назовут время и место. Он на секунду оглох, или они медлили, воображая, как он мечется в поисках воображаемого карандаша. Они сказали: «Аллё?» – и он вдруг услышал, как его рот совершенно по собственной воле с ненавистью произносит в трубку: «Нет». На том конце провода как-то вроде захлебнулись воздухом; даже сквозь приблуду, которая превращала их голос в стальную проволоку, изгибающуюся так и сяк, чтобы получались стальные слова, было слышно, что они захлебнулись воздухом: ну да, ну да, вот уж слова «нет» они не ждали. «Забыл ли ты, дружок, про конвертик с черепашкой, плохо ли мы тебе объяснили, дружок?» Они этого не сказали – просто задохнулись воздухом, и в этот судорожный вдох он аккуратненько уместил свое повторное «нет», все уже понимая – и понимая, что это ярость говорит его ртом, белая ледяная ярость. Они бросили трубку. Потом он стал ждать. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Потом все стало ясно, и он вышел к следователям. Он как будто бы лежал в это время комком на проссанном Дорой диване, маленький бедный птенчик, полковник, будущий глава штаба Южного округа, и грыз губу, стараясь не думать про запекшуюся черепашку, а тот, кто его ртом сказал «нет» (два раза), вышел к следователям с третьим мобильником в руке, растерянный, но собранный (да, так): он виноват, ему стыдно, он должен был сказать им, что существует третий номер, и нет, у него сейчас нет другой женщины, он любит свою жену, он больше жизни любит жену и дочь, просто… На него замахали руками: он не обязан ничего объяснять – да-да, простите, я не об этом, но так или иначе: они позвонили на третий номер, они назвали сумму, он согласился, сказал им «да». Дальше было, что было, а в день похорон («Пожалуйста, не надо меня кормить, не надо за мной заезжать, не надо вокруг меня носиться, бога ради, Лори, я приеду сам») он выходил из пустой квартиры (Дана Гидеон была у друзей сестры, в их семье существовало твердое правило: детям не место на похоронах), то есть должен был выходить, но не мог выйти, тупо ходил из комнаты в комнату, все время забывая, что он ищет свою бутылку с водой, вспоминая, ища ее почему-то в не застеленной постели, или среди дочкиных игрушек, или под подушкой у Шуши, и все это время Дора ходила за ним (тут хочется сказать «молча» – а как же еще? – просто ходила за ним, цок-цок). И вот прошло шесть лет, он сидел на унитазе в холодном люксе гостиницы «Рэдиссон», уставившись на журнальную картинку (мрачные болотистые эльфы насыпают полной красавице полные полные руки полых браслетов), и совершенно внезапно к нему приходило что-то вроде блаженного прозрения: господи, о чем вообще речь? Чего ему бояться? Собака ходила за ним по квартире в день похорон хозяйки. Собака всегда ходила за кем-нибудь по квартире. Что он себе напридумывал, что накрутил? Что Дора могла понять тогда, что может помнить сейчас, но главное – почему, почему она должна сказать что-нибудь Илане Гарман? Откуда эта фантазия? Раньше он ни разу не думал ни о чем подобном, а мало ли людей с начала асона общалось с Дорой? Он в пятитысячный раз представлял себе, как Дора и Илана Гарман оказываются наедине, но сейчас ему рисовалась милая пасторальная сцена: поглаживания и поскуливания, поговаривания и… ну, поборматывания, совершенно бессмысленные поборматывания бессмысленной собаки. Итого: Илана Гарман должна переехать к нему завтра же, Илана Гарман может переехать к нему прямо завтра, и тогда, да простит его Господь, будет кому возиться с Даной Гидеон и ее сопливчиком, хотя дело, конечно, не только в этом. Он энергично вскакивал, он решал, что завтра же пойдет за пропуском, он быстренько составлял в голове небольшой список дел: предупредить часового, провести с утра пораньше дисциплинарную беседу с дочерью («Слушаться Илануш, как меня, ясно, суслик?»), что-то еще, что-то еще… Но с каждой секундой его кристально ясное просветление мутнело, он еще пытался удержать его (длинное, тянущее усилие где-то в глубине правого виска), но оно расползалось и рвалось, и от страха у него снова немели щеки. Такие моменты напрасного просветления случались почти каждый вечер, он был измучен. И вот мы здесь: настал день, когда Илана Гарман надавила на него – нет, нечестно так говорить, давайте предположим, что в этом не было ничего манипулятивного: просто уставшая от бытовых тягот постапокалиптической жизни немолодая женщина разрыдалась на плече у любимого. Просто невыносимая кликушествующая дура в ее бараке опять полночи причитала, что скоро пайки срежут, потом отменят, и все станут есть друг друга, и она может им гарантировать: с нее они не начнут, пусть даже не надеются. Просто им сообщили, что из-за нехватки воды чистые полотенца выдадут только в пятницу. Просто к ней опять приходил вязкий философствующий потнюк из Защитной службы и вел долгие разговоры, и рассказывал, что его бывшая держала кота, так вот этому коту и слова были не нужны, и без слов было ясно, что кот – говнюк; когда он первый раз пришел к этой бывшей потрахаться, он кота уже через пять минут взял за шкирку и швырнул об стенку – и сутки был нормальный котик, мурлыкал, терся об ноги, а через сутки опять говнюк, штаны дерет когтями, он кота за шкирку, а эта бывшая его за дверь, вот же есть женщины, с которыми даже кот может обращаться, как с говном, такая ему не нужна, то ли дело Илана Гарман, в Илане Гарман есть уважение, он видит это уважение, женщину, в которой есть уважение, и мужчина будет всю жизнь уважать – и т. д., и запах этот жуткий от него. Просто… ой, нет, просто она, Илана Гарман, эгоистичная дура, фу, ей стыдно, пожалуйста, пусть он на нее не сердится, на нем такой груз, и она понимает, как ему сложно, и вообще, она так благодарна, что он дает ей шанс, фу, как же ей стыдно за эти рыдания, сейчас она перестанет. Он сказал, что ей не должно быть стыдно, что она не должна переставать, что она всегда может плакать при нем и жаловаться ему на что угодно, что завтра она переезжает к нему и он больше не хочет слышать никаких отговорок. На этом месте Илана Гарман даже подалась назад, приоткрыв рот совсем как Марик Ройнштейн – ааа? каких отговорок? – но в такие моменты кто же станет уточнять? Никто – и она заново разрыдалась и сказала, какой он хороший, какой он удивительный человек. С этого момента он перестал спать. Дора ходила за ним, цокая когтями, и в какой-то момент он схватил собаку и кусачками подстриг ей когти. Дора после этого долго жевала и вылизывала себе пальцы, а потом сказала: «Покажи свои». Он снял носок и показал желтоватые, аккуратно подстриженные ногти. Это, видно, дало собаке ответ на какой-то занимавший ее вопрос, она потеряла к своим ногам всякий интерес, но три дня назад он опять стал слышать это цок-цок, и в своем измученном, издерганном состоянии счел это дурным знаком. Нынче же, стоя у гигантской гостиничной духовки (Зеев Тамарчик попытался усесться на разделочную поверхность рядом с ним, и он, как всегда, постарался оказаться от Зеева Тамарчика как можно дальше: он сам не замечал, как это происходит, и если бы кто-нибудь сказал ему, он бы удивился, он считал, что Зеев Тамарчик хороший и толковый мужик, хоть и неопытный и немножко пошляк), алюф Цвика Гидеон цок-цок, цок-цокал ногтями то одной руки, то другой по своему темному отражению в теплостойком стекле. Всю еду для штаба и штабных приживальцев готовили не тут, а на малой кухне в другом крыле гостиницы, и поверхности, в последний раз надраенные три недели назад, медленно покрывались радужной пылью.
Иногда собаки просто теряются. Уходят и не приходят. Заходят в море и не выходят. Верблюды все время гибнут, когда наползает буша-вэ-хирпа. Собаки не успевают домой, не успевают добежать до гостиницы по тревоге, двери закрываются, Дана Гидеон плачет и кричит, Марик Ройнштейн молча соплится пуще обычного, бедная собака, бедные дети.
Зеев Тамарчик рассказывает анекдот: «Верблюд, собака и корова заходят в бар – и ничего, все нормально». Внезапно алюф Цвика Гидеон соскакивает с плиты (дальше очевидная последовательность: бежит, лифт, не лифт, лестница, коридору положено быть бесконечным, что еще? – ну, понятно, – и вот он вбегает в номер…), и вот он вбегает в номер: все хорошо. Илана Гарман изумлена, Илана Гарман счастлива: он выбежал на минуточку ее обнять, сказать, как он ей рад. Где дети? У моря. Где Дора? С детьми. Где моя бутылка с водой? Вот, ты забыл ее на кресле. Ты самый лучший. Я тебя люблю. Алюф Цвика Гидеон ползет назад в кухню по темным коридорам, как таракан, черный-черный таракан в полипреновых дурацких тряпках. Телом, мышцами спины он помнит, как полз вот так шесть лет назад темным переулком после спектакля, разыгранного им (признаемся теперь здесь, в пустом коридоре) совершенно бездарно, но чтобы усомниться в подлинности представления, надо было допустить, что он сказал в трубку «нет», что человек, у которого требуют выкупа за жену, может сказать «нет». За спиной, в переполненном мусорном контейнере, лежал его китбек с тремястами двадцатью тысячами наличных денег (минус две пачки, но он сам не знал, что уронил их). Впереди у него, казалось бы, не было ничего, кроме плохо освещенной ночной улицы, а на самом деле – человек, наверное, тридцать в черной маскировочной одежде, в защитках и жилетах, в касках и очках ночного видения, и все они так жалели, так жалели бедного алюфа-мишнэ Цвику Гидеона, многообещающего Цвику Гидеона, Цвику Гидеона, который когда-нибудь наверняка станет начальником штаба, и они будут рассказывать, как прикрывали его той густой и горькой ночью, когда он нес выкуп по темному переулку, закидывал китбек в переполненный мусорный бак и полз обратно по темному переулку, как черный, раздавленный, почти мертвый таракан. Кто будет рассказывать, как взял на месте явившихся за выкупом злодеев, садистов, негодяев? Никто: они прождали этих негодяев, злодеев, садистов тридцать шесть часов. Никто не пришел. Они прождали еще сутки. Никто не пришел. Они прождали еще два часа, и тут приехал глава полиции: тело Шуши нашли (дальше подробности; Гидеон потребовал все, все подробности, он требовал повторять подробности, терзал себя и тех, кто вынужден был сообщать ему подробности, терзал и терзал и терзал). Полиция пыталась вернуть ему деньги из бака. Нет, это улика, нет, пускай они лежат у вас, пускай, вдруг когда-нибудь… Вдруг однажды это позволит… Зачем спорить с измученным горем человеком? Спорить с измученным горем человеком не надо (а надо сказать: он был измучен горем. Он был измучен страшнее и чернее, чем кто-нибудь мог вообразить, он был измучен горем, и виной, и стыдом, и виной, и стыдом, и виной). И вот он ползет назад, в штаб, на заседание кондитерского цеха (хихи). Позади у него номер, в котором очень хорошая женщина раскладывает вещи из жалкой сумки весом менее 8 килограмм (по его же инструкциям в лагерь запрещалось брать больше). Впереди у него светлое и спокойное счастье, позади у него безумие, навязчивая мысль, нелепая и необъяснимая задним числом: откуда? Почему? Какое расскажет? Какая Дора? Дора – это вина, вот и все, алюф Цвика Гидеон даже не понимает, что отлично это понимает, и очень хорошо, что не понимает (покойная Шуши, кстати, умела подносить ему такие психоаналитические откровения с самоуверенным видом, и это бесило его до зуда).
Сладко пахнет несуществующими более пончиками и шоколадом, из которого пайки категории H2, раздаваемые мирному населению, состоят на 11%. Он отдает две трети мяса и тунца из своего пайка A1 детям, и все равно они едят раз в десять больше шоколада, чем он бы позволил им в мирное время (ладно, нет смысла об этом думать). Что я пропустил? Приходил мальчик. Какой мальчик? Этот твой мальчик. Что, один?! (Алюф Цвика Гидеон не мог представить себе, что хлюпало сделает хоть шаг без Даны.) Да, один. Нет-нет, с Даной Гидеон все хорошо, и с собакой все хорошо. Он сказал – ему надо поговорить. Гребаный мальчик. Черт знает что, а не утро. Я выйду на всякий случай и найду гребаного мальчика? Конечно, мы пока про гигиену в лагерях, это ответственность Тамарчика, никто не слушает Тамарчика.
Он почему-то представлял себе, что Марик Ройнштейн, как всегда, стоит за спиной у Даны, пока та радужными ногами пинает радужную морскую воду или занимается чем-нибудь еще с той же мерой осмысленности, но сопливчик подвернулся ему под ноги прямо за углом, по пути к центральным лифтам. Алюф Цвика Гидеон выругался и извинился. Сопливчик стоял, качаясь мелким тельцем, как суслик, как будто алюф Цвика Гидеон каждым движением рук дергал за привязанные к его макушке ниточки.
– Что? – спросил алюф Цвика Гидеон нетерпеливо.
– Пропуск, – сказал сопливчик заунывно, как в трубу.
– Куда? – не понял алюф Цвика Гидеон.
Сопливчик помотал головой и снова качнулся.
– Марик, говори, пожалуйста, – алюф Цвика Гидеон очень старался, – чем я могу тебе помочь? Тебе нужен пропуск? Что-то случилось? Тебе надо поехать к врачу?
– К Сури пришла сестра, я видел ее сестру, – сказал сопливчик.
– К нам всем иногда ходят люди, – сказал алюф Цвика Гидеон. (Ничего ж себе! Неужели маленький засранец собрался настучать ему на Сури? Алюф Цвика Гидеон даже заинтересовался.)
– Пропуск, – сказал сопливчик.
– Марик, – сказал алюф Цвика Гидеон, – я там не шерсть на палочке верчу, а пытаюсь вытащить тридцать тысяч человек и хрен знает сколько прочих тварей из жопы. Ты можешь сказать, что тебе надо? Тебе надо для кого-то пропуск? Ты хочешь, чтобы к тебе кто-то пришел? (Кто, кто? Кто остался на белом свете у этого бедного суслика?)
– Один день, – сказал сопливчик и втянул в себя слизь с шумом промышленного гостиничного пылесоса. – Я слышал, вчера она говорит Адас: мне пропуск на сестру. А сегодня пришла сестра. Дать пропуск занимает один день.
Испуганный голос. Слизкий, тягучий голос маленького сопливца. Маленький ты сопливец.
Алюф Цвика Гидеон осторожно потянул воздух носом, сглотнул тугой, колючий ком ярости и спросил освободившимся горлом:
– Что ты хочешь, мальчик?
– Мяса, – сказал Марик Ройнштейн, и кадык у него жадно дернулся. – Два еще мяса каждый… Каждые…
– Раз в неделю. Одно. Есть при мне, – сказал алюф Цвика Гидеон.
7. Тоже
*«Мы тоже умеем говорить» (араб.), граффити, часовая башня, Яффо, дек. 2021.
8. Коронный номер
Пальцы старушки – сухонькие, тоненькие, почти сплошь коричневые от старости – были унизаны разномастными кольцами, и он отчетливо видел, что одно из них, свободно болтающееся на безымянном пальце, вот-вот слетит. Только на это он, Рахми Ковальски, и надеялся, только этого и желал: тогда старушка бы наверняка наклонилась за кольцом (вернее, он бы бросился подбирать ее кольцо, не давая ей наклониться) и все бы как-то обошлось. Но кольцо болталось и болталось, вертелось на коричневой узловатой палочке, как на стерженьке детского кольцеброса, старушка продолжала шипеть дрожащим голосом, так что слова ее с трудом можно было разобрать, зато Гарри визгливо выговаривал каждое слово с ледяной отчетливостью. Он хватал Гарри за руки, пытался увести, пытался заставить слезть с ящика, даже попытался зажать ему рот, но Гарри так закричал на него: «Мне? Мне?! Мне ты пытаешься пасть зажать?!» – что он сдался и только стоял, замерев, и ждал, когда все закончится, потому что рано или поздно оно заканчивалось. Старушка трясла перед ним рукой так долго, что он успел даже запомнить первые цифры бледного номера – 52, и успел подумать, что весь номер короткий, а он почему-то всегда считал, что номера эти были длинные, цифр по двенадцать (почему?). «Все это, все вот это – это вы, вы, вы это себе скажите, – повторял Гарри, – вы себе все это скажите, все правда, только это про вы, это про вас», – и старушка тоже пошла на третий круг, про неуважение и неблагодарность, про последнее, что есть, и про то, что вот так делаешь добро, а получаешь только ненависть, – «все правда, а только это не про меня, а про вас, это вы скажите себе!» В голосе Гарри послышалась ему наконец та усталость, после которой подобные сцены обычно заканчивались, Гарри вдруг замирал и оседал, и тогда он, уже предусмотрительно зачехливший и забросивший за спину свой инструмент, немедленно подхватывал ящик, подхватывал самого Гарри и, бормоча извинения, убегал в подворотню на Дубнов, где и вел с Гарри один и тот же неизбежно заканчивающийся слезами разговор, и больше они в тот день не работали. Потом примерно неделю, а иногда и десять дней Гарри терпел и вел себя хорошо, и хлопал кому из подающих тихо, а кому и громко, вытянувшись всем телом и стуча по ящику хвостом, и важно было только не пропустить момент, когда слишком уж энергичными становились аплодисменты, которыми Гарри награждал какого-нибудь торопливого солдата, кинувшего в тарелочку четверть хозяйственной карточки, или упрямого долговязого старика, не давшегося лагерным агитаторам из чистого страха перемен и готового отсыпать уличному музыканту горсточку пайкового сублимяса, которое многие теперь повадились жевать с утра до ночи, чтобы во рту не было пусто. Слишком энергичные аплодисменты означали, что пора бы тихо сказать: «Гарри!!» – или: «Гарри!! Ты мне обещал!» – или еще что-нибудь, а лучше просто свернуть манатки и на пару дней притормозить. Эти пару дней Гарри будет в основном лежать и молча чесаться или спать почти беспробудно, жуя во сне кончик своего одеяла; проснется он, как похмельный – разбитый, мрачный, голодный, – но к утру следующего дня придет в себя и можно будет вернуться играть на улицу. Да, делать пару-тройку дней перерыва в таких случаях было бы умнее всего, вот только очень тяжело давались эти ничем не заполненные дни в темной сырой квартире: когда не играешь, много думаешь. Поэтому почти каждый раз он надеялся, что есть еще немножко времени, что на Гарри накатит только завтра или даже послезавтра – и вот перед тобой стоит шипящая, хрупкая, как ободранное бурею деревцо, старушка, и рука с номерком позвякивает кольцами прямо у тебя перед носом. Ему почудилось, что вскрики Гарри стали слабее и, что ли, формальнее, он знал, что сейчас Гарри перейдет на слабые, вялые фразы, всегда одни и те же: «Человек перед вами играет… Человек не милостыню просит, а играет… А вы думаете – можно милостыню. Можно милостыню, а нельзя. Человек знаете где играл? Вас бы не пустили. Я неблагодарный? А это ты… Вы неблагодарный. На себя все это говорите лучше. Нельзя милостыню! Надо послушать. Он же для вас играет, скрипка, надо встать послушать! Лучше не класть ничего, а послушать, а вы кладете и идете! Нельзя! Нельзя!» Это означало, что пора хватать ящик и бежать, Гарри даст себя унести, а не порвет ему когтями руку, как было в первый раз (еле зажило, и врач, который выписывал ему антибиотики, явно был раздосадован, что приходится тратить антибиотики на такие глупости). Он подхватил Гарри под хвостатый зад, и Гарри уткнулся ему в плечо обессиленно и безразлично, и он уже забормотал свои «проститерадибога» и «онжекакребенок», и тут старушка, сделав три шага вперед, чуть не к самому его носу поднесла палец, а потом этим же пальцем ткнула Гарри в спину раз, и еще раз, и еще раз, и Гарри взвизгнул от неожиданности и боли, и тут она сказала, что это нелюди, прямо и есть нелюди, и только болтают как люди, но это скоты, твари, гады, да, твари, ее не научишь, ей эти новые правила тьфу, она будет правду говорить, твари, твари, никакой души в них нет, и асон был от них, ей все объяснили, люди все знают, и пайки, ничего мы им не должны, и что, что говорят, бесы бы, наверное, тоже говорили, мы бы им дали себя объедать, землю нашу занимать, нашу еду есть, когда люди в нищете? Люди все знают, она старая, ей все равно, она так и скажет: твари, скоты, гады, всех вас надо было перебить и всех вас перебьют, ничего, подождите, люди поймут еще все и перебьют, а вы, интеллигентный человек, еще и кормите, я вот положила мыльную карточку и сейчас назад заберу, дайте сюда, если вы мне скажете, что ему хоть что-нибудь дадите, это моя карточка, мне и решать, что вы смотрите на меня?! Он прижал Гарри к груди, спиной к старушке, и достал из джинсов полиэтиленовый пакетик, куда ссыпал все из тарелочки, чтобы разобрать потом дома. В пакете были, среди прочего, несколько хозяйственных осьмушек и одна четвертькарточки на мыло и прочую гигиену. Ему очень не хотелось отдавать четвертькарточки, вообще все это было немыслимо и как-то до дрожи отвратительно, он понимал, что должен сейчас испытывать справедливую ярость, ненавидеть эту старушку, что-то ужасно резкое ей в ответ сказать, бросить ей эту четвертину, но только бессильно стал рыться в пакете, чтобы уже все закончилось. Гарри висел на нем, вцепившись всеми конечностями в свитер, растянувшийся от этого чуть ли не до колен, и плакал. Наконец он сумел выцепить из пакета чертову картонку и протянул Грете Маймонид вместе с налипшим кусочком гашиша, который кто-то добрый, с кем вообще хорошо бы пообщаться, кинул в мисочку пару часов назад, а кто – он и не заметил, глаза были закрыты. Она взяла картонку, гашиш сунула ему назад, а картонку попыталась разломить трясущимися, слабыми пальцами на две осьмушки. Жидкие кудельки ее, ярко-рыжие по всей длине, но совершенно белые у корней, явно ни разу не крашенные со дня асона, тоже дрожали мелкой дрожью, точь-в-точь такой же, какая била сейчас сползающего все ниже и ниже Гарри. «Дайте», – сказал он и разломил четвертинку сам. Грета Маймонид взяла у него с ладони один маленький кусочек картона и забросила глубоко в кусты.
9. «Лапка-бадшабка»
Материал для детского чтения
Предназначен для самостоятельного детского чтения, чтения с родителями, для методических занятий в школах и педиатрических медлагерях, для использования при оказании психологической помощи.
Изд-во «Отдел социальных проектов Южного военного округа» (Маарахот-Даром)
Серия «Книжка спешит на помощь»
Текст: Сури Магриб
Илл.: Илана Гарман
Возр. катег. 7-10 лет.
Изд. код A-006КСМП-49
Шули собирает чемодан, а папа ее поторапливает: «Давай, малышка, уже ночь, а в семь часов утра нас с тобой подхватят – и вперед!»
Шули помнит, что в чемодан много класть нельзя. Папа взвесил свой чемодан – десять килограмм! И у Шули должно быть не больше. Кажется, много – а вот сколько всего не влезло: и ролики, и лук со стрелами. Даже книжки пришлось взять только самые любимые. Они уезжают не насовсем, скоро все опять будет в порядке, и Шули снова будет кататься на роликах по детской аллее возле дома. Но сейчас ей очень грустно.
Папа взвешивает ее чемодан: почти десять килограмм!
– Решай скорее, Шули! – говорит папа.
Шули колеблется. В руках у нее книжка про Бильби[25 - Имя Пеппи Длинныйчулок в ивритском переводе.] – самая лучшая книжка на свете. «Если уж брать с собой всего несколько книжек, – думает Шули, – то такие, которые можно перечитывать хоть по сто раз!» В книжке про Бильби целых пять историй, поэтому книжка тяжелая, если положить ее в чемодан – будет как раз десять килограмм. Шули очень хочется взять с собой «Бильби» в незнакомый лагерь! Но что-то ей мешает.
За спиной у Шули кто-то вздыхает, тихонько-тихонько. Шули делает вид, что ничего не заметила. Она знает, что на комоде стоит большая-пребольшая клетка, а в клетке – красивый пластиковый домик: даже не домик – дворец! В нем три этажа, лесенки, подвесные кольца, горки, комнатки, поилки, кормушки… Раньше у Шули не было большей радости, чем смотреть, как ее ручной хорек Анемон бегает по своему дворцу: как будто золотистый ручеек перетекает!
Но после асона Шули все не привыкнет, что Анемон теперь может разговаривать. Как будто и не любимый Анемон это, а неизвестно кто. Шули даже спать в одной комнате с Анемоном не может: вдруг он ночью с ней заговорит, а она не будет знать, что ответить? Даже слово «бадшаб» кажется Шули страшным, колючим. Анемон это знает и при Шули всегда молчит, но ей все равно страшновато. Поэтому клетку с Анемоном папа перенес в гостиную и только сегодня вечером переставил в комнату с чемоданами, чтобы утром быстро-быстро все взять. Шули слышала несколько раз, как папа с Анемоном разговаривают. Папа говорил, что очень скучает по маме Шули, а Анемон его утешал.
Шули тоже ужасно скучает по маме, но с кем об этом поговоришь? Папе и так грустно, пусть он и старается не подавать виду. А всех друзей Шули и их семьи уже развезли по лагерям. Шули не знает, когда с ними встретится. «Может быть, – думает Шули, – в лагере будет психолог, которому я расскажу, как скучаю по маме». За спиной у нее тихонько позвякивает подвеска. Шули знает – это Анемон забрался на самый-самый верх своего дворца и смотрит на нее. Но оборачиваться ей не хочется.
Папа заглядывает в комнату и уже совсем-совсем сердится.
– Шули! – говорит он строго. – Ты же не выспишься и мне не дашь! Или выходи из комнаты, или собирай дворец сама!
Шули очень трудно, но она медленно идет к книжной полке и ставит на место любимую «Бильби». Место, которое осталось в ее чемодане, – для пластикового дворца. Сейчас папа разберет его на части, а в лагере снова соберет и поставит в клетку, чтобы Анемону было веселее. Шули выходит из комнаты и притворяет за собой дверь. Ей еще надо почистить зубы и принять порошки от радужной напасти. Она устала и с радостью ляжет спать, только на сердце у нее грустно.
В квартире все разбросано, но Шули знает, что это не страшно: просто папа старался быстро собраться и ничего не забыть. Зубная щетка Шули, паста и порошки аккуратно ждут в ванной: их папа уложит уже завтра утром. Шули чистит зубы, а сама прислушивается: вот папа вошел в комнату, вот легонько звякнул замок клетки, сейчас, наверное, будет шум и стук от деталек, из которых состоит дворец. Но шума все нет и нет. Шули замирает со щеткой во рту: что же происходит?
– Шули! – зовет папа. – А ну-ка загляни сюда.
Шули удивляется. Неужели она забыла упаковать что-то важное? Тогда придется доставать еще книжку из чемодана! Шули не входит в комнату сразу, а спрашивает через дверь:
– Клетка закрыта?
– Закрыта, – отвечает папа, и Шули заходит.
Шули старается не смотреть на Анемона, а смотреть только на папу. Папа выглядит очень удивленным, и Шули не знает, что думать.
– Очень тебе хочется взять с собой «Бильби»? – спрашивает папа.
Шули кивает.
Тогда папа берет толстую, тяжелую книжку про Бильби с полки и торжественно кладет в чемодан. Шули ничего не понимает. Тогда папа говорит:
– Анемон сказал, что обойдется без дворца. Он уже не маленький, а в лагере будет много новых впечатлений, и он не соскучится. Анемон сказал: «Пусть Шулик берет книжку, я же вижу, как ей хочется».
Шули смотрит на Анемона, первый раз аж с самого начала асона толком смотрит в глаза своему другу. Глазки Анемона блестят, золотистая шерстка переливается, и Шули видит, как он рад. Шули очень стыдно, она не понимает, как могла бояться Анемона и забросить его на столько недель. Шули не понимает, как могла так поступить со своим другом.
Она подходит к клетке и гладит Анемона пальчиком по голове.
– Лапка-бадшабка, – говорит Шули. – Ты лапка-бадшабка.
А Анемон только довольно жмурится и не отвечает ничего.
Как ты думаешь…
• Почему Шули стала бояться Анемона?
• Что случилось с мамой Шули?
• Почему Анемон отказался от своего дворца?
• Что чувствовал папа, когда Анемон отказался от своего дворца?
• Что чувствовала Шули, когда позже, в лагере, читала любимую книжку про Бильби?
• Все ли бадшабы ведут себя, как Анемон?
• Как еще могут вести себя бадшабы?
• Какие правила поведения с незнакомыми бадшабами ты знаешь?
Доп. материалы в серии «Книжка спешит на помощь», возр. катег. 4–9 лет:
С. Магриб, «Загадочное происшествие в девятом караване», A-001КСНП-49;
С. Магриб, «Шули прячется от бури», Y-002КСНП-412;
Р. Маймонид, «Марик заболел», А-003КСНП-49;
К. Гагнус, «Самый роскошный праздник», E-004КСНП-49;
Р. Маймонид, «Шули скучает по дому», Е-005КСНП-812;
Р. Маймонид, «Как папа стал спасателем», A-007КСНП-49;
Т. Климански, «С новосельем, Марик! или Второе происшествие в девятом караване», А-008КСНП-810;
С. Климански, «Белый корабль в радужном море», B-009КСНП-49;
Т. и С. Климански, «Рони-Макарони, молчаливый бадшаб», Y-010КСНП-412.
Изд-во «Отд. соц. проектов Южн. воен. окр.», фев. 2022.
10. Дизартрия – это…
…когда во рту каша, ты говоришь вроде, но все слова как из говна слеплены, и ничего невозможно разобрать – ну, признаемся себе, ты не говоришь, а воешь, ты пытаешься как бы связно говорить, а вместо этого уыааааааааауааааа, ы, ы, ыыыы. Для выявления дизартрии больному предлагают произнести скороговорку: Костя Маев, скажи «Интервьюер интервента интервьюировал, интервьюировал, да не выинтервьюировал». Скажи, Костя Маев, «Баба Клава в балаклаве распугала попугаев». Хорошо, перейдем к шипшипшипшипящим: «Сшита шуба из шиншилл – шиншилл шиншилле шубу сшил». Это сейчас, Костя Маев, никто не может выговорить, хехе, такое время, не надо нам такого выговаривать, да, все животные – братья. Вы, кстати, когда-нибудь держали в руках шиншиллу? Не напрягайтесь, я вам сам расскажу, я держал: ой, ну это вообще. Ну это такое, как будто шелк у тебя по пальцам льется. Не держали, нет? Не напрягайтесь, горлышко расслабили, не надо все слова сразу, по одному говорим и между каждым дышим-дышим-дышим: «Я… Никогда… Не держал… В руках…» Ну дальше сам, давайте-давайте, Константин Маев. Константин Маев дает: «Я… Однавжжж… Однааа… Однажды!» Константин мо-ло-дец! Легким язычком говорим, давайте-давайте, язычок свободно болтается, дышим-дышим – он одна… однажды держал сразу двух, это было ровно пять лет назад, незабвенным и сладостным апрелем шестнадцатого сладостного годдддд гоооддддда – язычок! – гооода, просто про него так больно, что сразу – ну вот, апрелем, и он был совсем салага, но уже свой, упоительно свой, Наш. Он обнаружил объявление на «Авито», когда они с Катей пытались купить подержанную сушилку для одежды, – зашел посмотреть, что еще у этого чувака есть, ему давно хотелось купить для чая какие-нибудь тонкие-тонкие, сине-бело-золотоватые чашки, но искать он стыдился, а только делал вид, что просто поглядывает, чем люди приторговывают, интересно же. У чувака, который на фотографиях профайла оказался милой женщиной с ярко-красными волосами, был, как назло, только кофейный сервиз «Кораблик», а еще сушилка вот эта самая – и домашняя ферма по разведению шиншилл. Он сразу похерил сушилку и кинул ссылочку Демиургу – первый и единственный раз написал ему в фейсбучном мессенджере напрямую, кстати; сначала что-то пытался приписать, но получалось плохо, сбивчиво («Смотри, чо я…», «Мужик, смотри, ты хотел шиншилл…», «Смотри, мужжжыыввввв…»), но понял, что круче вообще без комментариев – а чо, свой своему, наш нашему, по-простому, – и кинул без комментариев. Ответа не было минут десять, очень неприятных, а потом затанцевали три точечки, он похолодел – а Дем, оказывается, писал: «Прикольно!» Ах, Костя Маев, Костя Маев, помнишь, как оно в этот момент было – тепло? Через два дня они поехали вчетвером, Костя Маев первым справа – такое ему выпало вознаграждение, – парканулись у железного подъезда в ебенях и вошли всею своей мощью в маленькую, яркую, перегретую квартиру с такими всякими штуками, от которых Костя всегда таял, как последняя баба, – вроде висящего на стенке крошечного, с ладонь, туземного медного чайничка, вроде большой расписной турецкой тарелки, невероятно зеленой, со сваленными в нее ключами, таблетками и монетками, – но в тот момент в квартирке был такой совсем другой Костя, стальной и кожаный, и все смотрели на Дема так, как на Дема всегда все смотрят (а научись, Костя Маев, ставить глаголы в прошедшем времени) – как на Дема всегда все смотрели, и Дем был такой – как всегда, да-да, – немыслимо галантный, хозяйке поцеловал ручку и сказал: «Не посмею отнимать время, готов знакомиться с индивидами», – и они все пошли было в маленькую, остро пахнущую зверятиной комнату, но, конечно, не сумели даже через кухню пройти эдаким скопом и остались стоять в коридоре, но на пороге комнаты Дем на него одного глянул и сказал: «Ну?» – и он пошел, весь теплый.
Давайте, Константин Маев, попробуем иначе: бог с ними, со скороговорками, вот я вам анекдот расскажу: подарили вашему Малютину попугая, большого, красивого, а тот ругается – ужас. И ты мудак, и жена твоя шлюха, и дети твои бандиты… Ну, Малютин взял и сунул попугая в холодильник. Проходит час, открывает этот человек холодильник, а попугай оттуда: ой, и вы такой прекрасный человек, и жена у вас красавица, и дети отличники! «То-то», – думает Малютин. Достал попугая, посадил на жердочку, а тот: «Вы меня извините, Евгений, а только что вам эта курица сделала?..» Ну чего мы не улыбаемся, ну что мы суровые такие, ну хоть отвлеклись – и то хорошо, а теперь легонько говорим: «От топота копыт пыль по полю летит». Пыль попо… попопо… пыпыль оказалась немыслимо красивой вещью, если лежать в нее лицом, но при этом как бы смотреть вбок, – это он хорошо помнит. Первый его мотоцикл был «ИЖ», ему было пятнадцать, отец уже умер, мама стала ангелом – так он это называл про себя, когда из бойкой профкомовки она после папиных похорон превратилась в отрешенное, почти бессловесное, нежное существо, всегда носившее одну и ту же белую блузочку, которую остервенело стирала по часу каждую ночь, и гладившее Костю по голове истончившейся невесомой рукой. Первый конь и первое реальное махалово – он уже прибился к ребятам, к самым серьезным ребятам в Севастополе, был при них салажонком, и в тот день Демиург, Дем, сказал ему: «Возьмешь трофей – трофей твой». Он махался честно, голыми руками – это была их, «Демиургов», гордость, «Кулак – оружие железного человека», – говорил Дем, и они всегда махались наголо, ничего никогда в руки не брали – он оказался в какой-то момент один против огромного бугая с обрезком трубы, получил трещину в запястье, чуть не задохнулся от страшного тычка в живот, хребтом ударился об асфальт и понял, что это конец, и почувствовал, что сейчас произойдет самое ужасное, что только может произойти с человеком, – он разревется; и тогда он просто взял и вцепился этому бугаю зубами в глотку. Это было очень страшно – как там в глотке вдруг что-то хрустнуло и срезонировало у него в голове, будто глушак рванул в ночной хрустальной тишине. Ему было пятнадцать, и он зубами вырвал у судьбы свой первый «ИЖ», который потом перешел к Яше-мелкому. На этом «ИЖике», который наследник не просто держал в порядке, а разбирал-собирал-пересобирал раз в месяц «для чистоты», по его собственному выражению, Яша-мелкий и поехал в колонне 25 мая текущего года из Севастополя в Керчь. Костя снова ехал вторым справа – и как же это было больно, как же черно было у него на сердце, потому что впереди ехал не Дем, а Свин. Пыль и грязь, и сколько же было этой грязи, и самой что ни на есть грязной грязью был, казалось Косте Маеву, набит его собственный рот с той самой ночи за неделю до поездки, когда разбуженная злая Катька пошла открывать дверь и растерянно впустила Дема с огромной клеткой в руках. Как же Дем тогда старался, господи ты боже мой. У Кости Маева было совершенно безумное чувство, что это совсем не Дем, а кто-то украл тело Дема и посадил тут, у Кости Маева с Катей Маевой на кухне («Я это с кухонного стола заберу», – сказала Катя холодно и унесла клетку, в которой сидели длинношерстный Ангел и лысый Бес, Костя Маев увидел шиншилл впервые с того сладкого вечера, когда ему доверено было идти вторым в колонне, и ему показалось, что они, как и он, оглушены происходящим). Тело выглядело, как Дем, но словно бы прилагало массу усилий, чтобы двигаться, как Дем, держаться, как Дем, и говорить голосом Дема. От всего, кроме чая, это тело отказалось, да и на чай согласилось только потому, показалось Косте Маеву, что настоящий, еще две недели назад существовавший Дем, наверное, согласился бы на чай. Костя Маев поставил перед телом Дема давно нарезанный лимон с сильным привкусом холодильника, и тело Дема начало этот лимон есть, не прикасаясь к чаю, и говорить. Исчезнуть, чтобы продолжать дело. Есть одни ребята, ни с кем не знакомил вот ровно на такой случай. Дело надо продолжать. Он будет продолжать дело, наше дело. Ребята одни, сильные ребята, не круче наших, конечно, но незасвеченные ребята, подробнее сказать нельзя, он и так одному только Косте Маеву, полагается на Костю Маева, дальше Кости Маева не пойдет, он это знает – а Костя Маев знал, что враньем, как пылью, сейчас забит Демиургов рот. Уйти в подполье, чтобы перегруппироваться. Сгруппироваться и продолжать дело. Малютин – это ненадолго, ребята, между прочим, знающие и говорят, что Малютин – это ненадолго, что там, в Москве, действуют такие силы – ого, наши силы, на нашей стороне, а подробнее мы ничего не знаем, и знать не наше дело, а наше дело надо продолжать, когда Родина вновь позовет. Для этого сейчас надо уйти под землю, это страшно тяжело, но он, Дем, готов. Готов оставить ребят, хотя у него вот тут (тело постучало по якобы Демиурговой груди якобы Демиурговым кулаком) вот тут черный камень лежит от этого. Сегодня надо уйти, до завтра не ждет. Нельзя попрощаться с ребятами даже, нет, он им доверяет, как себе, но Костя Маев же знает наших ребят – они за Дема встанут все как один, за Дема и за Родину они захотят пойти с ним, все бросить – а с ним нельзя, это слишком опасно, он, Дем, не поведет людей за собой туда, где неясно, выживет ли он сам. Тело Дема было, как всегда, идеально выбрито, но Косте Маеву вдруг показалось, что сквозь запах клепаной кожи и лосьона для бритья пробивается запах мочи – видимо, тело Дема перед выходом меняло опилки в клетке. Костя Маев смотрел, как торопливо движется вниз-вверх чисто выбритое горло, и ему вдруг невыносимо захотелось наклониться, аккуратно прихватить это белое горло зубами и так, замерев, послушать, что это оно говорит, как будто через горло мог передаться какой-то смысл Демовой речи, не доходящий до слов, – вязкий, липкий страх, вот что это было бы, понял Костя Маев. Вот уже мерзкие, бесконечные минуты прощания с целованием Катиных ручек и кривым мужским объятием, и горло было близко-близко, а потом, когда дверь закрылась, Костя Маев пошел к клетке и увидел, что Ангел спит, а Бес смотрит на Костю Маева крошечными черными глазами, и горло его быстро движется вниз-вверх, вниз-вверх. Месяц спустя Костя Маев ехал вторым справа, и клетка с шиншиллами стояла у него за спиной. Было немыслимое, нежное, сладостное, трепещущее зеленое утро, и сам он себе казался прозрачным после вчерашней церемонии, когда они сожгли свои флаги и трижды глухо сказали, что «Крым небесный в наших сердцах», и Свин винтом выпил полбутылки специально запасенного, редкого, крымской выдержки, и передал бутылку по кругу. До Кости Маева дошло, соответственно, чуть ли не последним, и вместе с коньяком он сглотнул карабкавшиеся по горлу вверх слезы. Катя Маева была уже в Израиле, Израиль сейчас всех желающих из Крыма забирал быстро, Катя Маева собралась за три дня, и все три дня они, выоравшиеся наизнанку во время последней Катиной попытки убедить мужа бросить «весь этот маскарад» и валить, друг с другом не разговаривали и как-то вполне искренне не замечали друг друга, словно случайные люди, забредшие переночевать в одну квартиру. Перед тем как автобус Сохнута забрал Катю Маеву в аэропорт, она поменяла шиншиллам опилки и набила кормушку остатками корма. Закрыв за ней дверь, Костя Маев пошел к шиншиллам плакать и увидел наверху кормушки клочок бумаги со словом «Приезжай» – и тут уже выплакался за все, за Крым, за Дема, за все – и в следующий раз заплакал уже только у огромного костра, с почти пустой общей бутылкой в руках, и это было ок, потому что все равно никто не видел ничьих глаз в этот момент. На следующее утро он ехал справа от Свина, прозрачный и пустой, и только пыль беспокоила его – нет, не его самого, а в смысле Ангела и Беса, как они там в такой-то пыли? Костя Маев накрыл клетку старой курткой и хорошо обвязал, но боялся, что шиншиллам и пыльно, и душно. На последнем привале, почти под самой Керчью, он в первую очередь пошел проверять шиншилл – они вроде были ничего; впрочем, как определить, чего они или ничего? Костя Маев не умел – как и они, наверное, не умели определить, в порядке ли Костя Маев, когда меньше чем через полчаса он лежал перед ними в пыли, лицом в пыль, и простреленная рука пылала так, что Костя Маев словно был совсем отдельно от этой боли, а только смотрел на висящую в воздухе пыль, немыслимо красивую пыль, какую-то бархатную в нежном свете солнечного утра, когда их колонну, идущую домой, в Россию, взяли в клещи и расстреляли без предупреждения кем-то явно предупрежденные российские пограничники. Через неделю Костя Маев по кличке Избранник был уже в Израиле, милостиво выуженный из разгромленной керченской больницы все тем же Сохнутом, а что стало с шиншиллами – совершенно непонятно, и сейчас Косте Маеву было почему-то невыносимо смешно думать, что вот вопрос: заговорили шиншиллы или не заговорили? – тонкий вопрос, ответ на который зависит от того, чей все-таки Крым, – тут Костя Маев вдруг начал смеяться и попытался объяснить врачу, что тут такого смешного, и даже почти справился, почти все слова произнес хорошо и четко, только вместо «пыль» почему-то вырывалось из Кости Маева длинное мучительное «ыыыыыыы», и врач сказал, что Костя Маев мо-ло-дец, что это называется «дизартрия» и что ничего неврологического у Кости Маева нет, это стресс, просто стресс, это пройдет.
11. Хипстотааааа
Энди, Андрей Сергеевич Петровски, однажды жестко оскоромился: поел мяска, и еще как поел. Гонконг, общий отпуск с сестрой (Агата Петровски летит из Мск, он из ТА, так это все красиво, «а вообще, Андрюшка, мы хипстотаааа». «Будешь называть меня „Андрюшкой“, будешь „Агатой Сергевной“». «А вообще, Хрюшка, мы хипстотаааа». «Ну тебя, коза»), и вдруг в последние ночи перед отпуском он перестает нормально спать, просыпается с паническими атаками, два раза не приходит волонтерить в «Цаар Баалей Хаим»[26 - Израильское общество защиты животных.], пропускает роды у несчастной бритой корги, которую сам же месяц назад подобрал на улице, – ну почему? Ну потому, что он очень любит Агату Петровски, очень любит старшую сестру, но блин. Во-первых, ее вечные мелкие подколочки, мелкие-мелкие, и он вдруг, лежа ночью никакой, подумал, что это же как китайская пытка: каждая подколочка – ничто, но к исходу третьего дня с сестрой из него половина крови через дырки вытечет. Во-вторых, разговоры про папу и ее сраное чувство юмора. Через три месяца после папиной смерти они напились (они тогда вообще перестали расставаться, он приехал в Мск на похороны, поселился у нее, а уехал через три, собственно, месяца), и она сказала: я думаю, папа в аду. Он помнит, как в этот момент замер от чувства невозможного, божественного откровения и как через несколько секунд обнаружил, что выглядит, наверное, полнейшим идиотом – щеки надуты, верхняя губа оттопырена, – потому что вот буквально только что они с Агатой Петровски изображали хомяков. Папа их, Сергей Александрович Петровски, был совершенно прекрасный, мягкий, обожающий животных человек (да что ж за еб твою мать, из-за асона это первое, что сейчас говорят, и вот у него, Энди, в голове тоже, оказывается, окончательно перещелкнуло), но Энди знал, что она права, и не знал, почему права, и Агата Петровски поспешно сказала, что она не имеет в виду, будто папа плохой, просто она так чувствует; и вообще она думает, что ад – это просто, понимаешь, такая серая долгая маета, ад – это маета, вот что («Агата!!! Блин!! Прекрати!!!»), да нет же, ну ты знаешь папу, ну он там, может, как всегда, что-нибудь коллекционирует совершенно невозможное – ну, например, фольклор! Должен же в аду быть фольклор? («Прекрати, блин!!!») – ну все, ну все, она дура, она не хотела, ну Андрюшка!.. На следующее утро он сказал ей, что пришло письмо от «Цаар Баалей Хаим», что ему наконец поручили всю агитационную работу, что завтра он улетает, потом они сутки почти не виделись, потом он улетел. Не было с тех пор раза, чтобы она не заговорила о папе, и при каждой встрече от этого разговора у него переворачивался желудок – и, конечно, она делала это не нарочно, просто Агата Петровски есть Агата Петровски. А в-третьих (это он вспомнил уже во время войны, когда писал листовку, умолявшую всех и каждого ставить на улице наполненные водой миски для животных, потому что «жар войны опаляет не только нас»), у Агаты Петровски был свой способ осматривать города, доводивший Энди до бешенства: ее интересовали только люди, она могла бесконечно сидеть на одном месте и пялиться на проходящих мимо прохожих, уверенная, будто она что-то «понимает» про этих незнакомых людей. Он называл это «проективным запоем» («Ну пойми, это просто твои проекции, ты ничего не угадываешь, ты делаешь это все просто потому, что нельзя проверить, как оно на самом деле!» «Ну пошли проверим же, ну давай я вот этого лысого клетчатого спрошу, я тебе клянусь, он содержит русскую блондинку, которая ни слова не говорит на его родном французском и еле-еле на английском, и уверен, что она его любит, ну клянусь тебе!» «Агата, не смей!» «Ну это две секунды, мне самой интересно!» «Агата, я уйду!..») Он представил себе тогда, лежа в ночи с ноющим от паники животом, как вместо нормального Гонконга у него будет бесконечная Агатина проективная трескотня, и разговоры о папе, и вопросы о его, Энди, жизни, и вдруг подумал, каким наслаждением было бы не сесть завтра в самолет, что-то соврать, остаться в своей норке, лежать себе тихим зайчиком. В пять утра он сел в самолет и через двенадцать часов встретил в гостинице какую-то совершенно поразительную Агату Петровски – тихую, мягкую, прозрачную и, как позже выяснилось, внезапно беременную. Они гуляли и нежничали, и ели немыслимые вещи, и покупали какие-то непонятные глупости в невообразимых лавках, и он показывал ей небоскребы и навесные мосты, и вдруг вечером, в Сохо, куда они, как идиоты, пришли не просто сытыми, а объевшимися, из Агаты Петровски полезла Агата Петровски, и эта Агата Петровски сказала ему, что у нее есть мечта, давным-давно – проходя мимо людей, которые едят суши, невозмутимо взять одну сушину с подставки, съесть и пойти дальше: «Понимаешь, это эксперимент про собственность, это… Ну что они сделают?» «Агата, ты шутишь». «Вот знаешь, если ты называешь меня по имени, это не значит, что ты сердишься, а значит, что ты напуган». «Агата!!!» – и тут она это сделала. Ну, как «сделала» – и тут она взяла сушину со столика, за которым сидела молодая местная пара и круглая суровая старушка, и рванула бегом, волоча Энди за собой, и они пробежали, наверное, два квартала, у него сжимался и болел от ужаса желудок, и все это время дура Агата Петровски держала украденное перед собой, вытянув руку и этой же рукой расталкивая прохожих. Они остановились под какой-то глухой стеной, задыхаясь, и он вдруг понял, что сестра совсем не смеется, а как-то люто напугана, и сказал ей: «Брось», – а она сказала: «Мы должны это съесть», – пересохшим голосом, с которым не спорят, и Энди почему-то первым открыл рот; она сунула туда то смятое и раздавленное, на что он не готов был лишний раз посмотреть, и он зажмурившись куснул, и тут же проглотил, и уже тогда понял, что это было, – мясо, он съел мяса, а она в омерзении выкинула остаток, и разрыдалась, и прижалась к нему, и он обнимал ее, снедаемый тошнотой и бешенством, – и вот сейчас опять лежит в постели ровно с тем чувством, с которым лежал ночью перед вылетом в Гонконг, хотя ему совершенно не светит увидеть Агату Петровски, или даже получить мейл от Агаты Петровски, или даже получить фейсбучный лайк от Агаты Петровски, – потому что чувствует, что настали скоромные дни, плохие, скоромные дни, в которые он еще не раз оскоромится, и не мяском – благо поди сейчас найди мяско, все пайки скорее вегетарианские, чем нет, и вот он уже скоромится, уже испытывает по этому поводу немножко гнусное удовлетворение, – а всем, всем, что лезет из него и не так еще полезет, и он припомнит еще, как лезло черное и безжалостное из Агаты Петровски, и как бесило его, и чувствует почему-то, что полезет и не такое, а что – непонятно, и вспоминает еще, как Агата Петровски сказала, когда либеральная общественность дружно, громко и жестоко презирала в фейсбуке кого-то из своих же, оскоромившегося участием в передачке на Первом канале в путинские времена: «Война портит всех, а тех, кто против войны, – больше всего. Им легко казаться себе хорошими, а это яд». Энди, Андрей Сергеевич Петровски, очень старающийся быть хорошим человеком, лежит и смертельно боится оскоромиться, лежит и понимает, что это гордыня, гордыня.
12. Стена
Три недели войны – что пытались сделать за три недели войны, еще до асона?
Пытались ввести в Израиль международные войска: начинался коклюш в войсках, начинались ветрянка и свинка, корь и скарлатина, детские болезни косили американские, французские, австралийские войска, и не получалось ввести в Израиль войска. Пытались ввезти гумпомощь: портилась гумпомощь, подмокала и загнивала, рассыпалась и ссыхалась гумпомощь, и не получалось ввезти гумпомощь.
Пытались сбрасывать оружие с вертолетов: глохли еще на земле моторы вертолетов, давали трещину лопасти на подлете к воздушной границе, нарушалась балансировка винтовой системы, заедали двери кабин, и не получалось сделать ничего с вертолета.