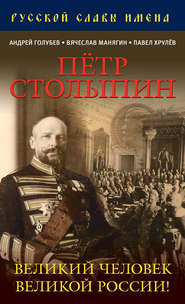скачать книгу бесплатно
В течение 1901–1907 годов были осуществлены десятки тысяч террористических актов, в результате которых погибло более 9 тысяч человек. Среди них были как высшие должностные лица государства, так и простые городовые. Часто жертвами становились случайные люди.
Во время революционных событий 1905–1907 годов Столыпин лично столкнулся с актами революционного террора. По разным данным, на Столыпина было совершено от 11 до 18 покушений. В него стреляли, бросали бомбы и камни, в анонимном письме террористы угрожали отравить 2-летнего сына Аркадия. Среди погибших от революционного террора были друзья и ближайшие знакомые Столыпина (к последним следует отнести, в первую очередь, В. Плеве и В. Сахарова). И в том и другом случае убийцам удалось избежать смертной казни вследствие судебных проволочек, адвокатских уловок и гуманности общества.
С самого начала своей деятельности на посту премьер-министра в день роспуска I Государственной думы (9 июля 1906 г.), Столыпин заявил о бескомпромиссной борьбе с террором. В первом же своем циркуляре (от 11 июля) он заявил: «Открытые беспорядки должны встречать неослабленный отпор. Революционные замыслы должны пресекаться всеми законными средствами… Борьба ведется не против общества, а против врагов общества. Поэтому огульные репрессии не могут быть одобрены… Намерения государя неизменны… Старый строй получит обновление. Порядок же должен быть охранен в полной мере».
В ответ террористы объявили Столыпину войну на уничтожение.
Место взрыва 12(25) августа 1906 г.
Буквально через месяц, 12 августа 1906 года, когда Столыпин на своей даче на Аптекарском острове принимал посетителей, боевая организация эсеров подготовила на него и его семью покушение. Вот как описывает его современник (А. П. Аксаков), хорошо знавший все подробности преступления: «Спустя только месяц после назначения Столыпина Председателем Совета Министров, группа социалистов-революционеров максималистов организовала чудовищное по жестокости покушение. Произошел взрыв министерской дачи на Аптекарском острове. Вот в кратких словах описание этого события. 12 августа 1906 г., в 3 час. 15 мин. дня, во время приема у Председателя Совета Министров, к даче его у Ботанического сада подъехало ландо, в котором находилось 3 человека; из них двое были в форме офицеров. Они подъехали к даче министра уже тогда, когда запись посетителей была прекращена, а потому, несмотря на приемный день, прислуга не хотела их впускать. Они проявили намерение проникнуть силой в следующую за прихожей приемную комнату, где ждали своей очереди многочисленные посетители и находился весь состоящий при Председателе Совета Министров штат должностных лиц. Во время столкновения с прислугой, один из злоумышленников, одетый в жандармскую офицерскую форму, бросил разрывной снаряд, тотчас же со страшной силой разорвавшийся. Силой взрыва были разворочены прихожая, прилегающая к ней дежурная комната и частью следующая за ней приемная, а также разрушен подъезд, снесен балкон второго этажа, опрокинуты выходящая в сад деревянные стены первого и второго этажей. По всему зданию прошел страшный толчок. Сила взрыва была такова, что частями разрушенных стен и выброшенных из дома предметов меблировки, а также мелкими осколками стекла была осыпана вся набережная перед дачей. Министр, принимавший просителей у себя в кабинете, остался невредимым. Его дочь и сын, находившиеся на балконе второго этажа, были ранены; первая в обе ноги, а второй в бедро с переломом кости. Находившиеся в швейцарской и в соседних комнатах лица убиты и ранены. Раскопками, произведенными нижними чинами двух полков и пожарными пяти городских частей, обнаружены 27 трупов и 32 человека с разными тяжелыми повреждениями; убийцы сами были убиты взрывом. Трупы лиц, бывших на даче, особ разных рангов и положений, среди которых были дамы и даже один младенец, найдены большей частью обезображенными, в виде бесформенных масс, без голов, рук и ног; и долго объятые ужасом, родные отыскивали среди этих обезображенных тел близких им людей. Карета скорой помощи отвезла детей министра в частную лечебницу доктора Кальмейера, куда скоро прибыл и сам П. А. Столыпин. Мальчику, сыну Столыпина, было только три года, а дочери его 14. Несчастная девочка, когда ее вытащили из-под досок и мусора, и понесли в соседний дом, говорят, спросила: «Что это – сон?» «Нет, это не сон, барышня», – ответили ей. Когда ее положили на кровать, и она увидела свои окровавленные ноги, она горько заплакала.
Адъютант Столыпина А. Л. Замятнин, фактически спасший Столыпина от смерти ценой своей жизни
Дача Столыпина после взрыва 12(25) августа 1906 г.
Несмотря на страдания детей и ужас пережитой минуты, когда среди развалин дачи он видел себя окруженным обезображенными трупами, многие из которых представлялись искалеченными остатками близких ему людей, П. А. Столыпин не потерял присутствия духа и мужественно давал необходимые распоряжения.
«После того как детей увезли, – рассказывает один очевидец, – министр вошел в полуразрушенный кабинет, вместе с министром финансов Коковцевым, который уговаривал его перевести семейство к нему.
– Когда я вытащил свою дочь из под обломков, ноги ее повисли как пустые чулки, – говорил он. Одежда министра вся была замазана известкой, на голове у него было большое чернильное пятно, так как во время взрыва подняло стол и опрокинуло чернильницу. Столыпин хладнокровно приказал позвать офицера и сказал ему: «Поставьте караул к столу; я видел здесь человека, который хотел его открыть. Тут государственные документы». В саду позади виллы отдавал приказания молодой чиновник, прикомандированный лично к Столыпину, весь окровавленный, перевязанный, каким-то чудом спасшийся из маленькой дежурной комнаты, совершенно разрушенной. На деревьях набережной висели клочья человеческого тела…
«В тот же вечер, – продолжает тот же очевидец (Г. Сыромятников), – я был у Столыпина, он бодро говорил мне, что надеется спасти своих детей»…
Ужасное, неудачное для активных революционеров покушение, стоившее стольких жизней, и причинившее столько страданий, вызвало общий крик негодованья и ужаса. Со всех сторон полетели к Столыпину выражения искреннего соболезнования. Сам Государь удостоил его следующей сердечной телеграммой: «Не нахожу слов, чтобы выразить свое негодование; слава Богу, что Вы остались невредимы. От души надеюсь, что Ваши сын и дочь поправятся скоро, также и остальные раненые».
Все испытывали жгучее негодованье и презрение к подлым убийцам, только левые и кадетские группы, по обыкновению, высказывались сдержанно и лукаво».
Вечером семья переехала в дом премьера на Фонтанке. Вскоре по предложению императора Столыпины переселились в Зимний дворец, где охрана была надежнее.
На следующий день после взрыва на Аптекарском острове на станции Новый Петергоф эсерка З. В. Коноплянникова застрелила генерал-майора Г. А. Мина на глазах дочери и жены. Потрясенный этими событиями император приказал принять строжайший закон относительно террористов.
19 августа 1906 года был принят «Закон о военно-полевых судах», который в губерниях, переведенных на военное положение или положение чрезвычайной охраны, временно вводил особые суды из офицеров, ведавших только делами, где преступление было очевидным (убийство, разбой, грабеж, нападения на военных, полицейских и должностных лиц). Предание суду происходило в течение суток после совершения преступления. Разбор дела мог длиться не более двух суток, приговор приводился в исполнение в 24 часа. Введение военно-полевых судов было вызвано тем, что военные суды (постоянно действующие), на тот момент разбиравшие дела о революционном терроре и тяжких преступлениях в губерниях, объявленных на исключительном положении, проявляли, по мнению правительства, чрезмерную мягкость и затягивали рассмотрение дел. В то время как в военных судах дела рассматривались при обвиняемых, которые могли пользоваться услугами защитников и представлять своих свидетелей, в военно-полевых судах обвиняемые были лишены всех прав.
Опубликованный в газетах 25 августа 1906 года «Закон о военно-полевых судах» сопровождался длинным перечнем террористических актов последнего времени и комментариями правительства, повторявшими слова П. А. Столыпина: «Революция борется не из-за реформ, проведение которых почитает своей обязанностью и правительство, а из-за разрушения самой государственности, крушения монархии и введения социалистического строя». В своей речи от 13 марта 1907 года перед депутатами II Думы премьер так обосновывал необходимость действия этого закона: «Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества».
Подавление революции сопровождалось казнями отдельных ее участников по обвинению в бунте, терроризме и поджогах помещичьих усадеб. Несмотря на несовершенство статистики и противоречивость отдельных данных, можно говорить о том, что за шесть лет действия закона с 1906 по 1911 годы по приговорам военно-полевых судов было казнено по различным данным от 683 до 6 тысяч человек (по тем временам масштаб казней для России был беспрецедентным), а к каторжным работам приговорено 66 тысяч. В основном казни приводились в исполнение через повешение.
Столыпина резко осуждали за столь жесткие меры. Смертная казнь у многих вызывала неприятие, и ее применение напрямую стали связывать с политикой, проводимой Столыпиным. В обиход вошли термины «скорострельная юстиция» и «столыпинская реакция». В частности, один из видных кадетов Ф. И. Родичев во время выступления в Думе в запальчивости допустил оскорбительное выражение «столыпинский галстук», как аналогию с выражением Пуришкевича «муравьевский воротник» (подавивший Польское восстание 1863 года М. Н. Муравьев-Виленский получил у оппозиционно настроенной части русского общества прозвище «Муравьев-вешатель»). Премьер-министр, находившийся в тот момент на заседании, потребовал от Родичева «удовлетворения», то есть вызвал его на дуэль. Подавленный критикой депутатов Родичев публично принес свои извинения, которые были приняты. Несмотря на это, выражение «столыпинский галстук» стало крылатым. Под этими словами подразумевалась петля виселицы.
П. А. Столыпин 12 августа 1907 г. на закладке памятника погибшим 12 августа 1906 года при взрыве его министерской дачи на Аптекарском острове
Лев Толстой в статье «Не могу молчать!» выступил против военно-полевых судов и соответственно политики правительства: «Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз все то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь».
Его поддержали многие известные люди того времени, в частности, Л. Андреев, А. Блок, И. Репин. Журнал «Вестник Европы» напечатал сочувственный отклик «Лев Толстой и его «Не могу молчать».
В ответ на эти нападки Петр Аркадьевич в своей думской речи ответил: «Но надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы, от царской резиденции, волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийской край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в южном промышленном районе, когда распространялись крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, – или действовать и отстоять то, что было ею сделано… За наши действия в эту историческую минуту, действия, которые должны вести не ко взаимной борьбе, а к благу нашей родины, мы точно так же, как и все, дадим отчет перед историей… Я убежден, что та часть Государственной думы, которая желает работать, которая желает вести народ к просвещению, желает разрешить земельные нужды крестьян, – сумеет провести тут взгляды свои, хотя бы они были противоположны взглядам правительства. Я скажу даже более, я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких-либо злоупотреблений. В тех странах, где еще не выработано определенных правовых норм, центр тяжести, центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы. Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление; эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «руки вверх». На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты, может ответить только двумя словами: «не запугаете».
Современники подчеркивали, что последние слова П. А Столыпина «не запугаете» прозвучали ясно и твердо, установили его неуклонно боевое отношение к революции. Слова эти имели особенно сильное значение, так как были произнесены тем человеком, дети которого еще недавно были искалечены ужасным взрывом, в то время, когда раскрывались новые и новые покушения на его собственную жизнь, и когда вокруг совершались убийства его сотрудников.
«Столыпин говорил, – писал Е. Н. Трубецкой, – как власть имеющий, как человек, сознающий свою силу. Напротив, оппозиции недоставало уверенности в себе, социал-демократы потерпели полное поражение в своих отдельных выступлениях. Что же касается молчания кадетов и других левых групп, то оно также не было победоносным… Вся русская оппозиция в этот день почувствовала себя парализованною».
Эта речь дала Столыпину сразу значение оплота силы, власти и законности, который до того как бы отсутствовал. Все почувствовали, что наступил конец параличному состоянию правительства, что власти возвращается ее ответственность, что она готова без страха дать отпор внутренним врагам и продолжать бестрепетно работу по обновлению государственной жизни.
Думская победа Столыпина встретила громадное сочувствие в широких кругах русского общества. Поздравления, приветствия и адреса со многими тысячами подписей, посылавшиеся к нему со всех сторон, еще более вдохновляли его.
Епископ Евлогий, близко знавший Столыпина, почти 30 лет спустя, уже будучи в эмиграции, вспоминал: «Эти знаменитые два слова «Не запугаете!» отразили подлинное настроение Столыпина. Он держался с большим достоинством и мужеством. Его искренняя прекрасная речь произвела в Думе сильное, благоприятное впечатление. Несомненно, в этот день он одержал большую правительственную победу…»
Однако подпольная деятельность революционных партий продолжалась. Сердца руководящей кучки революционеров не дрогнули пред клочьями разорванных на Аптекарском острове тел, пред массой бесплодно загубленных жизней, и эсеровские «боевые дружины», летучие отряды и группы бомбистов стали вновь сорганизовываться. Уже в декабре 1906 года неким Добржинским была организована «боевая дружина», которая, по поручению центрального комитета партии социалистов-революционеров, должна была убить того же П. А. Столыпина; она была во время открыта и захвачена.
7 мая 1907 года Столыпин обнародовал в Думе «Правительственное сообщение о заговоре», обнаруженном в столице и ставившем своей целью совершение террористических актов против императора, великого князя Николая Николаевича и против самого Столыпина: «В феврале текущего года отделение по охранению общественного порядка и безопасности в Петербурге получило сведение о том, что в столице образовалось преступное сообщество, поставившее ближайшей целью своей деятельности совершение ряда террористических актов. […] В настоящее время предварительным следствием установлено, что из числа задержанных лиц значительное число изобличается в том, что они вступили в образовавшееся в составе партии социалистов-революционеров сообщество, поставившее целью своей деятельности посягательство на священную особу Государя Императора и совершение террористических актов, направленных против Великого князя Николая Николаевича и председателя Совета Министров […] В квартире оказались, действительно, члены Государственной думы».
В заговоре приняли участие 55 депутатов, и Столыпин, сообщая Думе о его раскрытии и обыске в квартире депутата Озоля, заявил, что представляется необходимым принятие мер к обеспечению правильного хода правосудия, для чего требуется разрешение Думы на привлечение нескольких ее членов в качестве обвиняемых. Премьер добавил, что всякое промедление со стороны Думы в разрешении предъявленных к ней требований или неполное их удовлетворение поставит в невозможность дальнейшее обеспечение спокойствия и порядка в государстве.
После того, как Дума не согласилась на условия правительства немедленно и перешла к процедуре обсуждения требований, царь, не дожидаясь окончательного ответа, 3 июня распустил II Государственную думу. Тогда же были арестованы все депутаты с.-д., которые еще не скрылись. Население встретило роспуск Думы совершенно спокойно: не было ни демонстраций, ни попыток устраивать забастовки.
«Революция объективно закончилась», – писал П. Б. Струве.
Еще продолжались террористические акты, аграрные волнения, но даже Ленин на конференции социал-демократов признавал, что «революционной ситуации» больше нет.
В революционном движении наступило временное затишье. П. А. Столыпин заявил: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»
П. А. Столыпин с дочерью Натальею (1908 г.)
Манифест от 3 июня, объявивший о роспуске II Государственной думы, в тоже время объявил и о новом избирательном законе. «Измененный по инициативе Столыпина избирательный закон создал большую ответственность депутатов перед избирателями, а потому сделал выборы более сознательными; в то же время он устранил опасность переполнения Думы инородцами, сократив их число. Введением этого закона, Столыпин сделал великий шаг вперед на пути созидания нового строя русской жизни; он привел Россию к Думе работоспособной, при содействии которой удалось, наконец, стать на прочную почву законодательных работ» (А. П. Аксаков).
Новая избирательная система, которая использовалась при выборах в III Государственную думу, увеличила представительство в ней землевладельцев и состоятельных горожан, а также русского населения по отношению к национальным меньшинствам, что привело к формированию проправительственного большинства. Большинство в новоизбранной III Думе составили «октябристы». Находящиеся в центре «октябристы» обеспечивали Столыпину принятие законопроектов, вступая в коалицию по тем или иным вопросам либо с правыми, либо с левыми членами парламента. В то же время партия Всероссийский национальный союз, которой покровительствовал премьер, лидировала в думской национальной фракции, занимавшей промежуточное положение между октябристами и правой фракцией.
По свидетельству современников, III Государственная Дума явилась «созданием Столыпина». С первых же дней деятельности этой Думы требовал разъяснений вопрос о современном государственном строе в России. Выступление Столыпина по этому вопросу состоялось 16 ноября 1907 года. При полном составе всех депутатов, в зале, заполненном публикой, на ораторской трибуне появился П. А. Столыпин. Голос его звучал громко, отчетливо и ясно. Были даны ответы на самые серьезные вопросы русской жизни.
Современник вспоминает: «Когда Столыпиным затрагивались наиболее серьезные и важные вопросы русской жизни, давались ответы на них с обычным его красноречием, – громадное большинство Государственной думы прерывало его слова горячими и громкими аплодисментами. Первый гром таких аплодисментов раздался тогда, когда он говорил о том, что разрушительное движение перешло в открытое разбойничество, и указал на его развращающее влияние на молодежь. Он говорил:
«Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперед все противообщественные преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое поколение.
Противопоставить этому явлению можно только силу. Какие-либо послабления в этой области, правительство сочло бы за преступление, так как дерзости врагов общества возможно положить конец лишь последовательным применением всех законных средств защиты. Для этого Правительству необходимо иметь в своем распоряжении, в качестве орудия власти, должностных лиц, связанных чувством долга и государственной ответственности. Поэтому, проведение ими личных политических взглядов и впредь будет считать несовместимым с государственною службою. […]
Сознавая настоятельность возвращения государства от положения законов исключительных к обыденному порядку, правительство решило всеми мерами укрепить в стране возможность быстрого и правильного судебного возмездия. Оно пойдет к этому путем созидательным, твердо веря, что, благодаря чувству государственности и близости к жизни русского судебного сословия, правительство не будет доведено смутою до необходимости последовать примеру одного из передовых западных государств и предложить законодательным собраниям законопроекте временной приостановке судебной несменяемости.
В обстановке, когда насилие захлестнуло страну и когда Россию фактически толкали к гражданской войне, совершенно понятной становилась позиция Столыпина, выраженная словами: «Там, где аргумент – бомба, там, конечно, естественный ответ – беспощадность кары». В письме к Николаю II Петр Аркадьевич так выразил необходимость применения силы против насилия: «Тяжелый, суровый долг возложен на меня Вами же, Государь. Долг этот, ответственность перед Вашим Величеством, перед Россиею и историею диктует мне ответ мой: к горю и сраму нашему, лишь казнь немногих предотвратят моря крови».
Время правления Столыпина известно нам из всевозможных публикаций, от школьных учебников до докторских диссертаций, как «столыпинская реакция», как некая мрачная эпоха. Говорили и писали об этом много, упорно, долго, создавая устойчивое представление о том, что с 1906 по 1911 год страной управляло правительство, преследовавшее любую критику своих действий, не допускавшее ни малейшего контроля над собой, и притом правительство, попранием законов.
Последнее доказывалось особенно усердно, и прежде всего потому, что лица, разжигавшие пожар мировой революции на русском пепелище и публично заявлявшие, что диктатура пролетариата есть диктатура, не ограниченная никакими законами – ни юридическими, ни нравственными, были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы все думали, будто царские министры были тоже жестоки и также не признавали ни законов, ни нравственных авторитетов. Для этой цели и был создан миф, гласящий, что казнь революционера есть преступление, а военные суды – это не что иное, как издевательство над правосудием.
В разменном историографическом обращении находились непременные клише: «скорострельная юстиция», «столыпинский галстук», «столыпинский вагон». Мало кто вспоминает, что «столыпинские вагоны» впервые появились в 1908 году как вагоны, приспособленные для перевозки переселенцев из Европейской России в Сибирь.
И если столыпинскую юстицию называть «скорострельной», а политику Столыпина именовать «реакцией», то следует восстановить истину и напомнить, что эта юстиция и эта реакция были лишь ответом, естественным реагированием на бомбометательную практику борцов за «мировое счастье». Как государственный деятель Столыпин опирался на закон, как патриот он защищал национальные традиции, как христианин – Русскую Православную церковь.
Сам Столыпин объяснял вынужденность суровых карательных мер так: «…Повторяю, обязанность правительства, святая обязанность – ограждать спокойствие и законность, свободу не только труда, но и свободу жизни, и все меры, принимаемые в этом направлении, знаменуют не реакцию, а порядок, необходимый для развития самых широких реформ».
Император особым рескриптом от 1 января 1908 года, при пожаловании П. А. Столыпину звания статс-секретаря, выразил ему свою сердечную признательность за его труды, причем в числе его заслуг было особенно отмечено – «возрастающее доверие населения к правительству, особенно наглядно проявившееся при выборах в III Государственную думу, и многие отрадные признаки несомненного успокоения страны».
Наиболее тревожное время было Россией пережито. Смута закончилась.
Закон о военно-полевых судах так и не был внесен правительством на утверждение в III Государственную думу и автоматически потерял силу 20 апреля 1907 года. В итоге, вследствие принятых мер, революционный террор был подавлен, перестал носить массовый характер. Государственный порядок в стране был сохранен. И в этом была огромная заслуга П. А. Столыпина.
Глава 3. Реформатор. «Пусть расцветет наш родной, русский цвет»
На протяжении семи послереволюционных десятилетий мало что говорилось о реформаторской деятельности Столыпина за исключением его аграрной реформы. А между тем, 25 августа 1906 года в газетах, одновременно с «Законом о военно-полевых судах» была опубликована обширная программа экономических и политических преобразований, намеченных правительством.
В этот список входили: свобода вероисповеданий, неприкосновенность личности и гражданское равноправие, улучшение крестьянского землевладения, улучшение быта рабочих (государственное страхование), введение земства в Прибалтийском и в Западном крае, земское и городское самоуправление в Царстве Польском, реформа местного суда, реформа средней и высшей школы, введение подоходного налога, объединение полиции и жандармерии и издание нового закона об исключительном положении. Упоминалось также об ускорении подготовки созыва церковного собора и о том, что будет рассмотрен вопрос, какие ограничения для евреев, «вселяющие лишь раздражение и явно отжившие», могут быть немедленно отменены.
Совершенно очевидно, что хотя сердцевину реформ составляли идеи преобразования общинного землевладения, обеспечение политики и практики переселения и нововведений в школе, но знаменитая столыпинская реформа была задумана Петром Аркадьевичем как многоаспектное изменение страны, включающее модернизацию земской управы и судебного дела, улучшение положения рабочих, новую организацию кредитного дела, проведение новых коммуникаций и многое другое.
Столыпин придавал огромное значение созданию для реформ благоприятного социального фона, без чего, по его мнению, немыслимо было их успешное завершение. Издавна считалось, что любая реформа ухудшает экономическое положение и вносит дисбаланс в общество, подводя его подчас к опасной черте, за которой может последовать обвал, надлом, а то и социальная катастрофа.
То, что подобные суждения не лишены смысла, мы можем подтвердить опытом последних радикально-экономических реформ, проводимых в стране с 1992 года. Цена их, как известно, оказалась слишком высока. Особенно социальная цена. В результате – массовое обнищание населения, потеря трудящимися своих важнейших социальных завоеваний: права на отдых, на труд, бесплатное образование, лечение и т. д.
Очевидно, главная причина кроется в том, что к рулю управления реформами были допущены люди лишенные «государственного настроения души», говоря словами философа Ивана Ильина. Их основные усилия были направлены на то, чтобы насильственно внедрить на российской почве методики, некритично заимствованные (а точнее, разработанные) на Западе в недрах международных финансово-экономических структур. Все это толкнуло страну на путь освобождения от ее исторического прошлого, от культурных и нравственных традиций нашего народа.
Примечательно, что начал Столыпин не с низов, как это часто бывает, а с самой верхушки, т. е. с правительства. Он понимал, что проводить реформу предстояло все-таки ей, и он пошел на весьма смелый шаг, попытавшись в корне изменить отношение к правительству в Государственной Думе.
Столыпин был центром правительственной власти. Все государство в это время целиком олицетворялось его личностью. Петр Аркадьевич все это хорошо понимал, хотя и старался не злоупотреблять этим. Напротив, при каждом удобном случае он подчеркивал свои симпатии и уважение к народному представительству и его органу – Государственной Думе. По словам Н. П. Шубинского, жесткость силовых решений правительства всегда удачно драпировалась его подчеркнутым уважением к народному представительству и разнообразным выразителям его – от признанных вождей до самых мелких сошек. Выступая в Думе, Столыпин не уставал страстно повторять: тут нет ни судей, ни обвиняемых. Эти скамьи (указывал он на правительственные кресла) – не скамьи подсудимых, а места правительства России. При этом он был далек от мысли о том, что в эпоху реформ правительство вообще не подлежит критике. Члены правительства – это такие же люди, как и все, которым свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Хотя, безусловно, все злоупотребления должны быть осуждаемы и судимы.
П. А. Столыпин в Зимнем дворце (1908 г.)
Выступая в Думе, Столыпин неизменно подчеркивал органичность и национальную идентичность реализуемых им реформ. «Я хочу, – говорил он, – еще сказать, что все те реформы, все то, что только что Правительство предложило вашему вниманию, – ведь это не сочинено, мы ничего насильно, механически не хотим внедрять в народное сознание, – все это глубоко национально. Как в России до Петра Великого, так и в послепетровской России местные силы всегда несли служебные государственные повинности. Ведь сословия, – и те – никогда не брали примера с Запада, не боролись с властью, а всегда служили ее целям. Поэтому наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать свои силы в этих русских национальных началах. Каковы они? В развитии земщины, в развитии, конечно, самоуправления, передаче ему части государственных обязанностей, государственного тягла, – и в создании крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью… Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужестранный цветок. Пусть расцветет наш родной, русский цвет, пусть он расцветет и развернется под влиянием взаимодействия Верховной Власти и дарованного ею нового представительного строя. Вот, господа, зрело обдуманная правительственная мысль, которою воодушевлено правительство… Правительство должно избегать лишних слов, но есть слова, выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно бились сердца русских людей. Эти чувства, эти слова должны быть осуществлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти: неуклонная приверженность к русским историческим началом. Это противовес беспочвенному социализму, это желание, это страстное желание и обновить, и просветить, и возвеличить родину, в противность тем людям, которые хотят ее распада.
П. А. Столыпин в своем кабинете Зимнем дворце (1907 г.)
Если, выступая в первой Думе, в своих речах Столыпин наметил только некоторые вехи правительственной деятельности, то во вторую он явился уже с подробной, строго продуманной и вполне реальной программой. Призывая Думу к совместной работе с правительством, и говоря о системе зашиты правительственных законопроектов, он заявлял о готовности правительства относиться с полным вниманием к тем мыслям, которые будут противополагаться мысли правительственного законопроекта, и добросовестно решать, совместимы ли они с благом государства, с его укреплением и величием; в то же время он признавал необходимым учитывать все интересы, вносить все изменения, требуемые жизнью и, если это будет нужно, подвергать законопроекты переработке согласно выяснившейся во время обсуждения жизненной правде.
Не борьба с революцией (это была задача текущего момента), а именно реформирование всех сторон государственной жизни было главным направление деятельности Столыпина. А его реформы, прежде всего, основывалось на прекрасном состоянии русских финансов.
Ежегодно расходы бюджета увеличивались на 72 миллиона рублей, а доходы – на 75–80 миллионов. Несмотря на то, что Русско-японская война обошлась казне в огромную сумму – 2,3 миллиарда рублей, Россия нашла средства не только на покрытие ежегодных бюджетных расходов, но и на сокращение государственного долга. Если к концу 1909 года долг по государственным займам достиг наивысшей после Русско-японской войны суммы – 9,054 миллиарда рублей, то к концу 1913 года он понизился на 230 миллионов рублей.
Каким именно направлениям правительственной политики отдавал наибольшее предпочтение Столыпин? Об этом свидетельствует, например, бюджет на 1911 год. В нем расходы по Министерству народного просвещения увеличились по сравнению с предыдущим годом на 28,4 процента, по Морскому министерству – на 21,3 и по Главному управлению землеустройства и земледелия – на 18,6 процента. К лету 1911 года Столыпин разработал план новых, еще более обширных преобразований, для финансирования которых он намеревался увеличить бюджет более чем в 3 раза – до 10 миллиардов рублей, прежде всего за счет повышения крайне низких по сравнению с европейскими странами налогов. Когда же в 1912 году в Думе встал вопрос о возможности выполнения гигантской – так называемой Большой судостроительной – программы, министерство финансов заверило Думу, что для осуществления этой программы нет никакой необходимости прибегать к займам в течение ближайших десяти лет. Считалось возможным одновременно финансировать и военные, и гражданские программы при условии ежегодного роста доходов в 3,5 процента: в годы правления Столыпина эта цифра доходила до 4 процентов.
Благодаря постоянному превышению доходов над расходами свободная наличность государственного казначейства достигла к концу 1913 года небывалой суммы – 514,2 миллиона рублей. Эти средства пригодились как нельзя кстати в августе 1914 года, когда разразилась Первая мировая война. К ее началу золотой запас России достиг 1,7 миллиарда рублей, и русское правительство могло обеспечить металлическим покрытием более половины всех кредитных билетов, в то время как в Германии, например, считалось нормальным покрытие только на одну треть.
Такое прекрасное состояние финансов позволило правительству начать реализацию всего комплекса запланированных реформ. Не будем пока касаться аграрной реформы, выделив ее в отдельную главу, рассмотрим другие аспекты задуманного Столыпиным преобразования страны.
Реформа образования
Одной из самых жгучих проблем России начала XX века было состояние образования. Насколько нетерпимо обстояло дело с образованием, в особенности в провинциальной глубинке, говорит хотя бы такой пример из жизни Пензенской губернии: в 1906 году в Мокшанском уезде в школах и училищах всех типов обучение проходили лишь 45 процентов мальчиков и 17 процентов девочек школьного возраста. Стремление к развитию в России образования охватило все общество, и в данном случае Столыпин мог опираться на достаточно мощную поддержку в Думе.
Общие расходы только по Министерству народного просвещения повысились с 1907 по 1911 год более чем вдвое – с 45,9 до 97,6 миллиона рублей. Кроме того, в 1911 году расходы на науку и просвещение по смете Святейшего Синода превысили 18 миллионов рублей, а по смете других ведомств – еще 27 миллионов рублей. За это же время (1907–1911) расходы на высшее образование увеличились с 6,9 до 7,5 миллиона рублей. В 1909 году в Саратове был открыт университет.
Более заметно росли ассигнования на среднее образование: на гимназии, реальные и технические училища, учительские институты, семинарии и школы. С 1907 по 1911 год расходы на эти цели увеличились с 13,8 до 17,1 миллиона рублей. Однако максимальные средства выделялись на начальное образование. Если в 1907 году на него расходовалось 9,7 миллиона рублей, то в 1911 году-уже 39,7 миллиона. Министерство народного просвещения предоставляло земствам и городам кредиты на введение всеобщего обучения. К лету 1911 года сумма таких кредитов достигла 16,5 миллиона рублей.
Посещение П. А. Столыпиным собрания студентов-академистов в Лесном, близ Санкт-Петербурга (октябрь 1910 года)
В июне 1908 года в связи с введением всеобщего начального образования в России III Государственная Дума ассигновала дополнительно еще 6,9 миллиона рублей. Часть этих средств направлялась на постройку и оборудование училищ, часть – на выдачу училищам пособий, которую предназначались исключительно на содержание учителей, а следовательно, обучение в училищах становилось бесплатным и города и земства могли не сокращать расходов на народное образование. По планам Министерства народного просвещения, все дети дошкольного возраста должны были получить со временем бесплатное минимальное образование. Соответствующие планы разрабатывались и земствами.
В 1911 году в России насчитывалось свыше 100 тысяч начальных школ, из них почти 60 тысяч принадлежало министерству народного просвещения, а 34 тысячи были церковноприходскими, причем во всех этих школах обучалось 6 миллионов человек. В 1911 году в церковно-приходских школах прошло обучение около 1,5 миллиона человек. Долгие десятилетия о церковных школах даже не упоминалось, тогда как именно они сыграли огромную роль в распространении образования среди малоимущих слоев населения и по преимуществу в сельской местности. В 1908 году в церковных школах работало – в подавляющем большинстве случаев бесплатно – более 40 тысяч законоучителей, в том числе – 32 тысячи священников. Преподавались и общеобразовательные предметы, и здесь учителями часто также были священники, диаконы, псаломщики. Общие расходы на церковные школы в 1907 году составили 16,7 миллиона рублей – эта сумма складывалась из средств Синода и епархий.
Наравне с Русской Православной церковью чрезвычайно много для народного просвещения делало земство. В августе 1911 года в Москве состоялся (благодаря содействию Столыпина) первый общеземский съезд по народному образованию. Более трехсот делегатов, представлявших всю Россию, и 42 приглашенных на съезд специалиста разработали подробную систему развития образования и его материального обеспечения. 21 августа съезд постановил: «Признать введение общедоступности начальной школы неотложным… Признать желательным принцип обязательности начального обучения».
Петру Аркадьевичу, безусловно, было легче проводить свою политику в области образования, когда две мощные силы дореволюционной России – Православная Церковь и земство – поддерживали его начинания. Летом 1911 года он составил проект увеличения числа средних учебных заведений до 5 тысяч, а высших – до 1–1,5 тысячи к 1933–1938 годам. Плату за обучение предполагалось установить незначительную, с тем, чтобы даже малоимущие классы могли получать высшее образование.
Земская реформа
По плану Столыпина, земельная реформа должна была проходить одновременно с развитием земщины, развитием самоуправления путем сдачи ему, как он говорил, части государственных обязанностей, государственного тягла. Именно таким образом можно было создать крепких людей земли, тесно связанных с государственной властью, которые обеспечивали бы социальное спокойствие и порядок в стране. Но при этом подобное усиление, как мы бы сейчас сказали, региональной власти не должно было вредить единству России.
П. А. Столыпин. Портрет работы И. Репина (1910 г.)
Сам Петр Аркадьевич считал реформу местного самоуправления особенно в Западном крае, важнейшей составной частью своей программы. Выступая в Думе, он говорил:
«Сейчас у нас на очереди другая важная реформа Я говорю о реформе местной. Проектируемому правительственным законопроектом институту уездных начальников приписывают стремление умалить авторитет уездных предводителей. Это совершенно несправедливо. Исторически, традиционно сложившаяся крупная местная сила является авторитетом, который правительству ломать не приходится. Задача заключается в том, чтобы суметь скомбинировать с этою местною властью, остающеюся в уезде первенствующею, власть доверенного, уполномоченного правительственного лица. Наше местное управление должно быть построено по той же схеме, как и во всех других благоустроенных государствах. Посмотрите на Францию и Германию. Везде одно и то же. Внизу основой всего – самоуправляющаяся ячейка – сельская община, на которую возложены многие обязанности и государственные, как то: дела полицейские, дела по воинской повинности и проч. Ни у одного государства нет материальных средств, чтобы довести принцип разделения власти правительственной и общественной до самых низов государства. Но уже в уездах везде на западе мы видим подобное разделение. Наряду с самоуправляющимися единицами во Франции – правительственные супрефекты, в Германии – правительственные ландраты. Нечто аналогичное предстоит и в России…
П. А. Столыпин разговаривает с хуторянином Лащенковым и старостой близ Москвы (август 1910 года)
Новое земство, по правительственному законопроекту, должно перестать быть сословным, но землевладельцы должны сохранить в нем свое влияние. Землевладелец – это крупная культурная сила в великом деле устроения государства. Напрасно опасаются, что, в случае принятия законопроекта, старые испытанные земские работники, создавшие в течение 40 последних лет нынешнее земство, будут затерты новыми лицами. Они будут ими не затерты, а подкреплены…
Итак, на очереди главная задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Их более ста миллионов. Будут здоровые и крепкие корни у государства, поверьте, и слава русского правительства совсем иначе зазвучит перед Европой и перед целым миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для всех нас русских. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего и вы не узнаете нынешней России».
Столыпин придавал важное значение земской реформе в Западном крае, где русское население (белорусы и малороссы) находились в неравном положении по отношению к другим национальностям, прежде всего, полякам, из которых состояла большая часть землевладельцев. Закон о земстве в Западном крае был неразрывным, неотъемлемым звеном, входившим в цельную планомерную национальную политику, был делом любви Столыпина к России, к народу русскому и к пахарю западного края. Не полицейскими мерами, говорил он, спасем мы белоруса и малоросса от экономического и культурного гнета польских помещиков. Тут необходим сильный подъем русской культуры, которого мы без русского земства не достигаем. Отдавая дань уважения польской культуре, он, как глубоко русский человек, открыто заявлял, что есть культура, которая ему милей и ближе – русская культура для русского народа. Его политика не была политикой угнетения, устранения какой либо из нерусских народностей, а чисто положительной политикой, стремящейся поднять русскую культуру и экономическую силу русского на рода.
Председатель Совета Министров, Статс-Секретарь П. А. Столыпин
Обсуждение и принятие Закона о земстве в Западных губерниях вызвало «министерский кризис» и стало последней победой Столыпина перед его смертью.
Предпосылкой будущего конфликта стало внесение правительством законопроекта, который вводил земство в губерниях Юго-Западного и Северо-Западного. Законопроект значительно уменьшал влияние крупных землевладельцев (представленных, в основном, поляками, доля которых в этих губерниях составляла от 1 до 3,4 %) и увеличивал права мелких (представленных русскими, украинцами и белорусами).
В этот период деятельность Столыпина протекала на фоне усиливавшегося влияния оппозиции, где против премьер-министра сплотились противоположные силы – левые, которых реформы лишали исторической перспективы, и правые, усмотревшие в тех же реформах покушение на свои привилегии и ревностно относившиеся к быстрому возвышению выходца из провинции.
Лидер правых, не поддерживавших этот законопроект, П. Н. Дурново писал царю о том, что «проект нарушает имперский принцип равенства, ограничивает в правах польское консервативное дворянство в пользу русской «полуинтеллигенции», создает понижением имущественного ценза прецедент для других губерний». Столыпин, выступавший за этот закон, представлялся правым чуть ли не опаснейшим революционером.
Столыпин просил царя обратиться через председателя Государственного совета к правым с рекомендацией поддержать законопроект. Один из членов Совета, В. Ф. Трепов, добившись приема у императора, высказал позицию правых и задал вопрос: «Как понимать царское пожелание, как приказ, или можно голосовать по совести?» Николай II ответил, что, разумеется, надо голосовать «по совести». Трепов и Дурново восприняли такой ответ как согласие императора с их позицией, о чем незамедлительно проинформировали других правых членов Государственного совета. В результате 4 марта 1911 года законопроект был провален 68 голосами из 92.
Карикатура на Столыпина
Утром следующего дня Столыпин отправился в Царское Село, где подал прошение об отставке, объяснив, что не может работать в обстановке недоверия со стороны императора. Николай II говорил, что не хочет лишаться Столыпина, и предлагал найти достойный выход из создавшегося положения. Столыпин поставил царю ультиматум – отправить интриганов Трепова и Дурново в длительный заграничный отпуск и провести закон о земстве по 87-й статье. 87-я статья Основных законов предполагала, что царь может самолично проводить те или другие законы в период, когда Государственная дума не работает. Статья была предназначена для принятия неотложных решений во время выборов и междумских каникул.
Близкие к Столыпину люди пытались отговорить его от столь жесткого ультиматума самому царю. На это он отвечал: «Пусть ищут смягчения те, кто дорожит своим положением, а я нахожу и честнее, и достойнее просто отойти совершенно в сторону. Лучше разрубить узел разом, чем мучиться месяцами над работой разматывания клубка интриг и в то же время бороться каждый час и каждый день с окружающей опасностью».
Судьба Столыпина висела на волоске, и только вмешательство вдовствующей императрицы Марии Федоровны, убедившей своего сына поддержать позицию премьера, решило дело в его пользу. В воспоминаниях министра финансов В. Н. Коковцова приводятся ее слова, свидетельствующие о глубокой благодарности императрицы к Столыпину: «Бедный мой сын, как мало у него удачи в людях. Нашелся человек, которого никто не знал здесь, но который оказался и умным, и энергичным и сумел ввести порядок после того ужаса, который мы пережили всего 6 лет тому назад, и вот – этого человека толкают в пропасть, и кто же? Те, которые говорят, что они любят Государя и Россию, а на самом деле губят и его и родину. Это просто ужасно».
Император принял условия Столыпина через 5 дней после аудиенции у Николая II. Дума была распущена на 3 дня, закон проведен по 87-й статье, а Трепов и Дурново отправлены в отпуск.