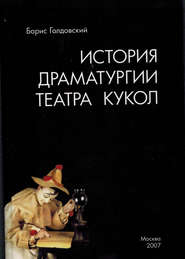скачать книгу бесплатно
2-й ЧАНЧЕС А, вы хотите сделать из моего товарища бревно! Но нас теперь тоже двое, двое на двое, силы равные, ну-ка, выбирай противника и вперед на врага!
Из цикла «Четверо сыновей Эймона»
Драматургия театра кукол Бельгии также имела заметное влияние на формирование русской драматургии театра кукол. В ней театр кукол как бы начинает осознавать свои глубинные возможности и, может быть, истинное предназначение. Среди бельгийских драматургов, писавших для кукольной сцены, – Морис Метерлинк (1862–1949) и Мишель де Гельдерод (1898–1962).
В конце XIX столетия Метерлинк написал свои первые пьесы: «Смерть Тентажиля», «Там, внутри» (в первых русских переводах несколько версий: «Тайны души», «За стенами дома»), «Аладдин и Паломид», объединив их общим заголовком «Маленькие драмы для марионеток». Это название было подсказано писателю Шарлем ван Лербергом – поэтом и философом. Все три пьесы – своеобразный манифест символизма. Персонажи-марионетки не имеют собственной воли, движутся и совершают поступки по воле Рока. Метерлинк считал, что кукла как нельзя лучше сможет исполнить роль посредника между автором и зрителями и послужит лучшей моделью идеи символизма. (Тему марионеточных пьес Метерлинка всего через несколько лет (в 1907 г.) продолжит шведский драматург Август Стриндберг (1849–1912) в «Сонате призраков». Стриндберг также известен и как автор кукольной пьесы «Проделки Касперля», премьера которой состоялась в 1901 г. в Стокгольмском Королевском драматическом театре).
В ранний период творчества М. Метерлинк, стремясь показать на сцене состояние души человека, отверг идею драматического актера, способного, как ему казалось, лишь иллюстрировать, имитировать внешние события. Он предложил заменить его скульптурой, театром теней – куклами. Он писал для такого кукольного театра, где кукла существовала метафорически, а человек являлся марионеткой в руках Рока.
Пьесу Метерлинка «Там, внутри» известный издатель и критик А. С. Суворин выпустил отдельным тиражом и снабдил пространным предисловием, в котором представлял читающей российской публике «молодого тридцатитрехлетнего бельгийского драматурга», причисляя его к «талантливым декадентам». Представляют интерес рассуждения издателя по поводу отечественных литераторов того же направления: «Наши русские декаденты – подражатели, – писал он. – У них ровно ничего нет своего, начиная с самого названия. И, я думаю, потому это так, что и для декадентов нужен талант. Не будь декадентов во Франции и Бельгии, декадентство ничем бы не заявило бы себя, кроме смешных попыток»[58 - Суворин А. С. Предисловие // Метерлинк М. Тайны души. СПб.: [А. С. Суворин], 1895. С. 4.].
Метерлинк с детства любил искусство марионеток. Антверпенские, брюссельские куклы были и до наших дней остаются в Бельгии одним из любимейших народных зрелищ. Но особенно его привлекали древние фламандские куклы, управляемые вделанным в голову куклы прутом-штырем, служащим главным рычагом управления. С этими куклами издавна разыгрывались библейские притчи, исторические хроники и детские сказки. Они отличаются лаконичностью жеста, особой выразительностью, обобщенностью. Именно эти качества имел в виду автор, адресовав свои первые драматургические опыты марионеткам. Русский издатель справедливо отмечал, что они «действительно как бы назначены для этого театра по своему действию и характерам, но ведь и жизнь наша, если совлечь с нее излишний декорум, излишнюю фольгу и фразы, не явится ли именно в этой простой форме и не разбивается ли так же просто и легко, как марионетки?»[59 - Суворин А. С. Предисловие // Метерлинк М. Тайны души. С. 9.]
По сюжету пьесы поздно вечером в старом саду двое – Старик и Чужой. Они смотрят в окна дома, за которыми видны силуэты благополучного семейства, мирно расположившегося у лампы. Это Отец, Мать, две дочери и спящий ребенок. Они еще не знают, что случилась трагедия – только что утопилась третья из сестер. И теперь двое стоят в темном саду для того, чтобы предупредить семью о том, что их мертвую дочь и сестру уже несут в дом. Пьеса написана по классическим канонам фламандских марионеток, где действия кукол комментирует рассказчик. В качестве действующих лиц-марионеток выступает семья, жизнь которой наблюдают и комментируют Старик и Чужой. Зеркалом кукольной сцены становятся окна дома:
«СТАРИК. Они спокойны… Они не ждали ее сегодня вечером…
ЧУЖОЙ. Они улыбаются, оставаясь неподвижными… но вот отец приложил палец к губам…
СТАРИК. Он указывает на ребенка, уснувшего у сердца матери…
ЧУЖОЙ. Она не смеет поднять головы, из боязни разбудить его…
СТАРИК. Они перестали работать… Теперь там большая тишина…
ЧУЖОЙ. Они уронили моток белого шелка.
СТАРИК. Они смотрят на ребенка…
ЧУЖОЙ. Они не знают, что другие смотрят на них…
СТАРИК. На нас тоже смотрят…»[60 - Метерлинк М. Тайны души. С. 24.].
Обращает на себя внимание близость этого диалога «Задумчивой интермедии» Н. Я. Симонович-Ефимовой, созданной ею в 1923 г.:
«2-й НЕГР. Кто это?
1-й НЕГР. Люди. Зрители…
2-й НЕГР. Неужели люди устроены беднее нас?
1-й НЕГР. Не беднее, а никакой разницы.
2-й НЕГР. Но ведь мы сделаны из папье-маше или из дерева, а они…
1-й НЕГР (перебивая, дерзко). А они?
2-й НЕГР. А они… они ни из чего не сделаны…
1-й НЕГР. Спроси вот их. (Жест в публику). Выбери кого-нибудь поумнее»[61 - Симонович-Ефимова Н. Я. Задумчивая интермедия // Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. Л.: Искусство, 1980. С. 102.].
Драматургия Метерлинка оказала значительное влияние на русскую кукольную драматургию первой четверти XX в. Сами же «Маленькие драмы для марионеток» разделили судьбу многих других европейских авторских кукольных пьес. Они не имели сценической судьбы в кукольном театре. Возможно, их время еще не пришло, и им предстоит славная кукольная жизнь в третьем тысячелетии.
Более счастлива на кукольных сценах судьба пьес Мишеля де Гельдерода. В отличие от Метерлинка, Гельдерод писал свои пьесы (в том числе и «Доктора Фауста») специально для исполнения на кукольной сцене. Историю своих взаимоотношений с театром кукол Гельдерод подробно рассказал и описал в одном из интервью:
«ВОПРОС. Среди ваших пьес для марионеток есть несколько таких, где куклы уже не служат прикрытием для авторского намерения. Они более тесно связаны с собственно фольклорной, народной традицией. Это «Мистерия о страстях Господних», «Искушение Святого Антония» и «Фарс о Смерти, которая чуть не умерла»…
ОТВЕТ. К этому я могу добавить «Избиение младенцев» и «Дювелор, или Фарс о постаревшем Дьяволе», но здесь и вправду нельзя говорить о литературном творчестве. Текст «Мистерии о Страстях Господних» никогда не был написан или напечатан, но она все-таки жила в довольно путаных воспоминаниях нескольких стариков, которые, когда я познакомился с ними лет пятьдесят назад, еще не забыли представлений этой мистерии на Страстной неделе. Во время Первой мировой войны, когда мы с писателем Жоржем Эккоудом захаживали в кабачки квартала Мароль, я слышал рассказы о ней. Немного позднее, вооружившись терпением и при помощи многочисленных порций можжевеловки, я сумел разбудить воспоминания этих стариков, которые довольно сумбурно поведали мне отрывки из сцен мистерии […]
ВОПРОС. Чем же, если говорить более конкретно, обязаны вы марионеткам? И в какой мере они могли повлиять на ваш театр?
ОТВЕТ. […] Марионетки позволили мне ощутить самое существо театра. Тот, кто желает подняться на подмостки, должен прежде спуститься в балаганчик – это первичный театр живого слова, театр импровизаторов и шутов […]
ВОПРОС. В одной из самых привлекательных ваших пьес, «Солнце заходит», созданной, правда, для живых актеров, вы изобразили спектакль марионеток. Его пожелал увидеть незадолго до своей смерти император Карл V и познал не только радость, но и трагическое прозрение.
ОТВЕТ. Этот сюжет подсказали мне подлинные события. После своего отречения в 1556 г. император удалился в монастырь Юсте в Эстремадуре и провел в этом, позволительно сказать, склепе два последних, очень мучительных года своей жизни… И вот однажды, охваченный, без сомнения, тоской по родной Фландрии, император пожелал увидеть спектакль марионеток, который напомнил бы ему то, что он наблюдал давным-давно при дворе в Малине, у своей доброй тетушки Маргариты… Мне представилось, что приведенный к императору кукольник пришел из Фландрии, ибо тогда в Испании они были чаще всего чужестранцами – выходцами из Италии, цыганами и, может быть, фламандцами… Но мой персонаж, мессир Игнотус, не бродил по дорогам. Его привели из казематов инквизиции…
ВОПРОС. Поговорим теперь о «Дьяволе, который проповедовал чудеса» – пьесе, само название которой заставляет вспомнить анонимную испанскую комедию XVII в. «Дьявол-проповедник», хотя, несмотря на присутствие обжоры-монаха, между ней и нашей пьесой нет никакого сходства…
ОТВЕТ. […] Я хотел изобразить здесь лживость общества, общества всех времен, ибо кто станет сомневаться, что дьявол нередко занимал место проповедника, – об этом способна поведать любая эпоха»[62 - Гельдерод М. Остендские беседы // Гельдерод М. Театр. М.: Искусство, 1983. С. 621–630.].
Поразительно точно писатель сформулировал само существо кукольной драматургии, ее смысл и предназначение: «Эта первичная драматургия накопила богатый запас архетипов, простые формы которых доступны народной душе»[63 - Гельдерод М. Остендские беседы // Гельдерод М. Театр. М.: Искусство, 1983. С. 621–630.].
Догадка писателя о кукольной пьесе как о «первичной драматургии с огромным запасом архетипов», если принять во внимание сю предыдущую историю кукольной драматургии, вполне обоснована. В ней, как правило, нет полутонов, полугероев, полузлодеев и незаконченных действий. В этой драматургии не существует психологических оттенков характеров и сложных сюжетов. Этот вид драматургии кажется более простым, но отнюдь не примитивным.
Гельдерод, размышляя о пьесах для театра кукол, отмечает, что, воплощая два известных полюса – добро и зло, куклы выстраиваются в два ряда героев: злодеи и праведники, подлые и благородные… В стремительном действии и напряжении простых человеческих чувств рождается подлинный, цельный и вечный герой. Главное, чтобы Честь была отомщена, Добродетель вознаграждена, а Любовь дана лишь тем, кто ее достоин.
Пьесы Гельдерода не часто появляются в афишах театров кукол. Исключением остается, пожалуй, один из самых известных и старейших театров в мире – расположенный в старинном доме в центре Брюсселя «Королевский театр Тоона». Тооны – «династия» народных брюссельских кукольников, которая передается вместе с династическим именем не столько от отца к сыну, сколько от главы театра и династии к лучшему актеру труппы. Возможно, именно поэтому «Королевский театр Тоона» вот уже два столетия живет и радует зрителей.
Именно в этом театре в 1917 г. Гельдерод встретил тех «нескольких стариков», а точнее, Тоона Четвертого – Яна Амбо – и одного из его актеров, у которых и записал, а потом литературно обработал и перевел с фламандского на французский язык тексты нескольких пьес. В новом обличье они вернулись на кукольную сцену «Театра Тоона», где в нескольких старинных шкафах и по сей день бережно хранятся рукописи кукольных пьес Гельдерода. В зрительном зале этого театра над головами зрителей висят сотни старых фламандских марионеток, а в маленьком окошечке сцены играют смешную и трогательную пьесу Мишеля де Гельдерода о Рождестве.
От Джонсона – к Пристли
О, послушайте меня минутку! Я Вам расскажу историю Панча, который был скверным бездельником и убийцей. У него была жена и ребенок несравненной красоты. Имени ребенка я не знаю; его мать звали Джуди.
Мистер Панч не был так красив. У него был нос, как у слона, господа! На спине у него возвышалась шишка, почти наравне с высотой головы; но это не мешало ему иметь обольстительный голос, как у сирены, и этим голосом он очаровал Джуди, красивую молодую девушку.
Но он был жесток, как турок, и как турок не мог удовлетвориться одной женщиной (это действительно печальный обычай – иметь только одну женщину), но вместе с тем закон не позволял ему иметь двух, или двадцать двух, хотя бы его хватило на всех. Как же он поступал при таких обстоятельствах? Он содержал даму.
Мистрис Джуди узнала об этом и в порыве ревности схватила за нос своего супруга и ее подругу. Тогда Панч рассердился, принял позу трагического актера и ударом палки раскроил ей голову пополам. О, Чудовище!
Потом он схватил своего наследника… О, бесчувственный отец! И выбросил его из окошка со второго этажа, так как он предпочитал лучше иметь возлюбленную, чем законную жену, господа! И он не больше заботился о своем сыне, чем о щепотке табака.
Тогда он отправился в путешествие по разным странам, и был так любезен и очарователен, что только три женщины отказались следовать его урокам, таким поучительным: первая была простой деревенской девушкой, вторая – благочестивой монахиней, третья… Я очень бы хотел назвать, кем была третья, но не смею. Она была самой порочной из всех порочных.
В Италии он встретил женщин похуже сортом. Во Франции – слишком визгливых. В Англии – скромные и жеманные сначала, они становились невыносимо влюбленными. В Испании они были гордыми, как инфанты (хотя очень худыми). В Германии они были совершенно холодными. Он не поехал дальше на север, – это было бы глупо.
Во всех этих похождениях он не переменился. Отцы и братья проходили через его руки. Содрогаешься при мысли о том количестве крови, которое он пролил. И хотя у него был горб на спине, женщины не могли перед ним устоять.
Говорили, что у него был подписан договор со старым Николсом, как его называют; но даже если я буду лучше об этом осведомлен, я все равно промолчу. Может быть, поэтому он всюду имел успех, господа!
В конце концов, он вернулся в Англию откровенным вольнодумцем и настоящим корсаром.
Когда он появился в Дувре, то переменил имя. Полиция же со своей стороны делала все, чтобы посадить его в тюрьму. Его арестовали в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал.
И вот приблизился день, когда он должен был рассчитаться за все содеянное. Когда приговор был провозглашен, он стал придумывать хитрости, чтобы спастись от казни. И когда палач объявил, что все готово, он ему подмигнул и попросил повидать свою возлюбленную.
Притворившись, что не знает, как продеть голову в петлю, он сунул в нее голову палача, а свою спас. Наконец, Дьявол появился требовать долг; но Панч стал уверять его, что тот обознался и принимает его за другого.
– А! Ты не знаешь о долге? – закричал Дьявол, – так ты его еще узнаешь!
И они с ожесточением стали драться. Дьявол дрался вилами, а у Панча была только палка, господа; и он убил Дьявола.
Старый Ник умер, господа!
Пайн Колльер «Шалости Панча»
«Что касается собственно Англии, – писал в своей «Истории марионеток Европы с древнейших времен до наших дней» Шарль Маньен, – то драматурги […] здесь показывают самое точное знание репертуара и мизансцен марионеток»[64 - Маньен Ш. История марионеток Европы с древнейших времен до наших дней. Пер. Озелли. Маш. копия. Архив Музея ГАЦТК, ед. хр. Р-220, л. 126.]. И хотя английская кукольная драматургия влияла на формирование кукольной драматургии России опосредовано, через пьесы «англо-немецких комедий», необходимо рассмотреть ее основные достижения.
Среди английских драматургов XVI–XVII вв. отчетливо выделяется имя Бена Джонсона (1573–1637). В его пьесах – целая энциклопедия английского театра его времени. Здесь и имена кукольников, и их репертуар, и характеры, условия жизни, атмосфера, в которой проходили спектакли, внешний вид кукол… Так мог писать только человек, глубоко знавший предмет. Английская театральная культура того времени была как бы замешана на кукольных дрожжах: Джонсон, Марло, Шекспир, Флетчер, Адиссон, Свифт, Филдинг, Голдсмит, Шеридан, Гэй и др. так или иначе были связаны с искусством играющих кукол.
Личность, биография, характер, история жизни Бена Джонсона удивительно точно укладываются в рамки эксцентричного кукольного сюжета: сын протестантского священника, он несколько раз менял вероисповедание. Один из образованнейших людей своего времени, знаток античности, мертвых и живых языков – несколько раз отсидел в тюрьме, дрался на дуэлях, воевал в Нидерландах, имел множество врагов и легко сходился с людьми, дружил с Шекспиром и был, возможно, самым яростным критиком его театра.
Джонсон закончил жизнь в 1637 г., посвятив свои последние годы написанию пьес-«масок»[65 - Драматургический прием «масок» основывался на принципе кукольной пантомимы, когда куклы (или люди) изображали действие, а актер их комментировал. Одну из таких «масок» изобразил Сервантес в «Дон Кихоте», другую запечатлел Шекспир в «Гамлете». Этот тип пьес стал одним из основных для спектаклей театра теней.]. Практически в каждом произведении драматурга можно найти реминисценции, ссылки на театр кукол. Они есть и в «Молчаливой женщине», и в «Дьяволе-осле», и в программной пьесе «Каждый по-своему». Последняя населена персонажами-чудаками, эксцентрична, сюжетно остра и, по существу, кукольна. Ее герои – маски, условные типажи. Не случайно уже в 1598 г. «Каждый по-своему» игралась в лондонских театрах кукол, успешно конкурируя с труппой «Глобуса»[66 - См.: Йорик. История марионеток. С. 90.].
Наиболее известная пьеса Джонсона «Варфоломеевская ярмарка» (1614 г.) о жизни лондонских «низов» была поставлена труппой леди Елизаветы. Вероятно, она является одной из первых документальных комедий. В ней мало вымысла, все взято из действительности – начиная с незначительно измененных имен реальных английских кукольников, их характеров и привычек, кончая репертуаром – теми пьесами, которые игрались кукольниками XVI–XVII столетий на лондонской Варфоломеевской ярмарке: «Разрушение Норвича», «Пороховой заговор», «Содом и Гоморра», «Иерусалим», «Ниневия», «Человеческий разум», «Иона и кит», «Кровопролитие в Париже и смерть герцога де Гиза» и др.
Один из персонажей пьесы – Ленторн Лезерхед (Кожаная голова) – вполне реальное лицо: известный содержатель лондонского кукольного театра того времени по имени Ленторн Летерхед. Последнее действие своей пьесы Джонсон написал как самостоятельную кукольную пьесу-пародию под названием «Древняя и в то же время современная история… двух верных друзей, обитавших на берегу реки». Эту пьесу, по замыслу автора, разыгрывают Ленторн Лезерхед и его актеры: Филчер (Воришка) и Шаркуэл (Мошенник). В пьесе также действует и сам автор этой кукольной пьесы Лительвит (Недоумок). По существу в образе Литлуита Бен Джонсон посмеялся над Кристофером Марло и его поэмой «О Геро и Леандре» (1592–1593.) Легенда о том, как жрица богини Афродиты полюбила юношу Леандра, который ради свидания с возлюбленной каждую ночь переплывал Геллеспонт и однажды погиб в его бурных водах, в пьесе Джонсона приобрела фарсовый, пародийный характер. Геллеспонт превратился в Темзу, а романтическая пара – в двух типичных персонажей лондонских низов.
Эта кукольная пьеса настолько оригинальна и самобытна, что занимает в творчестве Бена Джонсона особое место, несмотря даже на то, что является лишь частью «Варфоломеевской ярмарки». Она стала первой авторской кукольной пьесой, где народная ярмарка, эстетика балаганного действа используются драматургом как основной прием, ключ, открывающий двери в принципиально новое для театра кукол пространство.
Современники Шекспира, как писали Шарль Маньен и Пьетро Ферриньи, утверждали, что лондонские театры кукол ставили и шекспировского «Юлия Цезаря», и джонсоновское «Кровопролитие в Париже и смерть герцога де Гиза»[67 - См.: Йорик. История марионеток. С. 89–92; Маньен Ш. История марионеток Европы с древнейших времен до наших дней. Пер. Озелли. Маш. копия. Архив Музея ГАЦТК, д. Р-220, лл. 140–142.]. Учитывая, что в хороший день кукольник играл по девять-десять спектаклей, можно быть совершенно уверенным – от бессмертных трагедий куклы оставляли весьма малую часть. Но зато они брали то, что им было нужно и что приносило деньги и успех – сюжет.
Разумеется, все это не могло нравиться ни авторам, ни актерам, ни владельцам драматических театров. Тем более что куклы, в силу своей природы, пародировали и пьесу, и манеру исполнения, и самого актера, и его театр. Тем не менее, драматическое искусство всегда относилось к кукольному с долей нежной иронии. Как взрослый относится к ребенку, как каждый – к собственному детству. Потому что ребенок – это всегда тот, кем ты был раньше, много лет назад. Он всегда старше:
«Лезерхед приносит корзинку.
КУК. Разве они живут в корзине?
ЛЕЗЕРХЕД. Они лежат в корзине, сэр! Они из маленьких актеров.
КУК. Они должны быть ничтожными, если вы вообще называете это актерами.
ЛЕЗЕРХЕД. Они актеры, сэр, и не хуже других, не забракованных для игры без речей…
КУК. Хорошо! Приличная компания. Мне они нравятся тем, что они не гордятся, не глумятся и не подтрунивают над вами, как настоящие актеры, и не так дорого их угощать и напаивать, по причине их малости. Они всегда хорошо играют и никогда не вырываются из ансамбля…
ЛЕТЕРХЕД. Нет, сэр, благодаря моему умению и ловкости они столь же хорошо сыграны, как настоящая труппа, поверьте мне. А мой Дон Леандр – истинный актер, несмотря на свой рост, мотает головой, как рьяный конюх.
КУК. Вы играете по книжке, я ее читал?
ЛЕТЕРХЕД. Ни в каком случае, сэр.
КУК. А как же?
ЛЕЗЕРХЕД. Есть способ лучший, сэр. К чему для нашей публики разучивать поэтическое произведение? Разве она понимает, что значит «Геллеспонт – виновник крови истинной любви» или «Абидос, напротив же его – нагорный Сестос»?
КУК. Ты прав, я и сам не понимаю.
ЛЕЗЕРХЕД. Вот я и предложил мастеру Лительвиту принять на себя труд перевести все это в образы, близкие и понятные нашей публике.
КУК. Как это? Прошу вас, дорогой мистер Лительвит.
ЛИТЕЛЬВИТ. Ему угодно придавать этому особенное значение, но здесь нет ничего решительно особенного, уверяю вас. Я просто переделал пьесу, облегчил текст и осовременил его, сэр, вот и все. Вместо Геллеспонта я изображаю Темзу, Леандра я сделал сыном красильщика из Педерафта. Геро у меня девка с мелкой стороны, которая в одно прекрасное утро переправляется на старую Рыбную улицу…»[68 - Джонсон Б. Драматические произведения. М.: Academia, 1931. С. 704–705.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: