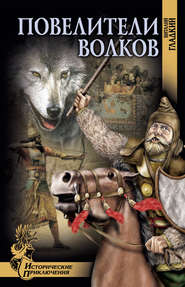скачать книгу бесплатно
Загонщики, повинуясь советам энергичного Мильтиада, поневоле оказавшегося в роли устроителя львиной охоты, быстро рассредоточились по указанным местам, и вскоре долину огласили истошные человеческие крики, свист, звуки бубнов и рев охотничьих рогов. Для схватки со львами Мегабаз, который ставил превыше всего безопасность своего повелителя, выбрал довольно удачное место – обширное пространство на берегу реки, где не было ни камыша, ни деревьев, только чахлая трава и местами низкорослый кустарник.
Река намыла здесь песочно-глинистую косу, а остальная площадь оказалась каменистым выходом горного кряжа. Судя по многочисленным звериным следам на песке, как определил опытный царский следопыт, этот берег служил водопоем для львов и других зверей поменьше размерами. Очень уж удобным было место, особенно для живности, на которую охотились львы и другие хищники, потому что подобраться к жертве тихо и незаметно никак не получалось.
Вода в реке Теар оказалась весьма необычной. Как рассказал по дороге Мильтиад царю, ее образовывали тридцать восемь ключей, бьющих из одной скалы, причем некоторые из них давали теплую, а другие – холодную воду. Полученная от смешения этих потоков вода была чистой, прозрачной и вкусной. Она отличалась замечательными целебными свойствами. Поэтому в речной долине и водилось так много животных и птиц, которые вода защищала от разных недугов. Река так понравилась Дарию, что он тут же приказал Гобрию, чтобы воду для войска брали отсюда.
Царь, облаченный в панцирь и бронзовый шлем, уселся шагах в десяти от кромки воды на мягком дифре[15 - Дифр – низкий табурет без спинки.]. Он изображал приманку. Из оружия у него был короткий меч – акинак, наиболее удобный для схватки со львом, два копья с толстыми древками (чтобы не сломались в самый неподходящий момент) и широкий эллинский нож. От лука он отказался; ему хотелось посмотреть зверю в глаза, чтобы прочитать свою судьбу. Так говорили вавилонские маги: только царь зверей в свой предсмертный час способен открыть царю людей его будущее.
Рядом сидели оба пса Дария. Они явно чуяли зверя, потому что по их мускулистым телам то и дело пробегали волны большого напряжения. Они щерили клыки, но ни один из них не издал ни звука – так их приучили. Таким же образом вели себя и остальные псы, рассредоточенные вдоль берега вперемешку с «бессмертными». Царских телохранителей на берегу осталось немного, вместе с Мегабазом всего двести человек самых сильных и опытных воинов, обученных охоте на львов. Остальные охраняли место охоты, стояли на возвышенностях.
Шум и гам, поднятый загонщиками, приближался. Вот выскочила на берег перепуганная лиса со своим выводком, но люди даже не посмотрели в ее сторону. Затем побежала и другая дичь, начиная от зайцев и заканчивая барсуком. Мелкие звери словно чувствовали, что людям не до них, поэтому преспокойно просачивались сквозь заслон из «бессмертных» и исчезали в зарослях. Но когда на берег выбежали два крупных оленя, сердца заядлых охотников Мильтиада и Мегабаза не выдержали: звучно тренькнули тетивы и рогатые красавцы улеглись рядышком, даже не дернувшись – и эллин, и перс были великолепными стрелками, и стрела каждого попала точно в сердце животного.
Сделав этот непростительный, совсем не этикетный поступок, оба покаянно склонили головы перед царем. Но Дарий, которого снедал не меньший азарт, чем его подданных, лишь грозно нахмурил брови, но затем милостиво кивнул головой – мол, я не сержусь на вас, вы прощены. Царя можно было понять: олени – знатная добыча. Оба стрелка облегченно вздохнули и снова заняли свои позиции.
То, что случилось несколькими мгновениями позже, всем показалось дурным сном. Сначала послышался тихий шорох (персы подумали, что опять бегут какие-то мелкие зверушки), а затем раздался приглушенный топот копыт, и на берег выметнулась группа всадников на невысоких, широкогрудых лошадках. На какое-то время все застыли в диком удивлении. И почему-то никто даже не подумал взяться за оружие. Возможно, по той причине, что всадники держали в руках только поводья своих лошадей и выглядели удивительно спокойными и дружелюбными.
Тем не менее вооружены они были знатно. Каждый имел два длинных меча, горит[16 - Горит – деревянный футляр для лука и стрел, использовавшийся в основном скифами в конце VI – начале II в. до н. э.] с луком и стрелами, у пояса нож. Не было лишь щитов, да и защитное вооружение оставляло желать лучшего: кожаная куртка, такие же штаны в обтяжку, а на голове шапка из рысьего или лисьего меха; те, у кого шапка была лисья, еще прицепили к ней и хвост рыжей плутовки.
Кто эти люди? – спросил себя сбитый с толку Дарий. И как с ними поступить? Он мигом стал суровым и неприступным. Похоже, они точно не заморские саи. Если, конечно, сравнивать их с Марсагетом. Судя по тому, как они сидели на лошадях, неизвестные воины были прекрасными наездниками. Но больше всего царя поразили длинные волосы воинов (их оказалось пятеро); они были цвета зрелой пшеницы и сплетены в косу. Правда, волосы он мог наблюдать только у одного, шапка которого была на спине, – головные уборы этой пятерки крепились к куртке с помощью тесьмы.
Первым опомнился Мегабаз – согласно своей должности.
– К оружию! – вскричал он высоким, прерывающимся голосом. – Повелитель, это вражеские лазутчики!
Дарий все еще пребывал в размышлениях, поэтому никак не отреагировал на слова своего главного телохранителя. Мегабаз принял его молчание за согласие на пленение лазутчиков и скомандовал псарям:
– Взять их! Пускайте псов!
Он знал, что боевые псы не дадут ускользнуть ни одному из этой пятерки. Собаки набрасывались на лошадь скопом и сразу же валили ее с ног. Ну а дальше все было просто…
И тут раздался волчий вой. Он был просто оглушительным. Казалось, что это воют даже не волки, а дэвы, вырвавшиеся из своих подземных темниц. Дарий машинально бросил взгляд на своих верных псов и поразился – они вдруг легли и начали мелко дрожать, словно сильно иззябли. То же случилось и с другими собаками. Растерянные псари не знали, что им делать – псы, которые не боялись никого и ничего, перестали им повиноваться.
Взбешенный Дарий вскочил на ноги. Запугать царя царей было непросто. Он уже сообразил, что вой исходит от неизвестных.
– Убить их! – взревел он тем зычным голосом, который славился и который был хорошо слышим и узнаваем на полях многочисленных битв под его руководством.
Что касается «бессмертных», то они боялись лишь царского гнева. Закаленные в боях ветераны – а именно таких взял на охоту Мегабаз, словно предчувствуя неприятные события, – бросились на наглых варваров, чтобы поднять их на копья и бросить под ноги повелителю.
Но не тут-то было. Неизвестные нимало не испугались толпы воинов, готовой их просто смять. Дарию вдруг показалось, что ситуация кажется им отнюдь не смертельно опасной, безвыходной, а забавной, потому что на лицах некоторых из них появились улыбки. Правда, они были хищными, как волчий оскал, тем не менее это было так.
Миг, когда в руках неизвестных варваров появились мечи, он не уловил. Клинки мечей были очень необычными, до сих пор царю не встречалось такое оружие. Персидский меч был коротким, широким, с обоюдоострым лезвием, и привешивался с правой стороны (ножны крепились к поясу с помощью большого кольца). А военачальники носили изогнутую мидийскую саблю, только с левой стороны. Что касается оружия неизвестных, то их мечи немного напоминали мидийские сабли-кописы[17 - Копис – изогнутый вперед меч с односторонней заточкой по внутренней грани лезвия, предназначенный в первую очередь для рубящих ударов. Греки называли такие мечи махайрами.], только были гораздо длиннее, лезвие находилось на выгнутой стороне, а в передней части клинка имелось расширение.
Дарий смотрел – и глазам своим не верил. В центре схватки творилось что-то невероятное, невообразимое. Там бушевал стальной вихрь, и слышались предсмертные стоны и крики его телохранителей. Но вот скопище человеческих тел развалилось, и оттуда выскочила пятерка варваров – все целые и невредимые; даже их кони не пострадали.
– Луки! – несколько запоздало скомандовал Мегабаз и бросился к царю, чтобы защитить его своим телом.
Но неизвестные воители и не думали нападать на Дария. Пока лучники суетливо доставали стрелы из колчанов, они пустили своих быстроногих лошадок в галоп и мигом скрылись в камышах. Лишь один из них, перед тем как исчезнуть в плавнях, обернувшись, крикнул на языке персов:
– Мы еще встретимся, царь! – И звонко расхохотался.
Наверное, разъяренный Дарий немедленно отдал бы приказ догнать этих пятерых наглецов и теперь даже не убить, а любой ценой взять их живыми, чтобы подвергнуть самым жестоким и изощренным пыткам, на которые только способны были его мастера заплечных дел, но тут из зарослей выскочил лев и две львицы, и на берегу завертелась другая схватка, не менее жестокая, чем недавняя, но уже между зверем и человеком.
Льва никто не имел права убить, кроме царя. Поэтому, разорвав по пути двух «бессмертных», которые даже не пытались с ним сразиться, рассвирепевший до безумия царь зверей бросился на Дария, будто понимал, кто здесь его главный враг. Царь недрогнувшей рукой принял его на копье, а затем схватился за прямой меч, потому что копис в схватке со львом был бесполезен – нужен был точный колющий удар в сердце зверя.
Тем временем и царские псы не дремали. Они словно пробудились от гипнотического сна. Как два исчадия ада они набросились на льва и вцепились клыками в его задние лапы, что несколько охладило пыл зверя и дало возможность царю выиграть драгоценные мгновения для подготовки решающего удара.
И он был нанесен – точно и беспощадно, вспоров грудь и сердце льва. Последний удар лапой пришелся по пластинам панциря, приклепанным к толстому кожаному кафтану, и показался Дарию не сильнее удара кошачьей лапой. На какое-то мгновение два царя – царь зверей и царь половины человеческого мира – застыли, глядя друг другу в глаза. Лев стоял на задних лапах и был несколько выше Дария, а уж по мощи их и сравнивать нельзя было, тем не менее во взгляде льва перс заметил угасающую ярость, на смену которой постепенно приходили усталость и покорность неотвратимой судьбе.
Одну из львиц принял на себя Мильтиад, который, похоже, выместил на ней всю горечь унижения, которое он испытал, став вассалом царя персов. Он вогнал в ее тело два копья, а затем добил мечом и кинжалом. Весь в крови зверя, он яростно зарычал – не хуже, чем до этого львица, – и в экстатическом порыве вскинул руки к вечернему небу. В этот момент афинян поклялся, что придет время, и он поквитается с надменными персами за все обиды, которые они причинили и ему, и его подданным, и всем эллинам.
Вторая львица, совсем юная, попала на копье сотника-сатапатиша по имени Спарамиз, который командовал телохранителями Дария. Он пригвоздил молодую самку к земле как бабочку. Старый воин не очень стремился принять участие в свалке с пятеркой варваров; наверное, он один из немногих сразу понял, что эти воины страшнее гремучей змеи в постели. И когда все закончилось, хазарапатиш мысленно поблагодарил всеблагого Ахурамазду[18 - Ахурамазда (Хормазд, Ормузд) – авестийское имя божества, провозглашенного пророком Заратуштрой, основателем зороастризма, единым Богом.], что еще один день закончился для него удачно и что этот поход не станет последним для его фраваши – ангела-хранителя.
Ветеран знал, что если он вернется домой, то его будет ждать большой – царский – земельный надел хорошей жирной земли, пусть и в приграничных землях государства, там он построит дом на накопленные за годы службы средства и приведет в него молодую жену (а может, и две-три жены), которая нарожает ему кучу детишек.
Царь даже не глядел на льва, лежавшего у его ног. Горящий взгляд царя царей беспощадно впился в лицо Мильтиада. Афинянин побледнел.
– Кто… кто эти варвары? – тихим, а потому очень страшным голосом спросил Дарий.
Он уже сосчитал в беспорядке разбросанные по берегу тела «бессмертных». Если львы убили всего лишь двух человек и покалечили четверых, то пятерка неизвестных изрубила двенадцать человек, и только трое из них могли надеяться на выздоровление. Как они смогли это сделать?! Царь совершенно не сомневался в воинской выучке своих «бессмертных». Он не раз сражался с ними бок обок, и знал, что воинов, равных им, мало найдется в других краях. Разве что среди эллинов. А тут какие-то никчемные грязные варвары избили их как новобранцев. И ушли без единой царапины!
– Кто, я спрашиваю?!
– Повелитель… – Мильтиад покаянно опустил голову. – Это люди из племени джанийя. Они неуловимы. Они ходят, где хотят, и делают, что хотят. Я несколько раз пытался взять в плен хотя бы одного из них, но мне так и не удалось. Потеряв два десятка воинов, я решил оставить их в покое. И не прогадал – больше они мои владения не беспокоили.
– Где находятся поселения это мерзкого племени?! – Гнев царя начал прорываться наружу, словно раскаленная лава вулкана.
– Как раз там, куда ты ведешь свое войско.
– Я найду их… и уничтожу всех до единого, – процедил Дарий сквозь зубы. – Вместе с заморскими саями.
Мильтиад чуток помялся, не решаясь сказать то, что вертелось у него на кончике языка, но в конце концов все-таки отважился, понимая, настолько серьезно то, о чем он собирался доложить:
– Повелитель, эти люди – оборотни. Они могут превращаться в волков. Так мне рассказывал мой ловчий. А он очень смышленый и неглупый человек. И потом, даже саи не знают, где находятся земли этого племени. Джанийя с ними почти не общаются.
– Почему?
– Точно это неизвестно. Возможно, какие-то старые счеты…
Дарий промолчал. Загонщики, получив приказ, расположились на отдых, «бессмертные» застыли, как изваяния, безмолвные и безгласные, и над речкой слышался лишь едва слышимый шелест камышовых листьев. На морское побережье Фракии опускался тихий весенний вечер.
Глава 1
Торжище Борисфенитов
Но отступим по времени немного назад от событий, которыми начался поход царя персов Дария на скифов. Обратим свой взор на одно из тех мест, куда он стремился.
Кто не побывал в Ольвии[19 - Ольвия – античный рабовладельческий город-государство, находившийся на правом берегу Бугского лимана.], тот не видел мир. Так говорили и дикие варвары-кочевники, и более просвещенные оседлые скифы, и даже надменные эллины, которые отваживались путешествовать в эти богами забытые места на самом краю Ойкумены[20 - Ойкумена (др. греч. «населяю, обитаю») – освоенная человечеством часть мира.]. Ольвию, или Борисфен, как называли этот город его жители, основали переселенцы из Милета и других ионийских городов в начале шестого века до нашей эры. В описываемые времена в Ольвии, название которой на древнегреческом языке означало «счастливая», насчитывалось около двадцати тысяч жителей (большинство из них были эллинами), не считая приезжих.
В хорах (сельскохозяйственных округах) ольвиополиты – граждане Ольвии – выращивали пшеницу, ячмень, просо, бахчевые, овощные и садовые культуры, виноград; разводили крупный и мелкий рогатый скот, птицу; занимались промыслами – рыболовством, и в небольшой мере охотой. В самой Ольвии процветали ремесла: металлообрабатывающее, гончарное, косторезное, деревообрабатывающее, прядильно-ткацкое и другие. Продукция ремесленников сбывалась населению города, его хорам и соседним племенам. Взамен от племен поступали хлеб, мед, воск, скот, шерсть, рыба. Все это в значительной степени вывозилось в метрополию в обмен на вино, оливковое масло, высококачественную посуду, ткани, украшения и произведения искусства.
Средоточием деловой и торговой жизни Ольвии был главный городской рынок. Как и в любом древнегреческом городе-государстве – полисе, он располагался на агоре[21 - Агора – рыночная площадь в древнегреческих полисах (т. е., городах-государствах), являвшаяся местом общегражданских собраний. На площади, обычно располагавшейся в центре города, находились главный городской рынок и нередко правительственные учреждения.]. С двух сторон агору окружали здания с разнообразными лавками, имевшими торговые помещения и подвалы для складирования товаров. В одних лавках торговали столовой привозной посудой, в других – местными сероглиняными, красноглиняными и лепными сосудами, в третьих продавали мясо, в четвертых – вино или масло.
Агораномы – служащие магистратов, следивших за порядком на рынках, – собирали налоги с торговцев и купцов, которые либо имели постоянные лавки в торговых рядах, либо раскидывали на агоре временные палатки и прилавки, либо ходили по рынку, торгуя вразнос. Звоном в колокол агораном оповещал об открытии и прекращении торговли на рынке, а также о поступлении в продажу партии только что привезенной свежей рыбы.
Второй рынок Ольвии – рыбный – располагался в Нижнем городе, в непосредственной близости от реки. Сюда на лодках и кораблях доставляли свежую речную и морскую рыбу и моллюсков. На этом рынке продавали также сухую, копченую, вяленую, соленую рыбу и рыбные соусы.
Кроме рынка на агоре и рыбного был еще третий – оптовый. Он назывался дейгма – «образец». На нем выставляли образцы товаров, продававшихся большими количествами, в первую очередь зерно, вино и оливковое масло.
Но что такое рынок на агоре по сравнению с Торжищем Борисфенитов! Иноземцы часто называли так саму Ольвию, но это было далеко от истины. Разве могла небольшая по размерам агора вместить все те товары, которые предлагали окрестным племенам заморские купцы и колонисты и которые привозили на продажу скифы, гелоны, будины, меоты, алазоны и другие племена и народности, населяющие Северное Причерноморье?
Торжище Борисфенитов (собственно говоря, тоже дейгма; здесь торговали в основном оптом), начинавшееся осенью, после сбора урожая, располагалось невдалеке от Ольвии, на обширном пространстве, которое раскинулось на берегу лимана. Бесчисленные будки, палатки, лотки рассыпались по большой площади как горох. Для каждого вида торговли агораномы отвели определенный участок. Все съестное было сосредоточено в одном месте. Особенно поражало изобилие рыб. Все они были живыми, даже огромные, дорогие белуги-антакеи, и находились в больших деревянных кадках и долбленых из толстых древесных стволов корытах, наполненных морскими водорослями и водой. Здесь же продавали и местную соль, добытую в устье Борисфена[22 - Борисфен – река Днепр.].
Далее простирались владения зерновых культур. Торговали разным зерном, пшеничной и ячменной мукой различного помола, имелась даже небольшая мельница, которую вращал унылый старый одр – для того, чтобы завлечь покупателей видом непрерывно льющегося белого мучного ручейка, олицетворяющего собой саму жизнь. Под пологами палаток сидели купцы. Тут решались самые разные деловые вопросы, заключались торговые сделки, купцы формировали караваны, которые уходили не только в края цивилизованные, но и в такие дали, что страшно было даже думать, наконец, к ним нередко присоединялись крупные землевладельцы, чтобы поговорить о своих проблемах и бедах. А их хватало – зимы в Скифии нередко были суровыми, и урожай зерновых погибал на корню.
За палатками благоухали свежеиспеченные лепешки и хлебцы, разложенные на столах, – длинных досках, положенных на камни. Многие варвары и жители неурожайных земель вообще впервые видели пшеничный хлеб – с темной хрустящей коркой и великолепным белым мякишем. Они долго выбирали хлебцы и булки, не решаясь отдать предпочтение какой-либо форме из большого разнообразия: одни булки были испечены в виде морские звезды, другие хлебцы походили на полумесяцы, а третьи представляли собой фигурки различных зверей. Но больше всего было лошадок-медовиков.
В овощных лавках румянились горы яблок, отсвечивали чистым золотом спелые груши, а сладковатый запах заморских фиников и вовсе кружил головы тем, кто их никогда не видел и не пробовал. Здесь же продавались орехи, и покупатели настоятельно просили дать им в придачу несколько ореховых листьев, чтобы положить в постель; многие знали, что ореховый запах отпугивает насекомых. Чуть поодаль лежали связки лука и чеснока, без которых ни один уважающий себя эллин (не говоря уже про скифов) не начинал обеденную трапезу.
Если в метрополии, где климат был гораздо мягче, нежели в Скифии, острая приправа к еде в виде чеснока и лука не являлась обязательной, здесь это было законом. Тот, кто много употреблял в пищу лук и чеснок, очень редко простужался.
Но средоточием всех соблазнов конечно же были небольшие закусочные, издали зазывающие к себе проголодавшихся торговцев и покупателей запахом подогретого оливкового масла. Под полотняными навесами виднелись врытые в землю печи с несколькими топками, над которыми на железных треногах стояли котлы и кастрюли. Любой желающий, пуская голодные слюни, мог понаблюдать за тем, как освежеванная рыба попадает на сковородку, как ее заливают маслом, вином, заправляют пряностями и, наконец, после того, как она изрядно подрумянится, водрузив на тарелку, присыпают крохотной щепоткой сильфия[23 - Сильфий – растение из семейства зонтичных, похожее на укроп; широко использовался в Древней Греции и Древнем Риме как приправа и как лекарственное средство. Представлял для греков и римлян большую ценность. Он считался даром Аполлона и продавался на вес монет – серебряных денариев.], который придает ей пикантный привкус.
Ели стоя, руками, держа под мышкой хлеб, то и дело отламывая от него кусок за куском. После сытной еды трудно отказать себе в чаше вина. Вино продается рядом, в беседках, сооруженных при помощи столбов, с крышей из веток и листьев. Возле каждой беседки – глубокая яма в земле, где охлаждается вино в глиняных кувшинах. Из трех сортов вин – темно-красного цвета, как кровь из вены; белого и светлого словно солома; и желтого, с золотистым отливом, – ольвиополиты предпочитали последнее; оно лучше всего способствовало пищеварению. В нем была соблюдена необходимая мера, ибо темное слишком тяжелое для полного желудка, а белое чересчур слабое, чтобы взбодрить дух и добавить силы для дальнейших дел и забот на Торжище.
Тесный ряд ларьков и палаток вмещал в себя всевозможные товары, за исключением оружия. Его на Торжище не нашлось бы не только у богатых купцов, известных в Ольвии своей благонадежностью, но и вообще ни у кого другого. Представители разных племен из далеких краев, чей путь пролегал по диким безлюдным местам, где не приходилось полагаться на закон о «священном мире», конечно же брали с собой оружие, но оставляли его за пределами Торжища Борисфенитов. Там, на специальных складах, хранились их мечи, луки и копья до того момента, когда они отправятся в обратную дорогу.
Так было не всегда, но после нескольких кровавых побоищ, устроенных варварами, которые упились вином до помутнения разума, городской магистрат раз и навсегда запретил появляться на Торжище вооруженным людям. Максимум, что мог иметь и купец и покупатель, так это нож, без которого невозможна трапеза. Такие же порядки существовали и в самой Ольвии – оружие могла носить только городская стража.
В разных частях Торжища сидели менялы. Палатки у них были крепче и красивее, чем у многих купцов, к тому же возле каждой прохаживались по два-три крепких раба-варвара, готовых без лишних слов свернуть шею любому, кто обидит хозяина. Непрестанно движущиеся руки менял, казалось, пряли невидимые нити металлической пряжи, отвечавшей им неумолчным мелодичным звоном. Этот звон поднимался вверх к изрядно поблекшему осеннему небу, и поющей, хитро сотканной золотой кисеей накрывал все Торжище Борисфенитов.
Перед менялами высились горки монет, уложенные согласно размерам и достоинству. Из-за монет, не имевших точного веса, часто вспыхивали ссоры, доходившие едва не до драки (вот тут-то и появлялись рабы-телохранители); монеты пробовали на зуб, бросали на чашку весов или определяли металл на пробирном лидийском камне, который считался самым лучшим для таких целей.
Испытуемым изделием (или монетой) проводили черту на пробирном камне, а рядом другую черту – эталоном. Если на камне обе черты оказывались одинаковыми, то состав металла испытуемого предмета соответствовал эталонному. Если же черты имели разные оттенки, то подбирался иной эталон, с помощью которого и определялось количество благородного металла в монете или в других изделиях – украшениях, сосудах и прочее.
Женщин на Торжище было очень мало. Продавцами и покупателями на греческих рынках были в подавляющем большинстве мужчины. Женщинам вообще считалось неприличным появляться в городской толпе, но это правило неукоснительно соблюдали лишь состоятельные граждане. В бедных семьях, где умерли взрослые мужчины, женщинам приходилось самим ходить на рынок и покупать там все необходимое или зарабатывали торговлей, продавая чаще всего пряжу собственного изготовления и сплетенные венки и гирлянды из цветов, трав и ветвей.
И уж совсем не наблюдалось их там, где продавали лошадей и скот – быков, телят, овец. Это была территория варваров, которая находилась за пределами Торжища Борисфенитов, на широком, изрядно вытоптанном лошадиными копытами лугу. Его сплошь покрывали изгороди из жердей, потому что лошади, которые пригоняли табунщики-скифы (чаще всего) и меоты были дикими, необъезженными, и в любой момент могли разбежаться. Да и бодливые быки могли наделать много бед, испуганные неумолчным шумом и гамом Торжища.
Лошади скифов были невелики, неприхотливы и очень выносливы. За эти качества их и ценили ольвиополиты. Впрочем, скифы разводили не только малорослых лошадей, но и более крупных, быстроаллюрных, не уступавших по своим качествам боевым коням Эллады. Но они были гораздо дороже и на Торжище пригонялись редко. Эти кони предназначались в основном для скифских вождей и старшин.
Но конечно же наибольший интерес представляли самые ценные лошади нисейской породы – мидийские скакуны. Их привозили на Торжище Борисфенитов в таких малых количествах, что иногда за право купить их сражались самые именитые граждане Ольвии. Сражались в прямом смысле: хватали друг друга за грудки и бороды и даже пускали в ход кулаки.
На это осеннее Торжище, к удивлению и радости местных ценителей резвых скакунов, привезли лошадей элитных пород гораздо больше, чем ранее. Поэтому цены на них не взлетели до небес, покупатели не рвали поводья друг у друга из рук, и можно было спокойно поторговаться и обсудить достоинства и недостатки изящных холеных красавцев. Чем и занимались в этот момент два ольвиополита – судья-фесмофет Мегасфен и полемарх Гелиодор, военачальник ольвийского гарнизона. И тот и другой считали себя большими знатоками лошадей, поэтому их спор был особенно жарким.
– Нет, что ни говори, – горячился Мегасфен, – а парфянские лошади менее крупные, красивые и горячие, чем мидийцы. Правда, они с удивительно хорошими ногами. Нисейская порода все-таки больших размеров. А какая стать!
– Да, это так, – не особо возражал Гелиодор. – Но мидийцы более тяжелы и неповоротливы. Я считаю, что самые лучшие – это фессалийские жеребцы. Что касается эпирских, то они тоже очень хороши, но часто с крутым норовом. А уж фракийские лошади вообще состоят из всех возможных недостатков.
– Ну, в этом отношении я бы не стал с тобой сильно спорить, – нехотя согласился Мегасфен, в нем вдруг взыграли патриотические чувства. – Но ведь есть еще ахейская, эпейская, критская, ионийская, аркадская и аргивская породы, которые имеют множество достоинств разного рода. И вообще они просто красавцы, на которых любо-дорого посмотреть.
Гелиодор скептически хмыкнул и ответил:
– Красивая голова коня и его гордая осанка еще ни о чем не говорят. У перечисленных тобой лошадей плохие крупы и они недостаточно выносливы. Это потомки пород, испорченных веками разведения лошадей для смотров и состязаний. В военном деле они не представляют собой большой ценности. Лично я предпочту низкорослого и неказистого скифского конька, чем возьму под седло какого-нибудь красавца фессалийца. По крайней мере буду точно знать, что скиф унесет меня от любой погони и будет без устали скакать целый день.
– И это говорит полемарх! – Мегасфен ехидно хихикнул. – Конечно, резвый скакун очень необходим… чтобы драпать от врага. То-то наши гоплиты боятся высунуть носа за пределы ольвийской хоры. У них, похоже, в голове только одна мысль – как бы унести ноги, когда появятся вооруженные варвары.
– Ты хочешь меня оскорбить? – с деланым спокойствием спросил полемарх.
Мегасфен понял, что немного перегнул палку, и поторопился ответить:
– Нет-нет, что ты! Клянусь Аполлоном Дельфинием, и в голове не было ничего подобного. Просто в городе судачат, что наши воины совсем обленились. Даже наемная городская стража из варваров, скифские гиппотоксоты, и те больше бражничают, чем занимаются делом.
Гиппотоксоты – конные стрелки – исполняли в Ольвии функции стражей порядка. Греки презирали эту профессию, считали ее недостойной гражданина, поэтому стражами были в основном рабы или вольнонаемные варвары. Эллинам вообще было чихать на юриспруденцию. Несмотря на демократию, они не создали ни общей конституции, ни общего свода законоположений; каждый полис имел свои собственные законы. Писаные правила дополнялись неписаными, судьи выносили решения «не по праву, а по уму», согласно внутреннему ощущению справедливости. Это ощущение базировалось на том, что раз богам угодно, чтобы в мире существовали бедные и богатые, хозяева и рабы, мужчины и женщины, то и нечего всех мерить на один аршин – всеобщее равенство перед законом есть иллюзия вредная и утопическая.
Неважным было и отношение к частникам. Работа по найму считалась унизительной – граждане охотно трудились на городских работах или в собственной мастерской, но к богатому частнику не хотели идти даже на должность управляющего. Также они считали зазорным брать в аренду у частника землю, тогда как у полиса на тех же условиях – без проблем.
– Тут ты прав, – проворчал Гелиодор. – Дисциплина у гиппотоксотов никудышная. Ужо займусь я ими…
Он хотел еще что-то сказать, но тут внимание приятелей привлекло зрелище, которое никак не могло оставить равнодушным истинных ценителей лошадей. В одном из загонов занимались объездкой только что приобретенного мидийского жеребца. Это был настоящий красавец – рыжий, как огонь, с белой звездочкой на лбу, белых чулках и с длинной темной гривой. Жеребец был не столько напуган, сколько рассержен. Он кидался на любого, кто пытался к нему приблизиться.
Скиф, которому поручили заниматься объездкой, конечно, мог применить некие «успокоительные» средства в виде веревочных растяжек на ноги, чтобы конь даже не мог двинуться и привыкал к тяжести всадника и жестких, рвущих губы удил, но он понимал, что хозяину столь ценного приобретения это не понравится. Одно дело выносливая скифская лошадка, которой все нипочем, а другое – благородное животное с более хрупкими костями. Скиф знал, что если он покалечит жеребца, ему не сносить головы. Вот он и маялся, пытаясь прикормить животное сладкими коврижками и каким-то образом войти к нему в доверие, но конь лишь свирепо скалил зубы, дико ржал и кидался на загородку, пытаясь разрушить ее ударами копыт.
Новый хозяин мидийца разозлился не на шутку.
– Я покупал у тебя верховую лошадь, – заметь, заплатив полновесными кизикинами – а ты продал мне дикаря! – налетел он на купца. – И что мне прикажешь теперь с ним делать?! Если уж этот варвар не в состоянии его оседлать, то что тогда говорить про моего конюха, тупую, грязную скотину.
– Уважаемый Алким, нужно немного потерпеть, – убеждал его купец. – Конь постепенно привыкнет к окружающей обстановке, только вам нужно побольше с ним общаться, а потом, в один прекрасный день, он преспокойно позволит себя оседлать и вы сможете в полной мере насладиться его превосходными скоростными качествами. А уж настолько он красив, даже дух захватывает. Уверен, такого красавца трудно сыскать даже в Аттике, не говоря уже про Ольвию.
– Что ты мне тут плетешь?! – взвился Алким. – У нас был уговор, что я получу объезженного коня? Был! Так о чем тогда речь? А ты привез мне кота в мешке.
– М-да… – Купец тяжело вздохнул. – Что ж, многоуважаемый Алким, придется нашу сделку расторгнуть. Я верну твои деньги, а на жеребца вскоре выстроится очередь желающих его приобрести.
– Ну уж нет! Конь мой! Но уговор есть уговор! Иначе я поведу тебя в суд, и ты не только вернешь уплаченные мною деньги за коня, но еще и штраф в двойном размере – за то, что нарушил свои обязательства.
Купец в возмущении всплеснул руками, и они снова вознамерились вступить в жаркий спор, но тут откуда-то со стороны появился плохо одетый малый и вмешался в их разговор:
– Всего один кизикийский статер, мой господин, и я объезжу твоего коня, – сказал он, обращаясь к Алкиму.
– Кизикин?! – взвился купец. – Ты хочешь за объездку кизикин?! За эти деньги я найму сотню варваров для такой услуги! Поди прочь, нахал!
– Ну, как знаешь. Нанимай… – Парень беспечно улыбнулся и уже хотел уходить, но тут за его ветхий шерстяной хитон[24 - Хитон – мужская и женская (нижняя) одежда у древних греков; подобие рубашки (льняной или шерстяной), чаще без рукавов.] уцепился купец.
– Ты и вправду сможешь объездить этого жеребца? – спросил он недоверчиво.
– Увидишь сам, если позволишь.
– Алким! – обратился купец к покупателю. – Я предлагаю разделить расходы на объездку пополам. Это будет справедливо. Я ведь не виноват, что в Ольвии нет ни одного толкового наездника. Так я и скажу на суде, если до этого дойдет.
Какое-то время Алким обдумывал предложение купца, глядя на него как бодливый бык – исподлобья, а затем решительно махнул рукой и молвил: