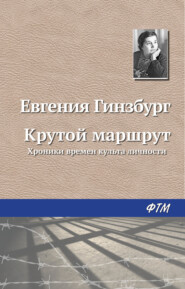скачать книгу бесплатно
– Кури, браток. А на шутки не сердись. Юмор висельников. А ты за что?
Рабочий некоторое время молчит, затем, наклонившись вперед, как под бременем невыносимого груза, хлопает себя по голенищам старых сапог и с отчаянием восклицает:
– Через Плеханова пропадаю!
– Как?
– Шел, слышь, у нас политкружок. Партучеба, одним словом. Задали нам про партию нового типа учить… А я… Виноват, конечно, не выучил я. Детишки, понимаешь, а она, жена-то, лежит, понимаешь ты, в лежку. Запарился совсем. До учебы разве? А тут меня и спрашивают на кружке: «Кто, мол, основал партию нового типа?» Мне бы, дураку, прямо сказать; «Простите великодушно, не подготовлен, мол, к ответу, книжку не раскрывал по причине семейного тяжелого положения». А я… Дернула же нелегкая. Послышалось мне, вроде кто-то шепчет, подсказывает: «Плеханов»! Ну я взял да и брякнул наотмашь: «Плеханов, мол, основал». Вот с тех пор и пошло. По первости-то было выговор объявили, а потом – дальше в лес, больше дров. Меньшевиком стали называть, поверите? Их, дескать, раньше много среди печатников было, и ты, мол, зараженный. Исключили, с работы сняли. Голодуют детишки. А она…
Лицо рассказчика исказилось гримасой сдерживаемого стона.
– Не вынесет. Помрет…
Он помолчал еще немного и добавил:
– И все через Плеханова…
Его вызвали к партследователю первым, и мы слышали из-за двери обращенный к нему вопрос:
– Признаете ли вы себя виновным в том, что использовали занятие политкружка для пропаганды враждебных партии меньшевистских взглядов?
В какой-то момент показалось, что мне немного повезло на Ильинке. Член партколлегии Сидоров, работник ПУРа, проявил ко мне внимание и сочувствие. Он возмутился формулировкой бейлинского решения, в котором говорилось между прочим: «Запретить пропаганду марксизма-ленинизма».
– Черт знает что! Запретить коммунисту пропаганду марксизма! Ни в какие ворота не лезет! Усердие не по разуму.
Он обнадежил меня, что взыскание будет уменьшено. И действительно, к ноябрю я получила выписку, в которой «во изменение решения партколлегии по Татарии» строгий с предупреждением заменялся просто строгим. Пункт о запрещении преподавания и пропагандистской работы был совсем снят, а мотивировка «за примиренчество к враждебным партии элементам» была заменена более мягкой – «за притупление политической бдительности».
– А затихнет немного обстановка, подадите через годик на снятие, – сочувственно напутствовал меня Сидоров, и по искреннему выражению его лица видно было, что этот серьезный человек с большим партийным прошлым действительно надеется на возможность «затихания» обстановки.
Да, масштабов предстоящих событий не могли предвидеть даже такие умудренные опытом партийцы. Что же удивляться, что такая счастливая обладательница строгого БЕЗ предупреждения, как я, тут же покатила в Казань, почти совсем утешенная.
Увы, иллюзии развеялись очень быстро! Я буквально не успела распаковать чемодан, как принесли посланную мне вслед телеграмму из КПК:
«Новое слушание вашего персонального дела назначено на такое-то. Немедленно выезжайте Москву. Емель-ян Ярославский».
Позднее я узнала, что Бейлин, оказавшийся в Москве в момент облегчения моего взыскания, не мог стерпеть такого удара по самолюбию, обратился к Ярославскому с жалобой на Сидорова и с протестом против изменения его, бейлинского, решения. Кроме того, он представил Ярославскому дополнительные обвинения против меня. Я была виновна, оказывается, не только в связи с «ныне репрессированным Эльвовым», но и с «ныне репрессированным Михаилом Корбутом».
И опять бабка Авдотья сказала мне:
– Не езди в Москву-то, Евгенья, пра не езди! В Покровское, да потихоньку…
И опять я ответила:
– Что ты, бабушка! Разве коммунист может бежать от партии?
И поехала. Поехала к Емельяну Ярославскому, который обвинил меня в том, что я «не разоблачила» неправильность статьи Эльвова, который САМ эту статью поместил в редактированной им, Ярославским, четырехтомной «Истории ВКП». Было от чего взяться за голову!
В тот же вечер я снова выехала обратно в Москву.
Глава седьмая
Счет пошел на миги
С этого момента события понеслись с головокружительной быстротой. Последние два с половиной месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал «пророческой тоской».
Умом я считала, что арестовывать меня абсолютно не за что. Конечно, в тех чудовищных обвинениях, которые ежедневно адресовывались газетами «врагам народа», явно ощущалось нечто гиперболическое, не вполне реальное, но все-таки – думала я – хоть что-то, хоть маленькое, ведь наверняка было, ну голоснули там когда-нибудь невпопад. Но я ведь никогда не принадлежала к оппозиции. У меня ведь не было никогда и тени сомнений в правильности генеральной линии.
– Если брать таких, как ты, то надо всю партию арестовывать! – поддерживал меня в этих умозаключениях муж.
Однако вопреки всем этим доводам рассудка меня не оставляло предчувствие близкой гибели. Казалось, я стою в центре железного кольца, которое все сжимается и скоро меня раздавит.
Ужасной была обратная поездка в Москву по вызову Ярославского. Вот когда я была на волосок от самоубийства!
В купе мягкого вагона нас оказалось только двое: я и знакомая врач-педиатр Макарова, возвращавшаяся из Казани после защиты диссертации.
Это была приятная молчаливая женщина с мягкими движениями и очень внимательным взглядом.
Мне казалось, что я довольно удачно маскирую свое состояние разговором о разных пустяках. Но она вдруг, без всякой видимой связи с темой болтовни, погладила меня по руке и тихо сказала:
– Я очень жалею своих знакомых-коммунистов. Тяжело вам сейчас. Ведь каждого могут обвинить.
Ночью на меня навалилась такая несусветная мука, что я, стараясь не шуметь, вышла из купе сначала в пустой коридор вагона, а потом и на площадку. Мыслей как будто никаких не было, но в непрерывном потоке сознания вдруг откристаллизировалось некрасовское четверостишие:
Тот, чья жизнь безнадежно разбилась,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце не робкое билось,
Что умел он любить и…
Это выстукивали колеса, это выстукивали молоточки, бившие в моих висках. На площадку я вышла именно для того, чтобы отделаться от этого назойливого стука. В первые минуты ноябрьский ветер, распахнувший легкий халатик, отвлек мои чувства. Стало полегче. Потом снова навалилось.
Я приоткрыла дверь вагона. В лицо брызнул холодный воздух. Взглянула вниз в стучащую тьму колес. Явь окончательно слилась с каким-то мучительным сном. Один шаг… Один миг… И уже не надо будет к Ярославскому. И больше нечего будет бояться…
Кто-то мягко, но сильно взял меня за руку повыше локтя. Ей бы не педиатром, а невропатологом или психиатром быть, этой Макаровой. Не вскрикнула, не посыпала словами, а только властно увела в купе, уложила, погладила по волосам. А сказала одну только фразу:
– Ведь это все пройдет… А жизнь только одна…
…Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью, может строить такие лживые силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в 1937 году теорию о том, что «объективное и субъективное – это, по сути, одно и то же». Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдительности «лил воду на мельницу» преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не имел ни о чем – все равно. В отношении меня получалась такая «логическая» цепочка: Эльвов сделал в своей статье теоретические ошибки. Хотел он этого или не хотел – все равно. Объективно это опять-таки «вода на мельницу» врагов. Вы, работая с Эльвовым и зная, что он был автором такой статьи, не разоблачили его. А это и есть пособничество врагам.
На смену «притуплению бдительности», записанному совестливым и гуманным Сидоровым, пришла теперь новая формулировка моих злодеяний. Она была уже похлеще даже бейлинского «примиренчества». Теперь Ярославский предъявил мне обвинение в «пособничестве врагам народа».
Таким образом, точка над «i» была поставлена. Пособничество врагу – уголовно наказуемое деяние.
Сдержанность оставила меня. Я закричала на этого почтенного старика, затопала на него ногами. Я была способна броситься с кулаками, если бы между нами не сверкала полировкой широкая гладь его письменного стола.
Не помню уж, что именно я там выкрикивала, но суть моих слов сводилась к контробвинению. Да, я была доведена до такого отчаяния, что стала бросать в лицо ему простые вопросы, вытекающие из элементарного здравого смысла. А такие вопросы считались в те времена в высшей степени дурным тоном. Все должны были делать вид, что изуверские силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь задать вопрос, разоблачающий безумие, как окружающие или возмущались, или снисходительно усмехались, третируя спрашивающего как идиота.
Но в том состоянии аффекта, в котором я находилась в кабинете Ярославского, я позволила себе кричать ему:
– Ну хорошо, я не выступила! Но вы-то ведь не только не выступили, а еще сами отредактировали эту статью и напечатали ее в четырехтомной Истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне 30 лет, а вам 60. Ведь я молодой член партии, а вы – партийная совесть! Почему же меня надо растерзать, а вас держать вот за этим столом? И не стыдно все это?
На мгновение в его глазах мелькнул испуг. Он явно принял меня за сумасшедшую. Слишком уж дерзкими были мои слова, произнесенные в этой комнате, похожей не то на алтарь, не то на судилище. Но тут же снова накинул на лицо привычную маску ханжеской суровости и квакерской прямолинейности. Потом сказал с почти натуральной дрожью в голосе:
– Никто лучше меня не осознает моих ошибок. Да, я человек, немыслимый вне партии, виноват в этом перед партией.
У меня уже висел на кончике языка новый безумный до дерзости вопрос: «Почему же ваша ошибка искупается только ее осознанием, а я почему должна расплачиваться кровью, жизнью, детьми?»
Но я не произнесла этих слов. Аффект прошел. На смену ему пришел ужас. Что это я наговорила? Что теперь со мной сделают? Потом на смену ужасу – беспощадная ясность: все безразлично, все бесполезно. Настало время или умирать, или молча идти на свою Голгофу вместе с другими, с тысячами других.
Когда мне сказали, чтобы я ехала в Казань, куда вскоре будет прислано решение, я заторопилась. Теперь-то я твердо знала, что счет моей жизни идет не на годы и даже не на месяцы. Счет пошел на миги, и надо было торопиться к детям. Что с ними будет, с моими сиротами?
Глава восьмая
Настал тридцать седьмой
И вот наступил – этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я встретила его, этот последний Новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха ЦИК СССР в Астафьеве, около Подольска.
Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына, тяжело больным малярией. Врачи советовали сменить климат. Наступали школьные зимние каникулы, и увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень доволен, что я снова уеду.
– Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани, на глазах…
Теперь мучительная тревога терзала и его. Уже шли аресты. Они уже коснулись очень хорошо знакомых нам людей. Одним из первых был взят директор Туберкулезного института профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним – директор университета Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек в рваной шинелишке прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт. Герой Перекопа…
Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он как член бюро обкома сидел в президиуме и должен был молча выслушивать как склоняли и спрягали эльвовское дело и меня как его участницу.
Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнату, время от времени останавливался и произносил:
– Кто его знает, Векслина-то… Человек увлекающийся! Может, и вправду сотворил что-нибудь…
Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только шутил. Даже заметил, что у Васи вытертое пальтишко. Надо новое.
Но стоило мне начать откровенный разговор о происходящих событиях, как он немедленно становился на ортодоксальные позиции. Мне он, конечно, верил безоговорочно, знал, что я ни в чем не виновата. Но тех оценок положения, которые начинали довольно четко складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше устраивало предположение, что в отношении меня персонально произошла ошибка. Он по-рыцарски вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали «отмежеваться» от жены. Там он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда…
– Что же это происходит в нашей партии, а, Паша? – спрашивала я.
– Сложно, конечно, Женюша. Ну что поделаешь! Особый этап в развитии нашей партии…
– Что же это за этап? Что всем членам партии предстоит ехать по этапу? – горько острю я. Он раздражается.
– Ты прости, Женюша, но в таких шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою обиду отбрось. На партию не обижаются.
Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяжелую сцену поздно вечером, в безлюдном Дядском садике, напротив нашего дома. Мы вышли пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал все в ту же колею. Я сказала что-то злое и насмешливое по адресу Ярославского. Муж вспыхнул:
– Что ты говоришь! С тобой и впрямь в тюрьму попадешь!
– О, будь спокоен! И без меня тоже…
Я вырвала у него свою руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать ее, но я снова рванулась, и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб, оторачивавший аллейки сада. Мы искали их потом больше часа и не нашли.
В наших позах, когда мы, склонившись над сугробом, разрывали его голыми руками, в наших лицах, взбудораженных ссорой, уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся катастрофы. Самое страшное было в том, что каждый из нас читал на лице другого отчетливую мысль: ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим найти их. На самом деле – нам не до них. Ведь пропала жизнь. И еще каждый делает вид, что эта ссора важна для него и волнует. А в действительности что значит ТЕПЕРЬ супружеская ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только подтекст, не высказанный даже самим себе.
…Астафьево – пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского – было в свое время «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольнщики» и «бьюишники» котировались высоко, «фордошников» третировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это.
– Противные ребята, – говорил он, – ты только послушай, мамочка, как они отзываются об учителях…
Несмотря на то что в Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и «Барвихе».
Это был настоящий пир во время чумы. Ведь 90 процентов тогдашнего астафьевского населения было обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфортабельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети, так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов. И даже шоферы были привлечены за «соучастие» в чем-то. Но пока еще никто не знал о приближении чумы и пир шел вовсю.
Подошел новогодний вечер. Накрыли в столовой обильный стол. Дамы нарядились. Алеша потребовал, чтобы и я надела новое платье.
– Ну что ты, мамуля. Нельзя в старом. Я люблю, когда ты красивая…
Без пяти 12, когда уже были налиты бокалы, меня вдруг вызвали к телефону. Побежала радостно, думала – муж. В начале января должна была состояться сессия ЦИК. Наверно, приехал в Москву, хочет поздравить.
И вдруг в трубке забасил голос одного случайного, не очень симпатичного знакомого, который почему-то решил поздравить меня.
Пока я выслушивала его приветствия, пока добежала до столовой – Новый год уже наступил. Я вошла в столовую, когда гонг ударял в двенадцатый раз. Алеша, отвернувшись в другую сторону, чокался с кем-то. Когда он повернулся ко мне, уже прошло две минуты тридцать седьмого года.
Мне не пришлось его встретить вместе с Алешей. И он разлучил нас навсегда.
Глава девятая
Исключение из партии
В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего «дела» опять в Казань – не знаю. Может, после моих дерзостей ему не хотелось больше со мной встречаться? А вернее всего – было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел с каждым днем становилось все больше. КПК уже не справлялся с объемом работы.
Это случилось седьмого февраля. Секретарь райкома – мой бывший слушатель по Татарскому коммунистическому университету Бикташев. Надо было видеть, какой гримасой боли искажалось его лицо, пока зачитывалось «дело». Я почти не помню, какие именно обвинения предъявлялись мне на этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену последней московской редакции. Я почти не слушала. И я и все члены бюро райкома знали, что вопрос об исключении предрешен. И мне и им хотелось возможно сократить тягостную процедуру.
– Вопросы?
– Нет.
– Выступления?
– Нет.
– Может быть, вы хотите что-нибудь сказать, Е.С.? – хриплым голосом спрашивает Бикташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним «дело». Видно, как он боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели неясно, что он сам страдает, что он ничего не может?
Но я понимаю все, и я уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только говорю шепотом:
– Решайте без меня…
Все мы знаем, что это нарушение устава, что в отсутствие члена партии нельзя выносить о нем решений. Но разве теперь до устава! И Бикташев только об одном спохватывается:
– А билет… он с вами?
И точно поперхнувшись, выкашливает: