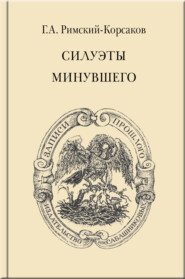скачать книгу бесплатно
За Химкой, влево, живописно раскинулась русская деревня Иваньково – с огородами, полями, перелесками без каких-либо признаков близости урбанистической культуры. Это были последние годы НЭПа, и тогда еще можно было обнаружить много совершенно пустых и беспризорных помещичьих усадеб под Москвой. Мы решили посмотреть на нашу находку с другого берега речки Химки. Спустившись в ее долину и пройдя в деревню, мы узнали, что наш ампирный замок называется «Елизаветино». Издали он еще больше радовал глаз легкостью и стройностью своих архитектурных форм, простотой и изяществом деталей. «Елизаветино» входило в состав усадьбы Покровского-Стрешнева и, по-видимому, дом этот возник на рубеже 18 и 19 веков как какой-нибудь павильон – подарок или каприз кого-нибудь из Глебовых-Стрешневых, потомков того самого Родиона Стрешнева, которого Петр под пьяную руку называл, и, кажется, не без основания, своим «батькой», и у которого в этой усадьбе он певал на клиросе.
За деревней, в перелесках, виднелось несколько отдельно стоящих дач. Пройдя мимо одной из них, в Ибсеновском духе, с громадной террасой, мы узнали, что это дача Суллержицкого, одного из Мхатовцев.
Пройдя еще дальше, мы вошли в божественную березовую рощицу с идеально белыми стволами и изумрудной зеленью. В.Д. Собко расстелил свой знаменитый черный плащ Мефистофеля, сидя на котором он любил уноситься в фантастические грезы, игнорируя действительность. А.И. Малиновский и я разлеглись на нем тоже.
Уткнувшись носом в траву, что я всегда делал, наподобие Антея, я вдруг обнаружил перед своими глазами в большом количестве темно-лиловые фиалки, оказавшиеся чрезвычайно пахучими. Это были южные фиалки Крыма или Кавказа! Как попали они сюда: из Ниццы или Палермо?! Мне удалось узнать, что семена южных цветов попадают при весенних разливах рек в моря, а оттуда плывут, гонимые ветром, вверх по рекам Волге, Дону и их притокам и заплывают в самые глухие и удивительные уголки русского Севера. Действительно, я нашел однажды орхидеи на берегу Москвы-реки, около станции Москворецкая, Подольского района.
Оказалось, что в Иванькове уже много лет проживал художник Симов, известный декоратор Художественного театра. Как-то во время прокладки канала Москва-Волга театральный музей Бахрушина, обратился к Симову в связи с юбилеем Художественного театра с просьбой дать эскизы его декораций для выставки. Симов ответил запиской приблизительно такого содержания: «Какие эскизы?! Какие декорации?! Все кончено! Иваньково, в котором я прожил всю свою жизнь, сносят с лица земли! Всему конец!»
Немного позднее (т.е. до 1941 года), мне пришлось проезжать мимо Иванькова, или мимо того географического места, которое так когда-то называлось на карте. Вместо большой деревни и дачных строений разливалось большое озеро, образовавшееся путем запора воды речки Химки, высились какие-то бесконечные строения и заборы. Это воздвигался очередной новый индустриальный гигант. От одного из поэтических уголков Подмосковья не осталось и следа. Бедный Симов и «симовы»!
Новые заводы, стройки, фабрики, корпуса, трубы тянулись вдоль Волоколамского шоссе, как бы стараясь наверстать упущенное время и исправить допущенную оплошность в задержке коренного искажения буколического ландшафта старого Подмосковья. Здесь блиц-индустриализация, как и всюду, поглотила и повернула дыбом все известные нам исторические понятия, как например: Покровское-Стрешнево, Тушино, село Спасское, Павшино, Губайлово и др. Но тогда, правда, еще каким-то чудом уцелел сосновый островок влево от железнодорожного переезда в Стрешневе, где когда-то жила на даче семья Берсов и куда Лев Николаевич, тогда еще жених, ходил пешком из Москвы все 12 верст от заставы почти ежедневно их навещать.
Тут же за Покровским парком, близ Петербургского шоссе, было небольшое сельское кладбище, где была могилка Ванечки, о короткой жизни которого и его кончине, о каком-то просветленном уходе из нее, так потрясающе вдохновенно и трогательно рассказала Софья Андреевна Толстая в своих записках. На месте этого кладбища раскинулся теперь гигантский поселок стандартных домов.
Хотел бы я видеть, что будет на месте этого поселка через тысячу лет! А что-нибудь, да будет. Тебе отмщение и Ты воздашь!
…В кабинете отца стоял письменный стол, ранее принадлежавший бабушке – Надежде Филаретовне фон Мекк. У бабушки над этим столом висела картина, на которой была предусмотрительно прибита дощечка с надписью «Зима». Много и подолгу я смотрел в детстве на эту картину, желая обнаружить, что именно побудило (и кого?) назвать ее «Зимой» и зачем ее купили? Во всяком случае, нельзя было считать ее объектом для возбуждения каких-либо художественных эмоций. Можно подумать, что покупая ее где-нибудь в мебельном магазине (возможно, что вместе с тем же самым зеленым и плюшевым гарнитуром), мой дед или бабка поставили себе цель купить что-то в золотой раме и притом наименее художественное. Во всяком случае, эта была, – и надо думать, что к счастью, – единственная «картина» во втором этаже дома. Убогое время, жалкие вкусы!
Из коридорчика вела дверь на чердак. С площадки прямо шла дверь в шкафную комнату, где помещалась наша няня Степанида, а позднее Елена Ивановна, или Еленушка, няня моей сестры, поступившая в наш дом в год моего рождения и прожившая в нашей семье до 1922 года.
За перегородкой была дверь в так называемый «мамин WC», а с другой стороны – дверь в спальню родителей, самую светлую и приятную комнату верхнего этажа. Обставлена она была «скромно» – кроме кроватей и мраморного умывальника, в ней была ширма японская шелковая с какими-то экзотическими птицами и цветами, зеркальный шкаф, комод, круглый стол и два глубоких мягких низких кресла, почему-то всегда в чехлах. В углу киот с иконами и зеркало на туалетном столике. На стене – репродукция известной картины Маковского «Боярский пир» и акварельный рисунок «подсолнух и бабочка», приколотый на нем – мой подарок матери и мой первый opus в этом роде. В этой спальной комнате родился я и потом моя сестра. Упомянутая выше японская ширма имеет свою довольно любопытную историю (см. приложение)[4 - Отсутствует. – Прим. А.Р.-К.].
Из спальни вела дверь в другую детскую – моей сестры, расположенную над нижней гостиной. Сестра, вплоть до ее девичьей зрелости, страдала какими-то очень страшными припадками удушья, которыми пугала и родителей и всех домочадцев и которые никто из врачей, ни даже отец Иоанн Кронштадтский, не могли вылечить. Потом все прошло, и ее сыну Леве по наследству не передалось.
Еще дальше была расположена комната, неизвестно почему носившая название «бильярдной», без каких-либо следов этого спорта. В ней стояло несколько шкафов, две детские парты и сложены были всякие наши игрушки. Теоретически предполагалось, по-видимому, что здесь мы будем учиться и отдыхать. Но жизнь вносила часто много коррективов в эту норму нашего детского поведения.
Мы предпочитали играть всюду, но не там, где нам было положено. Особенно предпочитали мы подвижные игры. Самой любимой игрой была «в разбойники», когда, отправляясь из одного установленного места, надо было уметь проскочить в «дом», находящийся в другом этаже. Потом в «прятки», и прятались всюду: под столами, диванами, в шкафах, на шкафах, в сундуках, даже под юбкой у матери. Любили кубики, которых было очень много и можно было строить большие крепости, неизменно разбиваемые в конце игры деревянными шарами от кегель. Очень любил я такую заводную игрушку: в домике у окна сидит кот-сапожник и стучит молотком по подошве сапога на колодке, а к окну крадется мышка, которая показывает коту большой нос и скрывается за углом домика, как только кот-чеботарь вскакивает, чтобы поймать ее.
В «бильярдной» висел на стене портрет-литография Унковского, одного из наших тверских ярых деятелей отмены крепостного права, портрет, неизвестно как и зачем сюда попавший, как карта Африки в конторе дяди Вани у Чехова. С таким же успехом мог здесь висеть Марк Аврелий, генерал Гурко или Дизраели. Никому никогда не пришла в голову мысль, что пожалуй Унковского лучше поместить в кабинете отца. Портрет этот был, как будто, единственным предметом, который связывал век нынешний и век минувший.
Наконец, последняя комната верхнего этажа была «Борина комната», то есть комната моего старшего брата. В детские годы при нем был воспитатель, живший в угловой крошечной комнатке с окном, дверью на балкон. Не поддается расшифровке, откуда попала сюда и почему цветная литография «Пожар Парижа при Коммуне». Позднее эта комната предназначалась для гостей. Из комнаты брата вела в нижний этаж лестница, выходящая в переднюю. Вот и все. Не так уж много жилого помещения, принимая во внимание, что за стол садилось не меньше 12 – 14 человек, а спать вповалку, как в ночлежке, тогда не было принято.
До сих пор не могу понять, где и как могли размещаться постоянно приезжающие к нам родные и домочадцы, никогда не стесняя нашу семью и не используя под жилье гостиную, столовую и кабинет отца. Еще труднее представить себе, как при значительном штате прислуги, учителей, родных и гостей никогда ничего в доме не пропадало и не терялось.
Между тем, как теперь, когда я пишу эти строки и мы живем в одной комнате, бесконечно все пропадает и куда-то исчезает! Или, может быть, тогда мы просто не замечали пропажи ложек, ножей, вилок и прочих хозяйственных принадлежностей, поскольку нож был не один, вилок больше двух, ложками обеспечивались все кушающие суп одновременно, точно также у каждого члена семьи была своя чашка, не считая чайного сервиза. Я уже не говорю о том, что месяцами – и зимой, и летом – дом стоял необитаемый. Ставен не было, и никогда никаких попыток к какой-нибудь краже или ограблению дома не было сделано. Не покушалась на хозяйственное добро и прислуга…
Я не помню точно, когда, наконец, умер старый Крот. Но я помню разговоры о том, что его похоронили на месте, выбранном моим отцом в Новом Парке (французском), по левой дорожке у второго мостика. На его могиле был посажен дубок. Он хорошо принялся и быстро развивался. Но вот однажды с ним стряслась беда.
У Марии Ивановны Феличевой жил ее племянник – сирота Ваня Федоров, товарищ моих детских игр и мой сверстник. Как-то раз, по ни чем не объяснимому мальчишескому импульсу, бегая по саду, он вдруг сломал верхушку дубка, обезглавив и обезобразив его. Грозной и не любившей шуток «маркизой Феличини» Ваня был выпорот, а дубок стал расти уже не вверх, а вширь.
Наступил мрачный 1911 год. Мой старший брат Борис, женившийся в 1904 году двадцатилетним юношей, к этому времени давно уже разошелся со своей женой и тщетно искал верного пути в жизни, пробуя то одно, то другое. Вполне было естественно, что он, как старший сын, получил Жуково во владение от родителей. Это имение не было родовым, а было приданым моей бабки, матери отца, рожденной Фиглевой. Это старинная тверская фамилия. Не знаю, какое отношение она имеет к игривому выражению «строить фигли-мигли».
Последними представителями этого рода были, кроме моей бабки, умершей в 1895 году, ее брат Сергей Васильевич, бывший правовед, в 70-х годах заведовавший придворно-конюшенным ведомством (он не оставил мужского потомства)[5 - Автор ошибается: речь идет не о Сергее Васильевиче, а о Петре Васильевиче Фиглеве, у которого был сын и две дочери. Кроме сестер Анны и Елизаветы Васильевных, была еще их старшая сестра Екатерина (по мужу Симборская), имевшая 4-х дочерей. – Прим. А.Р.-К.], и ее две сестры: Анна Васильевна (девица) и Елизавета Васильевна, по мужу Карамышева, не имевшая детей.
У брата, бросившегося в какие-то фантастические коммерческие авантюры, был долг чести. Он взял большие деньги без всяких расписок и обязательств под «честное имя»… Надо было вернуть долг. Брат решился продать Жуково. После развода родителей продажа Жукова была второй острой травмой, нанесенной моему юному сознанию. Я усиленно сопротивлялся этой продаже.
Мои старшие родные тети и дяди – люди, бывшие в прошлом без всяких средств, но сделавшие себе государственной службой солидное положение в обществе и скопившие себе кое-какой капитал, отказались помочь брату и выкупить у него Жуково, чтобы сохранить его в семье.
Л.Н. Толстой писал, что любит только свою землю, свою усадьбу, свой сад, свой дом, потому что все именно его. Он этим владеет и он, и только он, распоряжается. Он – хозяин. А всякую чужую землю, даже самую красивую и роскошную, как какую-нибудь Швейцарию или Крым, он любить не может. Я с Толстым не согласен. Я никогда не владел Жуковым и никогда не думал быть его хозяином, и между тем, я любил его и люблю сейчас, как очень близкого и родного человека. Мне было всё равно, кому в моей семье или кому из моих родных оно будет принадлежать. Только было совсем необходимо, чтобы оно осталось в семье. И я не мог представить себе добровольный отказ моих родителей от Жукова, тупое, мелочное, обывательское, холодное и очень эгоистичное отношение старших родных к месту, где родились и выросли.
Осенью 1911 года, обходя в последний раз все родные и кровно любимые уголки Жукова, я прошел и к могиле Крота. Дубок уже был намного выше меня. Сломанный рукой Вани ствол по-прежнему безобразно торчал вверх. Но в нем уже ощущалась большая сила, и он обещал быть таким же стройным и красивым деревом, как и его старшая родня в старом саду…
Когда немецко-фашистские войска заняли Ржев, потом Зубцов и стали подходить к Торжку, то все мои мысли о войне сконцентрировались на одной точке земного шара. Что осталось после нашествия врага от построек? Как выглядит теперь жуковский парк и сад? Но из всех этих бессмысленных, чудовищных и диких обрывков фантастических видений, один принял ясные и четкие контуры. Мне виделся старый, полувековой дуб над могилой Крота, который раскинул широко свои могучие ветви и, когда ветер шевелил их, я слышал, как он шептал: «Пала связь времен, зачем же я связать ее рожден?»…
Гимназист Алехин
Это было в 1905 году. Я учился тогда в Москве, в частной гимназии Л.И. Поливанова[6 - Поливанов Лев Иванович (1838 – 1898), литературовед, пушкинист, педагог, основал гимназию в Москве в 1868 г. (ул. Пречистенка, 32). После его смерти директором стал его сын Л.Л. Поливанов. – Прим. А.Р.-К.], известного в свое время педагога. Гимназия имела хорошую репутацию. Говорили о скромности, серьезности и воспитанности учащихся, а также о хорошем подборе преподавателей. Действительно, при мне русскую литературу преподавал Л.П. Бельский, известный переводчик «Калевалы»; математику – сначала Н.И. Шишкин (брат известного художника), потом Бачинский, молодой художественный критик; экономическую географию – известный статистик-экономист Игнатов, русскую историю – Ю.В. Готье, впоследствии академик.
Запоздав к началу учебного года, при переходе в шестой класс, я должен был занять единственное свободное место во втором ряду, на крайней к окну парте. Моим соседом оказался паренек, ничем не примечательный на первый взгляд, с удивительно будничной, простецкой внешностью. Курносый, рот большой, с плотно сжатыми тонкими губами. Во рту довольно желтые зубы. Рыжеватые, светлые волосы, сбившиеся спереди на лоб, в виде плохо промытой мочалки. На бледном лице веснушки. Длинные, не очень чистые, красные пальцы, с обгрызенными до мяса ногтями. Руки всегда холодные. Голос довольно высокий и немного скрипучий. Пожалуй, все же глаза были наиболее примечательным органом в этом, вообще говоря, малопривлекательном, юноше. Глаза были водянисто-прозрачные, желтого отлива, ничего не выражающие – «пустые». Когда он глядел, то нельзя было быть уверенным, что он видит что-нибудь, и смотрел он не на собеседника, а через него, в пространство. Походка у парня была легкая и быстрая, но какая-то вихлястая, неврастеничная, и кроме того, он имел привычку дергаться, как-то вдруг выпрямляясь, спереди назад закидывая голову и обводя вокруг невидящими глазами, презрительно сжимая при этом свои бескровные губы. Зрение у него все же очевидно было плохое, так как читал он, очень близко наклоняясь над книгой. Одежду его составляли, черная гимназическая куртка с ремнем и брюки, довольно потертые, не первой свежести. Таким образом, внешний вид моего соседа был далеко не элегантный и мало располагающий к себе. Фамилия его была – Алехин.
С первых же дней ученья я почувствовал себя крайне одиноким. Привыкнув в гимназии к дружескому общению со своими соседями и чувству локтя, меня поразила отчужденность Алехина. Сначала я принимал его молчание за выражение личной неприязни ко мне, но вскоре понял, что Алехин совершенно одинаково безразлично относится ко всему классу. Понял я и причину того, что единственное свободное место в классе оказалось рядом с Алехиным. Надо заметить, что ничего враждебного в отношении класса к будущему чемпиону не было. Но в то время, когда между гимназистами самых разных характеров и разного социального и бытового положения устанавливалась, на время пребывания в стенах школы, определенная товарищеская солидарность и взаимопонимание, между Алехиным и классом стояла какая-то преграда, не допускающая обычных товарищеских отношений.
Алехин «присутствовал» на уроках, но не жил интересами класса. Не только никогда у меня с ним не затевалось каких-либо задушевных разговоров, но я не помню, чтобы мы вообще когда-либо разговаривали.
Несмотря на свое отличнее знание всех предметов, Алехин никогда никому не подсказывал. Первое время при устных ответах я еще рассчитывал на помощь своего соседа, но он упорно молчал, не обращая внимания на красноречивые толчки моего колена и пинки кулаком в бок. Сначала это возмущало меня, так как даже лучший ученик в классе, Лева Поливанов, сын нашего директора, и тот иногда не удерживался, чтобы не подсказать товарищу. Такое поведение Алехина могло происходить от очень большого эгоизма, или от нежелания отвлечься, хотя бы на минуту, от своих шахматных мыслей. На всех уроках, кроме урока латинского языка, который преподавал Л.И. Поливанов, директор гимназии, Алехин был занят решением шахматных задач и обширной корреспонденцией. Уже тогда он играл шахматные партии «на расстоянии» с партнерами всего мира. Но времени для шахматной переписки ему явно не хватало, хотя он и трудился вовсю. Не хватало ему порой и бумаги для писания шахматных задач. Исчерпав свои запасы бумаги, свои тетради и книги, он, нисколько не стесняясь, принимался за мои, чертя на них изображение шахматной доски и движение фигур. Обдумав ответ на посланный ему ход какого-нибудь далекого партнера, Алехин в свою очередь брал почтовую карточку и, написав на ней свой ход, адресовал ее куда-нибудь в Чикаго, Лондон или Рио-де-Жанейро. Само собой понятно, что он получал много таких же почтовых карточек со всего света с разными почтовыми марками. Но «профанам» в шахматной игре, вроде меня, до них нельзя было дотрагиваться. Нечего было и думать получить от Алехина какую-нибудь редкую почтовую марку республики Коста-Рики, Нигерии или Зеленого Мыса. Весь углубленный в свои шахматные дела, Алехин даже на уроках «закона Божия» и французского языка, когда все ученики, кроме сидящих в виде заслона на первых партах, предавались каким-нибудь приятным занятиям, вроде игры в шашки, домино и даже карты, или читали приключения Шерлока Холмса, или наконец, мирно дремали, – Алехин один не отвлекался от своего шахматного труда. Он настолько исключался из окружающей его среды, что не всегда ясно сознавал, где он находится и какой идет урок. Бывало, что вдруг начнет вставать из-за парты. Класс затихал и напряженно ждал, что будет дальше. Постояв немного с растерянным видом и покрутив свой рыжий чуб, Алехин вдруг издавал радостное «Ага!», быстро хватал ручку и записывал придуманный ход. Если преподаватель задавал ему вопрос, то он, услышав свою фамилию, быстро вскакивал и некоторое время стоял молча, обводя класс своими прищуренными, подслеповатыми глазами, искривив рот в болезненную гримасу, как бы стараясь понять, где он находится и что от него требуют. Все это происходило не больше пары секунд, после чего лицо Алехина прояснялось, и на повторный вопрос учителя он отвечал быстро и без ошибки.
Учился Алехин отлично. Когда и как он готовил уроки, не знаю. Но обладая исключительной памятью, ему достаточно было на перемене взглянуть в учебник, чтобы запомнить заданный урок. Конечно, никаких объяснений преподавателей он не слушал, будучи углублен в свои шахматные ходы. И надо заметить, что преподаватели не мешали ему в этом, хотя иногда и позволяли себе иронические замечания. Помню как-то классную работу по алгебре. Все юнцы притихли. Одни ученики, раскрасневшиеся, потные, взволнованные, поскрипывая перьями, торопятся скорее сдать письменную работу. Другие – бледные, растерянные, оглядываются по сторонам, всем своим жалким видом взывая к товарищеской помощи. Вдруг Алехин стремительно встает и с сияющим лицом молча обводит класс глазами и в тоже время, по всегдашней привычке, крутит левой рукой клок своих мочальных волос, сбившихся на лоб.
«Ну, что, Алехин, решили?», – спрашивает его преподаватель Бачинский.
«Решил… я жертвую коня, а слон ходит … и белые выигрывают!»
Класс содрогается от смеха. Хохочет в свои длинные усы всегда сдержанный и корректный Бачинский.
У нас в классе учились дети, родители которых принадлежали к самым различным общественным группам московского населения. Были купцы: Морозов и Прохоров; аристократы: Долгорукие и Бобринские. Дети профессоров и адвокатов – Шершеневич, Гартунг; представители революционной интеллигенции – Лобачев и Клопотович. Но преобладали дети среднего класса, сыновья мелких служащих, чиновников, врачей и др. Алехин был сыном очень состоятельных родителей. Отец – крупный землевладелец Воронежской губернии, предводитель дворянства. Мать его была из семьи известных московских фабрикантов Прохоровых. Но у самого знаменитого шахматиста не было во внешнем облике ничего от самодовольного московского купчика, ни, еще меньше, от родовитого помещика-дворянина. Скорее всего его можно было принять за сына небольшого чиновника, может быть, сына бухгалтера или мелкого торговца.
Алехин, однако, не любил, когда искажали его дворянскую фамилию. Так, когда наш «батюшка» о. Розанов, вызывая Алехина отвечать урок по «закону божию», постоянно называл его – «Олёхиным», с крепким ударением на букву «ё», то будущий чемпион мира также неизменно поправлял почтенного служителя церкви, говоря: «Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин».
К концу учебного года у меня с Алехиным отношения обострились. Меня стала раздражать шахматная мания Алехина и то, что у меня не было нормального соседа по парте, с которым я мог бы делиться повседневными мелочами нашего школьного быта и обсуждать более серьезные темы нашей молодой жизни. К тому же, безусловно, Алехин был беспокойным соседом. Для своих шахматных занятий он не стеснялся занимать столько места на парте, сколько ему хотелось, так что у меня с ним шла упорная борьба за «жизненное пространство». Мои учебники постоянно попадали в ранец к Алехину и получить их от него было крайне трудно, и мне приходилось покупать себе новые. Он говорил, что берет их домой по рассеянности, случайно. Однако когда эта случайность действовала на протяжении целого года, то давала мне основание считать ее проявлением злой воли. Я не помню, чтобы у Алехина был бы какой-нибудь близкий товарищ. Я не помню, чтобы он принимал участие в жизни класса, в разговорах на волнующие нас, гимназистов, темы. Я никогда не слыхал, чтобы он ходил в театр или бывал в концертах, на выставках картин. Не видел, чтобы он читал какую-нибудь книгу. А между тем, многие из нас зачитывались сборниками «Знания», где печатались Горький, Л. Андреев, Вересаев, Чириков, Бунин. С волнением читали Куприна, Арцибашева, Амфитеатрова. Увлекались «Паном» Гамсуна, Ибсеном, Шницлером. Конечно, перед этим прочитаны были все русские классики и хорошо усвоены Гюго, Золя, Флобер, Мопассан. Конечно, глубоко презирали Вербицкую и Нагродскую, обожали Чехова.
Были у нас и восторженные почитатели Большого Театра, Художественного, Малого. На переменах спорили о новой роли Качалова, о новой постановке «Много шума из ничего» в Малом, о поездке Шаляпина на гастроли в Италию, и о многом другом. Завидовали тем, кто носил такие же фетровые боты, как Собинов, и такую меховую шапку – лодочкой – как Качалов. Были такие ученики, у которых в ранце было больше фотографий балерин, чем учебников…
Не распространял Алехин и билетов по знакомым на концерт композитора Ребикова, сбор с которого, как шептали на ухо каждому, должен был поступить в кассу московского комитета РСДРП. Этот концерт организовала семья С.Г. Аксакова[7 - Аксаков С.Г. – внук писателя С.Т. Аксакова; его сыновья – Константин и Сергей (будущий композитор). Жили Аксаковы в Москве – угол Пречистенки и Штатного пер. (с 1921 г. – Кропоткинский пер.) в доме композитора и пианиста В.И. Ребикова (1866 – 1920). – Прим. А.Р.-К.], внука писателя, сыновья которого учились в нашем классе.
Не писал Алехин и писем Л.Н. Толстому с просьбой разрешить вопросы, тревожащие тогда многих юношей, стоящих на пороге мужской жизни. Не сидел Алехин на подоконниках нашего гимназического зала и не отпускал по адресу девушек, идущих мимо гимназии, словечки, которые, к счастью, они не могли слышать. Не посещал Алехин и наш гимназический «клуб», где в перемену, погибшие в общественном мнении ученики, наспех жадно глотали дым папирос, при этом рассказывая непристойные анекдоты. Мимо всех этих больших и малых явлений школьной жизни Алехин прошел, не взглянув на них, и может быть, и не заметив их.
Наступил декабрь. Гимназическая молодежь старших классов не могла оставаться равнодушной к переживаемым страной революционный событиям. Когда на улицах Москвы раздались выстрелы, занятия в гимназии прекратились сами собой. Это не мешало нам, гимназистам, встречаться в домашней обстановке и быть в курсе событий. Так мы знали, что для того, чтобы долговязый верзила Николай Бобринский не попал на студенческую сходку в университете, мать его – известная общественная деятельница В.Н. Бобринская, заперла его, а он все же удрал из дома через форточку. Мы знали, что наши товарищи Гартунг и Носяцкий ездили на митинг в Техническое училище и прорывались через кордоны хулиганов из «черной сотни». Мы знали, что Клопотович хранит прокламации. Он же предупредил меня, когда я услышу где-нибудь на улице или в общественном месте команду: «Боевая дружина, вперед!», то я должен буду выйти вместе с другими вооруженными дружинниками вперед и построиться. Это сообщение меня очень смутило. У меня не было никакого оружия. Я мечтал достать себе браунинг, какой показывал мне из-под полы наш знакомый художник Б.Н. Липкин. И, наконец, все же я достал себе «оружие». Это был крошечный детский пистолетик, который стрелял мелкокалиберной круглой пулькой. Его полезное действие было ничтожно мало. Убить им человека было невозможно, но покалечить, особенно себя, было не трудно. И стоил он … один рубль 50 копеек. К сожалению, мой пистолет не принял участие в первой русской революции. На углу нашего Никольского переулка и Сивцева-Вражка, перед домом, где жил известный знаток русского языка Д.Н. Ушаков[8 - Ушаков Д.Н. (1873 – 1942), филолог, автор словарей русского языка – толкового в 4-х томах и орфографического, жил в 1920-30-х годах в доме №19 в Плотниковом пер. (до 1922 –Никольский пер.). – Прим. А.Р.-К.], а позднее и профессор консерватории К.Н. Игумнов, появилась небольшая баррикада. Говорили, что сооружает ее продавец из угловой москательной лавки.
Трудно было устоять, чтобы не помочь ему в этом деле. Впрочем, несколько досок, унесенных мною с нашего двора, не сделали нашу баррикаду более грозной и неприступной. Защитников ее не было и дворники разобрали ее в несколько минут, чтобы она не мешала движению по переулку.
Пускай это была детская игра в революцию, но эта игра свидетельствовала о наших симпатиях и наших настроениях.
Когда возобновились школьные занятия, у многих из нас было что рассказать друг другу. Но Алехин и тут, кажется, не проявил никакого интереса к нашим рассказам, и он глубоко обидел меня тем, что, взглянув на мой пистолет, он несколько раз дернул головой в бок и презрительно улыбнулся.
Потом, когда я перешел учиться в Петербург, я узнал, что Алехин поступил на университетский курс Училища Правоведения. У меня были друзья среди правоведов, товарищей по курсу Алехина, и, бывая у них, я встречался и с моим гимназическим товарищем. Встречи эти не доставляли мне никакого удовольствия, да и ему, по-видимому, также. Тогда же я услышал, как потешались правоведы над необыкновенной «профессорской» рассеянностью Алехина, над его «штатской» душой, над отсутствием у него мундирной выправки и, особенно, над его неуменьем пить вино, что по неписаному кодексу чести некоторых правоведов считалось крайне предосудительным. (Впрочем, позднее он, кажется, этому научился).
Рассказывали, что Алехин мог при случае по рассеянности вместо треуголки – установленного для правоведов головного убора, надеть на голову какую-нибудь старую шляпу и даже картонный футляр и выйти так на улицу, за что он и подвергался суровым выговорам со стороны начальства Училища. Впрочем, в этот период его жизни, в рассеянности и чудачествах Алехина, я думаю, много было от юношеского озорства, желания порисоваться, отличиться, почудить. Когда товарищи бурно и весело реагировали на какие-нибудь удивительно «чудные» выходки Алехина, то у него самого появлялись в глазах какие-то веселые искорки и лицо выражало отнюдь не смущение, а чувство самодовольства и удовлетворения: «Вот, мол, я какой, – мне все нипочем, а вот вы попробуйте-ка…» Отношения мои с Алехиным испортились от того, что я принимал его выходки «всерьез», вместо того, чтобы обращать их в шутку.
Вскоре по поступлении Алехина в Правоведение он одержал свою первую знаменательную победу на шахматном поле.[9 - Очевидно, автор имеет в виду победу Алехина на Всероссийском турнире любителей в Петербурге (1909 г.), где он играл с 16-ю известными в России шахматистами и выиграл 12 партий, 2 свел в ничью и проиграл только 2 партии. Алехину было тогда 16 лет. – Прим. А.Р.-К.] Во всех газетах и журналах появились его фотографии. Появились и карикатуры. Так, в «Петербургской газете» Алехин был изображен в виде мальчика-гимназиста, несущего громадный кубок-приз и согнувшегося под его тяжестью. Это дешевое остроумие было рассчитано на невзыскательные вкусы петербургских обывателей, читателей этой бульварной газеты.
Потом началась война. За ней пришла революция, и я больше Алехина не встречал. То, что мне позднее удалось узнать о чемпионе мира по шахматам, указывало на то, что мой беспокойный сосед по школьной парте во многом изменил свой характер и свое отношение к окружающему его миру.[10 - Окончив Училище правоведения в 1914 г., Алехин был причислен к министерству юстиции, в 1916 г. добровольно пошел санитаром на фронт, был контужен в Галиции под Тернополем (награжден 6ыл крестами – Станислава и Георгия), после октября 1917 г. жил случайными заработками: немного проработал в Угрозыске, был переводчиком в Коминтерне (знал немецкий и французский); недолго посещал занятия в киностудии В. Гардина. В 1931 г. женился на швейцарской журналистке и выехал с ней за границу. Чемпионом мира был с 1927 по 1935 г. и с 1937 г. до конца жизни. Хотя и старался не терять связь с Россией и ее шахматистами, идей большевизма не принял, за что был надолго зачислен советской властью во враги, жил во Франции, Аргентине, Германии, Португалии. Хотел в 1946 году сыграть матч с М. Ботвинником в СССР, но не успел. Умер в Португалии. Прах его был перенесен в 1956 г. в Париж на кладбище Монпарнас. – Прим. А.Р.-К.]
Дорога, по которой он шел к славе, не всегда была прямой и ровной. Кроме радости побед и успехов, он знал и горькие минуты поражений. Совершал он и крупные ошибки при выборе пути. Происходящее, как я думаю, во многом от недостаточного знания жизни, которую он проглядел за недосугом, и неуменья поэтому разбираться в реальной обстановке.
Теперь, по прошествии многих лет, для меня ясно, странности характера и чудачества Алехина, которые выделяли его из массы школьников, причиняли беспокойство окружающим его юнцам, или вызывали у них насмешки, были признаками его исключительной одаренности.
Не будучи сам шахматистом, но всегда оставаясь русским, я охотно забываю все наши юношеские недоразумения полувековой давности, памятуя только, что Алехин, как шахматный мастер, возвеличил культуру великого русского народа и принес славу русскому имени.
1960 г.
Записки солдата-гвардейца
Глава I
Под влиянием моих первых наставниц: В.В. Степановой (эсерки), Марии Викентьевны[11 - Возможно Мария Викентьевна Смидович. – Прим. ред.] (РСДРП), А.М. Левитской (ВКПб), я любил говорить, что ничто не заставит меня пойти служить офицером, разве только крайняя необходимость. Я вполне разделял взгляды Толстого на военную службу и видел в ней что-то весьма унизительное для человеческого достоинства.
Однако пребывание моё в стенах Училища правоведения сильно поколебало эту мою концепцию.
В войну с Японией многие правоведы пошли добровольцами в армию. Тогда же стала намечаться тенденция по окончании училища пойти не на гражданскую, а на военную службу. К этому времени, очевидно, у правоведов идеалы шестидесятых годов окончательно выветрились. Правоведение перестало быть колыбелью «белых юристов». На правоведов, которые, кончая училище, шли служить в Министерство Юстиции, товарищи смотрели, как на неудачников. Их жалели и вскоре забывали. В училище стали поступать для карьеры, для связей, для хорошего общества. После 1905 года из каждого выпуска кто-нибудь из правоведов шел служить в гвардию. В моё время служили: Коссиковский, Г. Гротгус и Струков – в кавалергардах, С. Игнатьев и Шеншины – в гусарах, барон Торнау – в Конном полку, Свечин – в Преображенском (флигель-адъютант)… Когда кто-нибудь из них появлялся в училище, гремя саблей и звеня шпорами, то мальчишки теряли голову, и даже самые благоразумные начинали мечтать о гусарском ментике или кирасирском колете.
В моем классе о военном мундире говорили Бобриков, Фермор, Томкеев, Таптыков, Рогович, Каменский, Яковлев (флот), Балбашевский, Армфельдт. Нет ничего удивительного, что и я стал подумывать о мундире преображенца. Однако, когда я поделился этими мыслями с моим братом Дмитрием, уже носившем гусарский гродненский мундир, то он очень резко воспротивился моему проекту: «Если ты пойдешь служить в пехоту, то ты мне больше не брат. Ты не представляешь, какой это ужас – пехотный полк. Если хочешь служить – иди в конную артиллерию. Часть очень приличная, достаточно скромная. Служба там рай, и тебя туда примут. У меня там много друзей».
Я не мог не прислушаться к совету брата-офицера. На нашей правоведской бирже хорошего тона конная артиллерия никак не котировалась, ее никто не знал. Я тоже. Но у меня там был знакомый, Е.Н. Угрюмов, друг семьи моего дяди Сергея Александровича Римского-Корсакова. Я обратился к нему за советом. Он подтвердил мне все, что сказал мой брат, и добавил, что со своей стороны он посодействует моему поступлению вольноопределяющимся. Сам Угрюмов тоже начал свою службу в конной артиллерии с вольноопределяющегося и потом сдал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище.
Надо заметить, Угрюмов очень серьезно предупредил меня, что выдержать офицерский экзамен чрезвычайно трудно – он требует и особых математических способностей, и исключительной усидчивости, внимания, и временного отречения от всех радостей жизни. «Хватит ли у тебя для этого воли и сил?» – спросил Угрюмов. Я отвечал, что попытаюсь. Ответ мой был очень легкомысленным. Действительно, надо было со всей серьезностью отнестись к предупреждению Угрюмова. Я этого не сделал и, может быть потому, что помнил совет брата. Вряд ли он, зная мои средние способности, посоветовал бы мне что-нибудь такое, чего я не мог бы преодолеть.
Мой дядя, артиллерист, а также и мой отец, артиллерийский офицер в отставке, очень приветствовали мое решение. Но никто, кроме Угрюмова, не предвидел всех трудностей, ожидавших меня в дальнейшем.
Итак, я подал просьбу о принятии меня вольноопределяющимся в конную артиллерию. Адъютант, капитан Огарев, предложил мне оставить свой адрес и ждать извещения. Это было великим постом 1912 года. Прошло два месяца, и никакого ответа я не получал. Я обратился за содействием к Угрюмову. Оказалось, что Огарев уже больше не адъютант. Новый адъютант, А.П. Саблин, ничего обо мне не знал. Пришлось подавать прошение вторично. Саблин спросил, не брат ли я гродненского гусара? И узнав, что брат, сказал: «В таком случае вы уже приняты. Поезжайте домой, а в августе приходите, чтобы получить назначение в учебную команду». Я так и сделал.
Настала осень.
Нас было четверо вольноопределяющихся: В.П. Штукенберг (Додя) и два брата Мезенцевых, Александр и Михаил. По совету Саблина я поселился вместе с Штукенбергом. Мы сняли нижний этаж флигеля у вдовы Постельниковой (sic!) в городе Павловске, где находилась учебная команда, на Солдатской улице. Над нами жил гарнизонный священник, носивший крест на Георгиевской ленте, полученный за Японскую войну. Мезенцевы устроились на полном пансионе у нашей хозяйки, жившей в доме, выходившем на улицу. Нам со Штукенбергом пришлось вести самим свой «дом». Откуда-то появился у нас слуга, Иосиф Козловский – немолодой, неопрятный и тщедушный поляк, очень малосимпатичный. Позднее оказалось, что он болен туберкулезом. Это не мешало ему уничтожать все наши запасы и вина. Он всем своим видом выражал свое неудовольствие и, разговаривая с нами, презрительно усмехался. Мне он портил аппетит, а Штукенберг ворчал и спрашивал, для чего мы должны терпеть такую неприятную фигуру около себя? Однако уволить Иосифа у нас не хватало духу. Уж слишком жалкий это был человек. В конце концов он все же от нас ушел. При расчёте, прощаясь, он скривил рот в ехидную усмешку и посоветовал нам взять молодую кухарку: «Я же знаю, что вам требуется». Мы взяли по объявлению в газете одного парнишку. Он был очень веселого и общительного нрава и стал любимцем всех соседних кухарок. Впрочем, он был добродетелен, как красная девица.
Обед мы сначала брали из офицерского собрания. Но это было дорого, а порции не соответствовали нашим зверским аппетитам. Стали что-то готовить дома. Штукенберг очень любил щи по-французски – «по-то-фё» и омлет из сбитых яиц, как я его приготовлял, без молока (ocufs brouilles). Но в основном пищей нашей служили всякие консервы (кукуруза и др.), масло, сыр, колбаса. По-холостяцки денег уходило много, а питались кое-как.
Квартира наша состояла из четырех комнат и кухни. Кроме того, две большие веранды, совершенно нам не нужные. Платили мы за квартиру 50 руб. в месяц. Это было очень дорого для зимнего сезона по Павловским ценам. Зато казармы учебной команды были в пяти минутах ходьбы. Надо заметить, что дома у себя мы бывали только для того, чтобы спать и есть. В начале службы мы так уставали, что и есть не хотелось, а только бы спать и спать. Это вполне понятно. По расписанию наших служебных занятий мы вставали в 4 часа утра и отправлялись на чистку лошадей и уборку конюшен. Уборка продолжалась до 6 часов. Потом до 8 часов был перерыв для умывания и завтрака. С 8 до 11 часов проходили занятия пешего строя и гимнастика. Занимались мы в малом манеже, пристроенном к большому. Конечно, манеж не отапливался, хотя печи и были. В громадных окнах не хватало многих стекол. Температура воздуха была такая же, как и на улице. Но самым неприятным был не холод, хотя наши ноги очень страдали от него, а сильный сквозняк. Для многих его действие было губительно, когда мы разгоряченные, потные, в одних гимнастерках, стояли неподвижно в строю. Очень многие простывали, а бедняга Чирец, со слабыми легкими, схватил жестокий плеврит, был отправлен на родину и вскоре там умер. Удивительно, что никакими гриппами никто у нас не болел. Правда, многие болели, но совсем не гриппом. Кое-кто из солдат, и мы в том числе, носили под гимнастеркой теплую шерстяную фуфайку. Это не запрещалось, при условии, что фуфайку не будет видно. В какой-то мере это предохраняло от холода. Обмундирование у нас было собственное. Надо было иметь два комплекта, один – рабочий, служебный, а другой – выходной. Очень быстро нашу одежду пропитал лошадиный пот, и ехать в «увольнение» на воскресение «в город», т.е. в Петербург, в вонючей шинели было абсолютно невозможно. Пахнет лошадь не противно, но всё же сильный ее запах «шибает в нос».
Сапоги тоже были строевые и городские, также как и шпоры. Конечно, собственная шинель была длиннее казенной и доходила до пяток – согласно кавалерийскому шику. Каждый солдат учебной команды имел закрепленного за ним коня. Он на нем ездил, убирал его, кормил. Мне был дан конь «Донец», – умнейшее животное. Он знал строевую службу, все команды, не хуже самого господина вахмистра. Согласно установившейся традиции вольноопределяющиеся сами своих коней не убирали. Господин вахмистр назначал им «рехмета» из числа солдат учебной команды, т.е. вестового, который за десять рублей в месяц, а то и меньше, убирал лошадь вольноопределяющегося (Александр Мезенцев сам чистил своего коня, с которым он и подружился). Хотя мы сами своих лошадей не чистили, но на утреннюю уборку и вечером ходить были обязаны. Очень мучительны были эти хождения в морозные ночи, когда, как вспоминал Штукенберг Пушкина, «все доброе ложится, и все недоброе встает».
Месяца через четыре мы были освобождены от чистки коней, но в дневальства и дежурства назначались до конца курса учебной команды, то есть до конца апреля. Правда, эти наряды бывали не часто.
Не знаю, где было хуже дежурить: на конюшне или в казарме. На конюшне было холодно и жутко. Температура всё же была не выше нуля. Но просидеть двенадцать часов там было тяжело. Особенно мерзли ноги, и согреть их не было никакой возможности. После 12 часов ночи начинало усиленно клонить ко сну. Борьба со сном, можно сказать, являлась главной нашей обязанностью. Борьба давалась эта нелегко. Мерное похрапывание и дыхание лошадей, однообразное бряцание цепей и удары их о кормушки, шуршание соломы и абсолютная тишина снаружи как-то незаметно убаюкивали. Стоило только присесть на мешок с овсом или на ларь, как уже погружался в сон. Но сознание боролось и сопротивлялось сну, и поэтому этот сон походил больше на клевание носом. Сделаешь клевок и очнешься. Откроешь глаза и с ужасом видишь перед собой какую-то чудовищную морду из гоголевской фантастики! Эта чертовщина оказывается головой лошади, которая неслышно подошла к мешку с овсом. Надо заметить, что ночью все лошади ежеминутно сбрасывали с себя недоуздки, выходили из денников и бродили по конюшне, очевидно в поисках съедобного, так как казённый их рацион был явно недостаточен. На одну лошадь полагалось: 8 фунтов овса, 10 фунтов сена и 12 – соломы-подстилки в сутки, которую они тоже сжирали с удовольствием. Бедные животные все время чувствовали голод и злобно поглядывали на дневальных.
Загонять лошадей в стойла было довольно хлопотливо, к тому же некоторые из них кусались и лягались, так как лошадь вообще животное злое и хитрое.
Дежурить по казарме ночью было, может быть, не так тяжело, но очень омерзительно. Питались солдаты команды хорошо. Обед состоял из очень жирных, и поэтому почти несъедобных щей с большим куском мяса (200 грамм) и жирной каши. Хлеба ржаного полагалось, если не ошибаюсь – 3 фунта (т.е. больше кило) и 56 золот. сахара, т.е. больше 200 гр. Очень много хлеба оставалось. На ужин давали кашу. Порции были большие. От такой пищи ночью в спальном помещении поднимался такой тяжелый дух, что становилось невмоготу и приходилось выходить на улицу, чтобы подышать чистым воздухом. Впрочем, после улицы воздух в казарме казался ещё чудовищнее. Присоедините сюда еще запах портянок, которые сушились, развешанные у печек, и тогда вам будет ясно, что дежурство на конюшне было значительно приятнее.
Устав требовал, чтобы на ночь, для вентиляции, печные трубы не закрывались, а также открывались бы форточки для проветривания. Однако открывание форточек вызывало гневный протест солдат, которые под утро очень страдали от холода, так как асфальтовый пол быстро остужал помещение, в котором и без этого никогда не было жарко. После дежурства казарменная вонь еще долго держалась в носу, и было ощущение, что и шинель, и мундир, и сам весь пропитался этим тошнотворным запахом.
Когда я первый раз пришел на ученье верховой езды, сменой командовал поручик Н.А. Барановский, бывший лицеист, ставший офицером из вольноопределяющихся. Урок заключался в том, что надо было научиться влезать на лошадь, неоседланную, стоящую на месте и идущую рысью. Как оказалось, влезть на лошадь без седла и стремян – дело довольно сложное, почти невозможное. Сколько я ни делал попыток вскочить на спину кобылы «Венеры», это мне не удавалось. Барановский долго смотрел на мои потуги и сопел как морж. Наконец, он подошел ко мне: «Согни левую ногу», – сказал он и легко подсадил меня на круп лошади. «Надо научиться самому влезать. Никто другой раз помогать не будет».
Никакого другого технического приема для влезания на лошадь он ни мне, ни моим товарищам не преподал и скоро ушел домой, поручив занятия вахмистру. Степан Петрович Зайченко был наш первый, непосредственный начальник, вахмистр учебной команды, подпрапорщик, любимец офицеров, да, пожалуй, что и солдаты к нему относились хорошо и уважали его, несмотря на то, что он был еще очень молод годами и только второй год находился на сверхсрочной службе в учебной команде. Характера он был спокойного, всегда ровный в обращении, корректный, выдержанный. Совсем не помню, чтобы он когда-нибудь кричал на солдат или ругался, а тем более дрался. Спокойно отдавал распоряжения, не травмируя солдатскую психику. Усов и бороды не носил и порой выглядел совсем мальчишкой. Иметь с ним дело нам, вольноопределяющимся, было очень приятно. Когда Александр Мезенцев, наш староста (дуайен) передал ему от нас сорок рублей (по десяти с человека) и сказал, что вольноопределяющиеся его благодарят, он очень спокойно сунул деньги в карман и сказал: «Ну, это, как полагается». Потом он получил такую же сумму на Рождество, как поздравление с праздником.
Держал себя с нами Степан Петрович удивительно корректно и даже почтительно. Конечно, говорил нам «Вы» и здоровался за руку. А о нас говорил солдатам в третьем лице: «Соловьев, подай «им», господину вольноопределяющемуся, коня…»
Степан Петрович был женат. «Ихная баба» и «дитё» жили при нем. Жена была совсем невзрачной, серой бабенкой и являла резкий контраст с молодцеватой и подтянутой фигурой мужа. Носил он всегда бушлат светло-песочного цвета, на петлице которого укреплялся конец серебряной цепочки от часов – подарок за хорошую службу от командира батареи. Службу он действительно знал хорошо и умел очень толково передать солдатам необходимые сведения. Так и на этот раз, когда Барановский поручил Степану Петровичу проводить занятия без него, он подошел ко мне и стал показывать, как удобнее всего влезть на лошадь, для чего нужно сделать прыжок на месте и оттолкнуться от земли одновременно двумя ногами. Когда я достиг в этом некоторого совершенства, он показал прыжки на лошадь и на рыси, что оказалось много легче, и, наконец, на манежном галопе. Сначала я дрожал от страха и не мог себе представить, как это можно, вне арены цирка, показывать такие приемы джигитовки. Но потом, поборов свою робость, я осилил с грехом пополам и эту премудрость кавалерийской науки. Штукенберг оказался много храбрее меня и быстро научился обращаться с конем, достигнув в этом даже некоторого изящества и щегольства. Александр Мезенцев давно уже хорошо умел владеть конем, но при этом все его движения были крайне робки и неуверенны, что создавало неправильное о нем представление. Миша Мезенцев страдал больше всех нас, будучи довольно нескладным малым, не обладая ни нужной ловкостью, ни физической силой. Его внешний вид и наружность, носившая болезненный отпечаток, мало располагали к нему начальство, и спасало его от неприятных придирок лишь то, что он был Мезенцев, то есть принадлежал к семье, в которой все мужчины служили в конной артиллерии. Тем не менее, офицеры учебной команды не могли скрыть своей неприязни к этому бедному юноше, который своим кислым видом должен был бы внушать только жалость.
В манежной езде самым большим для меня мученьем были барьеры. На прыжке через барьер строго запрещалось хвататься рукой за луку седла. Это движение делалось совсем непроизвольно, но неизменно вызывало щелканье бича, а также неодобрительное замечание начальства, высказанные довольно брутально. Правовед Кутейников служил вольноопределяющемся в Лейб-гвардии Казачьем полку и рассказывал, что у них в учебной команде за сбитый барьер офицеры штрафуют донцов по 50 копеек. «Ну, мне-то наплевать на штраф. Я ведь богатый», – хихикал Кутейников.
Мой конь Донец брал хорошо барьеры, если я ему не мешал. Но я нервничал, и это передавалось ему. Я не мог попасть в ритм движения лошади и вылетал ей на шею. Лучше всего у меня получалось, когда я вовсе не думал о барьере и о том, чтобы удержаться в седле. Первые прыгуны у нас были Мезенцев Александр и Штукенберг. Надо иметь в виду, что новичками военной службы в учебной команде были только мы, вольноопределяющиеся. Наши товарищи, солдаты, уже служили до команды год в батареях, где и обучались всему тому, что потом проходилось в учебной команде более глубоко и педантично. Поэтому и барьеры для них были знакомы.
Кроме того, не следует забывать, что в учебную команду отбирались из молодых солдат наиболее развитые и ловкие, способные стать позднее младшими командирами. Так что у них было заметное преимущество в службе перед нами. Они уже имели годовой опыт, а мы только начинали осваивать азы кавалерийского и пешего строя.
Пеший строй не представлял бы для нас никакой сложности, если бы не холод и сквозняки. Особого внимания на выправку солдата и хождение в строю у нас не обращалось. Отданию чести и фронту тоже не очень-то много посвящали времени, чем, конечно, мы резко отличались от пехоты.
Как я ни был подготовлен разговорами в Правоведении к своеобразию военной службы, ее обычаям, строгости, все же контраст между штатской идеологией и военной, к тому же гвардейской, был слишком резкий, и моя психика перестраивалась очень медленно. Только надев военный мундир, я понял, что, в сущности, мы в Правоведении абсолютно не знали, что такое военная служба. Наши мальчишеские разговоры касались только внешней стороны этой службы. Мы не представляли себе, что на военной службе ежеминутно могут возникнуть задачи, которые надо тут же самому решать. Понимать и учиться решать эти задачи надо было на ходу. Никаких учителей – как говорить, как ходить, что делать и как делать – у меня не было. Да и обращаться за советом к учителю не было времени. Нужна была сильно развитая интуиция, смекалка, для быстрого решения бесконечно разнообразных вопросов, встающих в ходе общения с солдатами и офицерами и, как правило, являющихся результатом крайне неопределенного нашего служебного положения. К тому же моя природная «людобоязнь», застенчивость и робость очень вредили мне. Я смущался, от смущения терялся и делал ошибки, которые заставляли еще больше смущаться. Таким образом, приходилось учиться на собственных ошибках. Никаких учебников тоже не было. Устав внутренней службы давал ответы только формальные, не вдаваясь в объяснение моментов психологических, социальных и светских.
Запомнился первый мой неудачный дебют, когда я явился впервые на занятия пешего строя. Степан Петрович приветствовал меня ободряюще и предложил встать в строй на левом фланге шеренги солдат. Я встал не вплотную к локтю левофлангового, а на некотором расстоянии. Зайченко подвинул меня, но я опять отодвинулся. Я стоял так, как стояли в строю правоведы. Вошел в манеж поручик Перфильев и поздоровался с командой. Вахмистр доложил ему о появлении в команде вольноопределяющегося. Перфильев спросил меня, как моя фамилия и я, отдав ему честь, назвал себя, он спросил, не брат ли я гродненского гусара? Я отвечал утвердительно, держа руку у козырька, не подозревая, что это противоречит уставу (в строю честь не отдаётся). Между тем, в Правоведении мы отдавали честь, находясь в строю, но я не знал, что там мы были на положении офицеров, а солдатам в строю честь отдавать не следовало. Перфильев отошел от меня, не сделав мне замечания, но только приказал вахмистру заняться со мной. Тут я постиг и эту премудрость, и тогда меня поставили в строй «по ранжиру». Я оказался шестым от левого фланга. Рост мой был 2 аршина 6 вершков. Ниже меня стоял потом Мезенцев Михаил, а немного выше Штукенберг. На правом фланге встал Мезенцев Александр.
Мой рост считался нормой гвардейского солдата. Ниже 2 аршинов и 6 вершков в гвардию попадало очень мало солдат. В лагерях, после учебной команды, в строю 1 батареи, где я служил, я стоял вторым на правом фланге, но по росту должен был бы быть первым. Правофланговый должен хорошо знать все команды и вести за собой всех, стоящих в строю, а на меня начальство, не без основания, не очень надеялось, боясь, что я что-нибудь напутаю.
Зато мне была оказана высокая честь находиться на правом фланге батареи при прохождении ее на «высочайшем» смотру в Царском селе мимо августейшего шефа – Николая II, в мае 1913 года.
Запомнилась любопытная деталь. Сначала было получено распоряжение, что царь будет смотреть батарею в пешем строю. Так как пешим строем у нас никогда особенно не занимались, то начальство страшно перепугалось. До смотра оставалось три дня. Начались усиленные репетиции парада, с прохождением церемониальным маршем мимо командира бригады, генерала Орановского, который злился, кричал и бесновался, видя исключительно расхлябанный, корявый, сумбурный марш наших солдат, совсем не имеющих вида не только гвардии, но даже захудалой армии. Офицеры тоже лезли вон из кожи, чтобы придать нашему строю мало-мальски приличный вид. Наконец, кто-то догадался вызвать трубачей, дело пошло тогда лучше. Все как-то подтянулись. Но все же вид наш был неудовлетворительный. Нам прежде всего не хватало бравой солдатской подтянутости, того безукоризненного изящества движений, которым умеют блеснуть хорошо обученные воинские части. Движение наше в строю не составляло единого гармонического целого, в котором неразличимы отдельные человеческие индивидуальности, а мы были лишь подученные шагать в ногу разные Савченко, Зайченко, Григоренко, Новиковы, Семеновы, Тимофеевы.
Надо заметить, что перед смотром суетилось и волновалось одно только начальство. Солдаты оставались совершенно спокойными. От старшего поколения гвардейских солдат они знали, что бояться царя нечего. «Все равно, как мы ни пройдем перед ним, он скажет нам «спасибо». И стараться не надо и пужаться тоже без надобности». Действительно, не было случая, чтобы Николай выразил на смотре когда-нибудь свое неудовольствие, хотя он, как прирожденный военный, хорошо знал разницу между отличным строем и плохим.
На репетиции парада царя изображал берейтор на рыжей лошади, перед которым мы и проходили, пожирая его, как полагалось, глазами.
Волнения начальства оказались напрасными. Царь смотрел нас в конном строю, без пушек. Вся церемония носила очень будничный вид. Присутствовали лишь все гвардейские начальники, среди которых выделялся толстый генерал с рыжеватой бородкой, в какой-то фантастической форме. На кивере у него был целый букет перьев разной величины, как у принца Мюрата, зятя Наполеона. Генерал очень любовался собой. Это был Сухомлинов, военный министр.
Солдаты оказались правы. Мы получили царское «спасибо», а по окончании парада царь поздравил командира Конной артиллерии с зачислением в царскую свиту, что давало ему придворное звание и право именоваться «свиты генерал-майор Орановский». Это почетное звание распространялось только на первый генеральский чин – «генерал-майора». При производстве в генерал-лейтенанты свитские вензеля с погон и аксельбанты снимались. Генерал-лейтенанты получали другое, высшее придворное звание: генерал-адъютанта.
В последние годы перед Революцией царь очень легко жаловал командиров гвардейских полков и их адъютантов в свою свиту. Вошло почти в закон, что посещая какой-нибудь полк, царь непременно давал свитские аксельбанты командиру и адъютанту. Если этого не случалось, то общественное мнение терялось в догадках и объяснениях, – чем было вызвано поведение царя в данном случае? Поэтому, при выборе себе адъютанта, командиры всегда имели в виду возможность его назначения в свиту. Выбирались всегда офицеры более родовитые, более светские. Назначение в свиту командира и адъютанта рассматривалось обычно не как личная их награда, а как честь, оказываемая царем всему полку. Вот почему никто не сомневался, что после награждения Орановского (общее мнение: совершенно незаслуженного), царь, посетив Конную артиллерию, даст свои вензеля и адъютанту, А.П. Саблину. Этого не случилось.
Никто не мог понять причину такой несправедливости. Конечно, в жизни конной артиллерии было много такого, за что ее нельзя было гладить по головке, – я надеюсь об этом написать дальше. Но раз уж Орановский – этот тупой, недалекий командир и фатальный неудачник был награжден, то, казалось, не было основания для того, чтобы обижать Саблина. Надо думать, что здесь действовали какие-то скрытые и влиятельные силы. Награждая Орановского, Николай проявил свою волю самодержца. Этот акт мог очень не понравиться великим князьям Николаю Николаевичу (начальнику гвардии), Сергею Михайловичу (генерал-инспектору артиллерии, конно-артиллеристу) и Андрею Владимировичу, ожидавшему назначения командиром Конной артиллерии. Они могли протестовать против награждения Конной артиллерии почетными отличиями. Но получилось так, что за грехи Орановского был наказан Саблин.
Интересно отметить, что Александр III давал придворные звания чрезвычайно скупо. За пятнадцать лет своего царствования он сделал только трех камергеров (в том числе Акимова).
При взгляде на большинство солдат гвардейских полков – каких-нибудь Семеновцев, Преображенцев или Кавалергардов – трудно было бы не отметить их необычайной картинности, щеголеватой подтянутости и внешней привлекательности, – хоть с каждого пиши портрет.
Между тем наши конно-артиллеристы не могли похвастаться ни доблестным солдатским видом, ни красотою. Они были, за редким исключением, достаточно мешковаты и корявы. (О том, как пополнялись наши батареи солдатами, см. дальше).
…Несколько труднее давалось нам гимнастика на снарядах. Вольные движения с палками проходили легко. А вот злосчастная «кобыла» и прыжки с шестом нас донимали крепко. «Кобылу» мужественно перепрыгивал Штукенберг. Мезенцев и я мучились на ней. Но самыми тяжелыми были турник и кольца. Больше двух раз я притянуться на кольцах не мог. Но вот однажды, когда начальник команды Линевич вдруг вызвал на занятия пешего строя трубачей, произошло чудо. Под четкий ритм вальса все делалось несравнимо легче, и на кольцах я совсем свободно подтянулся четыре раза! Тут-то я впервые постиг громадное значение музыки. Другой раз я это испытал при переходе из Павловска в Царское село (три версты), когда мы шли на «высочайший смотр». Этот марш, благодаря трубачам, мы сделали шутя, совсем незаметно. В конных занятиях очень большое значение имело, на какой лошади приходилось ездить. Меня выручали необыкновенный ум моего коня Донца и его знание строевой службы. Мне не надо было им управлять, он сам, по своей инициативе, выполнял все команды. Мои товарищи смеялись надо мной и спрашивали, что я буду делать, если Донец захромает или его отдадут кому-нибудь другому. Смеялись и над тем, что я не знал Донца «в лицо».
Действительно, если около Донца не было моего рехмета Соловьева, то я никогда не мог его найти в общей массе лошадей. То, что мне бывало от этого очень стыдно, ничего не меняло. У меня ужасная память на лица, как людей, так и животных. Я бывал поражен, когда Александр Мезенцев мог назвать по именам и показать всех лошадей нашей команды.