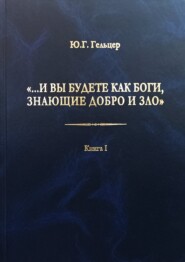скачать книгу бесплатно
Отличие же человека заключается в том, что это более сложная и совершенная система жизни и действия. Значительные или незначительные, но качественные изменения во многих компонентах физиологической функциональности породили существо, резко выделяющееся из животного мира.
Изменение гортани позволило производить значительное разнообразие членораздельных звуков, в конечном итоге породившее речь. Животный мир знает звуковые знаки, команды, но речь – это качественно иное сообщение смыслов. И это также первый носитель информации, памяти, знаний. Это первый способ накапливать некий опыт, полученный не только через гены и подражание, и передавать его другим, в том числе и новому поколению.
Прямохождение высвободило руки. Оно изменило функцию глаз, кровообращение, дыхание, пищеварение, но главное здесь все-таки руки. Педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста, знают, что развитие моторики рук имеет прямое воздействие на работу мозга. Высвобождение рук позволило человеку вооружиться и перейти к трудовой деятельности.
Качественно изменилась деятельность мозга. Это качественное изменение можно выразить следующими словами: огромный потенциал обучаемости. Этот потенциал формируется и объемом памяти, и способностью мыслить абстрактно, создавать мир фантазий – понятий и образов, не имеющихся в природе. Ключевым достижением мозга является способность ставить цели и логически формулировать средства их достижения. Обретение этой функции сделало человека маленьким богом на Земле. Идеальное в сознании стало предвосхищать материальное.
Взросление человеческого детеныша по времени многократно превышает взросление любого животного. Человеческий детеныш рождается как бы недоношенным. С одной стороны, это объясняется чисто физиологически – большой объем мозга делает большой голову ребенка, и детородные пути женщины не в состоянии обеспечить прохождение через них более взрослого детеныша. Но время взросления определяет минимальный срок обучения, ограничивая дееспособность человека. И это тоже значимый фактор. Физические способности человека не должны опережать его умственного развития. Когда нарушается этот закон, мы чаще всего получаем бандита.
И здесь мы сталкиваемся с еще одним существенным отличием человека от животного – с его качественно иной агрессивностью.
Агрессивность человека значительно превосходит то, что нам известно о животном мире. Животные одного вида практически никогда не убивают и не калечат себе подобных. Если такое происходит, например, лев в новом прайде убивает чужих детенышей-самцов, то это происходит в силу обеспечения устойчивости развития стаи (стада, прайда) и продолжения своей родословной (естественный отбор). И лишь человек может убивать себе подобных из корыстных побуждений, для решения межличностных противоречий, из национальных или религиозных убеждений, как каннибал или маньяк. В то же время человеческая агрессия становится одним из основных факторов общественного развития. Идеи, превращаясь в политику, обретают концентрированный уровень агрессии. Все войны и революции основаны на возбуждении человеческой агрессии. Без агрессии не было бы революционеров, героев и вождей (вспомним хотя бы В. Высоцкого: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!»).
Нейтрализация агрессии достигается тремя способами: либо ответной агрессией (на короткий промежуток времени), либо воспитанием в народе морали и нравственности (на длительную перспективу), либо соответствующей организацией общества, позволяющей разрешать социальные и межличностные противоречия ненасильственно, путем договоренностей (на всю перспективу бытия общества).
Чувства, эмоции, способность к самооценке, выработка самих критериев оценки – свойства сугубо человеческие, недоступные в своей совокупности животному миру.
Со временем человек вырабатывает в себе, в общественном сознании понимание гуманизма. Но здесь его подстерегает другая беда. Гуманизм, безудержно педалируемый правозащитниками и политиками, легко перерастает в ложный гуманизм, под которым мы понимаем приоритет гуманных действий в отношении отдельных личностей в ущерб гуманности относительно общества в целом.
Увлекаясь с юношеских лет романами об исторических личностях, в одной из книг об Александре Васильевиче Суворове меня поразил параграф о его гуманизме. Гуманизм генералиссимуса, выигравшего сто кровавых сражений? Одним из веских аргументов которого в этих сражениях была безжалостная штыковая атака?
Но вот что пишет об этом в книге «Суворов» А. Богданов: «Для Александра Васильевича потеря в самом жестком бою больше одного процента личного состава – катастрофа, причина страшных разносов ответственным командирам, повод для основательного разбора причин такого человекогубительства. Но и потери противника свыше пяти процентов его войск – жестокость, которую можно оправдать только в самом крайнем случае. Победы не измеряются у него масштабом убийств…»[13 - Богданов А. П. Суворов. М.: Вече, 2014. С. 432.]
И в другом месте: «Нельзя убивать врага иначе, чем в бою. Нельзя оскорблять врага, особенно безоружного. Категорически нельзя обижать мирное население, не важно – свое или чужое. Невозможно нарушить слово. Нельзя атаковать противника с целью его уничтожения: надо лишить врага способности к сопротивлению максимально бескровными методами, сведя число жертв войны к самому малому. Кровожадность, жестокость, террор – немыслимы, они лежат за пределами суворовского сознания. Нельзя воевать, руководствуясь ненавистью, а не стремлением, сразив противника вначале оружием, а потом милосердием, установить с ним добрый, и справедливый, и прочный мир»[14 - Там же. С. 431.].
Квинтэссенция суворовского гуманизма – умение быстро прекращать войны.
Иное мы наблюдаем сегодня. Постоянное использование двойных стандартов, справедливые, а зачастую и не очень, вопли о чрезмерном, непропорциональном применении силы, о жертвах среди мирного населения растягивают войны на десятилетия. Вместо того чтобы быстро уничтожить агрессора, спасти население от политиков, развязавших войну, ограничившись десятками или сотнями жертв, в этих войнах гибнут тысячи, а то и миллионы ни в чем не повинных людей.
Но прежде всего, войны современности продиктованы нежеланием и неумением сверхдержав договариваться между собой. Борьба против «плохого парня» (диктатора какой-нибудь периферийной страны) становится борьбой с народом целого государства. При этом другая сторона знает, что этот парень – «сукин сын». Но поскольку он – «свой сукин сын», она готова финансировать его, поставлять ему оружие, защищать своими солдатами. Кроме того, уничтожение страны сопровождается призывами к гуманизму с обеих противоборствующих сторон. Согласованные же действия сверхдержав могли бы превратить отстранение диктаторов от власти в чисто техническую проблему при соблюдении экономических и политических интересов договаривающихся сторон.
Интересно в этом отношении привести наблюдения известного эксперта в вопросах войны и мира Эдварда Н. Люттвака: «У постоянных членов Совета безопасности ООН вошло в привычку резко обрывать сражения малых государств, навязывая им прекращение огня. Если за ним не следует прямое дипломатическое вмешательство с целью провести мирные переговоры (выделено мною. При этом можно вести бессмысленные и бесконечные переговоры типа Минских соглашений по Донбассу. – Ю. Г.), оно лишь позволяет избавиться от истощения, вызванного войной, способствуя перестройке и перевооружению воюющих сторон, тем самым раздувая и продлевая войну после того, как срок прекращения огня закончится»[15 - Люттвак Э. Н. Стратегия: Ложка войны и мира. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2012. С. 85–86.]. Так было в 1948–1949 годах во время арабо-израильского конфликта, в Югославии после ее распада, на Украине в 2014 году. Люттвак приводит также примеры, когда деятельность Агентства ООН по оказанию помощи беженцам (United Nations Relief and Works Agency, UNRWA), а также неправительственных благотворительных организаций (НПО) под прикрытием гуманной заботы о беженцах десятилетиями искусственно поддерживает состояние военной напряженности в различных точках мира. В результате войны растягиваются на десятилетия, принося большие бедствия, в том числе и благодаря самим этим бедствиям.
В целом агрессия – чрезвычайно важный элемент человеческой природы. Со временем она перерождается в дерзновения, в способность к самопожертвованию. Люди, открывшие Америку, покорившие Северный и Южный полюса, освоившие космос и побывавшие на Луне, никогда не достигли бы своих побед, не имея в себе таких качеств.
В противовес агрессии человек наделен также чувством любви. Не любви между мужчиной и женщиной, хотя и ею тоже, а любви в понимании служения другим. Это чувство сложнее чувства агрессии. Последнее часто самопроизвольно, неуправляемо. Сдерживание агрессии требует работы над собой. И эта работа, как правило, в значительной степени сопряжена с воспитанием в себе чувства любви, подавляющего, через осознание бесперспективности, чувство гнева.
Рассматривая человека исторически, но без привязки к какой-либо хронологии, следует отметить еще одну его важную особенность: веру в Бога или в более могущественные силы, стоящие над ним.
Атеисты зачастую пытаются трактовать веру в Бога как попытку профанного сознания объяснить чем-то сверхъестественным то, что этому сознанию непонятно. Однако если внимательно присмотреться к основным вероучениям, то выясняется, что эта проблема данные учения безусловно интересует, но не занимает в них главного места.
Главное в них заключается в том, что человек признает себя существом далеко не совершенным, и прежде всего несовершенным нравственно (греховным). Но тогда должны существовать нормы нравственности и законы морали. И они прописаны в этих вероучениях. Богу же отводится роль Всевидящего Ока и Судьи поведения людей.
В данный момент мы не рассматриваем вопрос о правомерности или ошибочности верований. Мы говорим лишь об особенностях человека, отличающих его от других представителей животного мира. Воинствующие атеисты могут увидеть в этом оскорбление своей личности, считая, что отсутствие веры мы рассматриваем как некую тезу о недочеловеке. Спешу их успокоить. Во-первых, я убежден, что атеистов в чистом виде не бывает, во всяком случае, на войне – как утверждает народная мудрость. Во-вторых, атеизм сегодня – это та же самая вера, только наоборот – вера в то, что ничего Высшего над человеком не существует. В этом случае меняется лишь то, что общество атеистов создает свой моральный кодекс, типа морального кодекса строителей коммунизма, которому пытается соответствовать, либо придерживается религиозных заповедей, господствующих в обществе, в котором они живут.
Важной характеристикой человека является его приверженность к зрелищам и игре. Созерцание и наблюдение за природой стало не только предметом сбора эмпирических данных о ее закономерностях, но и развивало эстетические чувства, недоступные для животных. В дальнейшем это нашло отражение в живописи, других видах изобразительного искусства, в архитектуре, поэзии.
Игры свойственны и животным, особенно в детском возрасте, и являются частью их обучения. Для человека игра становится частью его жизни. Где-то она перерастает в спорт, соревнование, где-то – в театр. В игру превращается карьерный рост, накопление богатства – в игру на бирже, в игру на тотализаторе. Человек таким образом проигрывает (в смысле моделирует) свои встречи с партнерами, соперниками, возлюбленными. Телевизор, компьютер, спортивные зрелища, ролевые игры занимают значительную часть жизни любого современного человека.
Во второй главе данной книги мы рассматриваем вопрос о том, что нас объединяет и разъединяет. Мы не стали выделять в ней параграф об играх, хотя не отрицаем их безусловной значимости. Поэтому остановимся здесь на этом вопросе чуть повнимательнее.
Нейробиолог и приматолог Роберт Сапольски в своей книге «Биология добра и зла», к которой мы будем обращаться неоднократно, пишет: «Что означает для детей (впрочем, как и для взрослых. – Ю. Г.) социальная игра? Пишем большими буквами: НАБОР ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. Напишем среднего размера шрифтом: ФРАГМЕНТЫ БУДУЩЕГО ВЗРОСЛОГО ПОВЕДЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ РАЗНЫЕ РОЛИ И УЛУЧШИТЬ МОТОРНЫЕ НАВЫКИ. Теперь маленькими буквами, с учетом эндокринологии: ИСПЫТАТЬ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ, ЧТО СРЕДНИЙ, БЫСТРОПРОХОДЯЩИЙ СТРЕСС, ТО ЕСТЬ СТИМУЛЯЦИЯ, – ЭТО НЕПЛОХО. И с учетом нейробиологии, тоже мелким шрифтом: С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА СИСТЕМА РЕШАЕТ, ОТ КАКИХ ИЗБЫТОЧНЫХ СИНАПСОВ МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ»[16 - Сапольски Р. Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. С. 187.].
Историк Йохан Хейзинга вообще охарактеризовал человечество как Homo ludens, «человека играющего», то есть всю жизнь играющего по определенным правилам.
Игра позволяет перевести свою агрессию в спортивные или интеллектуальные состязания. Проявить свой национальный или государственный патриотизм, сохраняя при этом дружественное отношение к сопернику. Она позволяет собрать противоборствующие стороны под одной крышей стадиона или усадить их перед экранами телевизоров. Во время греческих Олимпиад прекращались все войны.
Игра в театре или в кино позволяет перевоплотиться и почувствовать себя другим. Но чтобы почувствовать себя самим собой, нам тоже зачастую приходится прибегать к психологическим играм. В игре мы начинаем думать не только за себя, но и за соперника, пытаясь предугадать его действия. При этом Р. Сапольски утверждает, что противоположностью игры является не работа, а депрессия.
Есть и более мелкие детали человеческих отличий от животного мира. Скажем, например, полное отсутствие на теле человека волосяного покрова. Исторически это привело не только к понятиям наготы и стыдливости, но и к потребности в одежде (еще одно отличие).
Тот же Р. Сапольски указывает на еще одну особенность человека, не имеющую аналогов в животном мире. Нейробиолог описывает влияние награды за тот или иной поступок на поведение животных. Особенно если эта награда отсрочена на какое-то время. «Во всех экспериментах с отсрочкой награды ее отодвигают на несколько секунд или около того. И хотя дофаминовая система единообразна для всех видов, у человека она обрела одно новое свойство – мы способны откладывать удовольствие на невероятно долгое время. Ни одна мартышка не станет целый год ограничивать себя в еде и считать калории, чтобы следующим летом выглядеть сногсшибательно в новом купальнике. Ни одна белка не станет с детства работать изо всех сил, чтобы в школе получать отличные оценки, а потом с их помощью попасть в хороший колледж и институт с перспективой на карьеру и устроенный дом. Но и это еще не всё – мы мастера беспримерных отсрочек: мы включаем дофаминовую мощь радости для получения награды уже после смерти! В зависимости от культурных традиций такой наградой может стать победа родной страны в войне, в которой наша героическая смерть сыграет определенную роль, или получение хорошего наследства нашими детьми после нашей кончины, или гарантия загробного рая. Только мы со своей сверхспособностью откладывать награду можем волноваться о температуре на планете в том отдаленном будущем, когда будут жить наши правнуки. В действительности пока неизвестно, что за механизм срабатывает в этих случаях у нас, у людей. Хоть нас можно считать и животными, и млекопитающими, и приматами или человекообразными обезьянами, но в любом случае мы совершенно уникальны»[17 - Сапольски Р. Биология добра и зла… С. 73–74.].
Перечисленные отличия человека от животных категорически изменили поведение человека, превратив его в деятельность. Человек накопил знания, технически вооружился. Шаг за шагом окружающая среда из места обитания стала превращаться в объект его деятельности, подвергаясь преобразованиям. С ростом создаваемого богатства на биологическую неравноценность каждого индивида налагалось социальное неравенство, выражающееся не только в обладании разной собственностью, но и в иерархии человеческих взаимоотношений.
Биологическое вообще отступило на задний план, сделав социальное определяющим в человеческом бытии. Материальное неравенство наложилось на расовые, национальные и религиозные различия. В совокупности своей взаимоотношения, разрешающие перечисленные противоречия, и образуют общественные отношения. Конечно, это не полный их перечень. Полнота его достигается добавлением к этому списку созидательной деятельности и всегда имеющийся у людей в наличии целевой характер.
Человек отличается от других животных не одним или несколькими факторами, он отличается от них системно. Если мы вернемся к каждому из перечисленных факторов человеческого отличия, то увидим, что ни один из них не реализуется вне общества и не находя в нем своего отражения. Более того, по мере консолидации общества человек как личность вынужден делегировать ему часть своих прав по управлению и обеспечению своей безопасности. Человек – это не общественное животное. Человек – это член того или иного общественного конгломерата, имеющий в качестве жизненной основы биологическое происхождение, качественно выделяющее его из животного мира, а в качестве своей деятельности – общественное предназначение. Человек сам, конечно, выбирает, да и то не всегда, направление своей деятельности, но этот выбор определен конечным перечнем общественных потребностей.
Общество как таковое образует качественно новую системную целостность. Системообразующим фактором социума является целевой характер развития. Он формируется в столкновении с природой и другими социумами. По мере его осознания, в свою очередь, формируются в той или иной степени целевые установки для каждого человека. В этом смысле человек имеет еще одно отличие от животного – развитие его личности обретает общественную значимость, и во многом зависит от социума, в котором это развитие происходит.
Одной из задач нашего исследования как раз и является выявление направленности этого развития и его движущих сил.
Итак, мы можем попытаться сформулировать некоторое наше понимание категории «общество»: это объективно необходимая, а потому общепринятая форма существования людей, объединенных исторически сложившимися территорией, совместной деятельностью, всегда имеющей целевое назначение, общей безопасностью проживания, разнообразием культур, языков, религий, социальным неравенством, которые не только являются причинами общественных раздоров, но и необходимыми элементами для сотрудничества и развития.
Мы сегодня переживаем период образования мирового сообщества как некоего целого. Процесс идет сложно, порой болезненно и противоречиво. Но это одна из главных особенностей, которую мир будет переживать в течение всего XXI века. Интуитивно люди будут болезненно воспринимать это как политические, экономические и религиозные кризисы. Изменения могут носить столь глубинный характер, что психология человека, многие его культурные представления могут оказаться не готовыми принять эти потрясения. Минимизировать негатив возможно только научным прогнозированием изменений и правильными политическими решениями. Мы будем рады, если наша книга внесет в эту задачу хоть малую толику помощи.
Сегодня мировое сообщество весьма структурировано прежде всего государственными и этническими границами. Исследованию таких структур и посвящена значительная часть этой книги.
§ 2. Общество и основной вопрос философии
Свою философскую теорию мы называем философией продвинутого материализма и ограниченной диалектики. В настоящем разделе разговор пойдет в основном о материи и сознании. И если при этом не рассматривать другие философские проблемы, то для читателя останется загадкой, а при чем тут ограниченная диалектика. Ссылка на мою уже упомянутую выше книгу по экономике («Основы предсказуемой экономики…»), где также рассматриваются эти вопросы, для многих может оказаться бесполезной в силу отсутствия ее текста в интернете или создаст для них определенные трудности в поиске самой книги. Поэтому считаю целесообразным кратко изложить свое видение данного вопроса в начале этого параграфа.
ХХ век выявил по крайней мере два параметра границ бытия: 1) движение материи ограничено скоростью света; и 2) температура физических тел не может быть ниже абсолютного нуля. Кроме того, любой материальный объект имеет свой жизненный цикл, то есть существует точка зарождения объекта и точка прекращения его существования. И если наше мироздание образовалось в результате Большого взрыва, то и закончит оно свое существование неким Большим сжатием. Пульсация мироздания может свидетельствовать о том, что оно всегда имеет свои пространственные границы и границы своего существования во времени. Гегель назвал метафизическую бесконечность «дурной бесконечностью». Мы же утверждаем, что и бесконечность диалектического материализма так же порочна, как и метафизическая. В этом смысле следует признать порочными и утверждения типа «неисчерпаемости атома» или любых квантовых элементов. Все это бездоказательные гипотезы, вводящие человечество в заблуждение и уводящие от решения конкретных практических задач.
Мир не только конечен, но и достаточно устойчив. Это явление в науке называется гомеостазом. Любая система формируется, а потом находится в рамках определенных констант, которые она бережно сохраняет. Причинно-следственные связи делятся на прямые и обратные. Прямые образуют «порочный круг», который способен уничтожить систему, в которой они образуются. Поэтому в системах преобладают обратные связи, гасящие действие прямых и противодействующие их образованию.
Наложение ограничений на диалектические воззрения позволяет реалистичнее смотреть на мир, или, точнее, способствует развитию этих взглядов. Но прежде всего, мною сформулирован следующий закон материальных систем:
Любая система формирует количественные ограничения, обеспечивая тем самым свой гомеостаз, характеризующий сущность самой системы в период ее жизненного цикла между возникновением («взрослением») и разрушением («умиранием»). Сохранение количественных констант есть способ «защиты» системой своего существования. Константы «запрещают» (создают обратные связи) элементам системы, отдельным ее структурам нарушать системообразующие пропорции, «запрещают» (путем образования обратных связей) их гипертрофированное развитие, образование своего рода «раковых опухолей». Отсутствие таких констант приводит к неизбежной смерти системы. Нарушение этих констант порождает неизбежный системный кризис.
Мной вновь рассмотрены три диалектических закона, выведенные классиками марксизма. Закон перехода количественных изменений в качественные у нас преобразуется в закон количественных и качественных преобразований материальных систем. Действие этого закона мы рассмотрим подробно в дальнейшем при изложении проблем материи и развития.
Закон отрицание отрицания не рассматривается нами как цикл триад. Это воззрение вообще достаточно ошибочно. Появление растения из зерна не есть отрицание зерна. Это есть реализация генетического кода, заложенного в зерне, программы, определяющей его развитие. Отрицание происходит только на заключительной стадии, когда появляются новые зерна, способные давать новую жизнь, независимую от старого, отжившего растения. Отрицание всегда носит форму флуктуации. Эволюция же предстает как последовательная череда отрицаний, череда новых и новых развитий, сменяющих друг друга флуктуационных (подобных) систем. Это есть закон развития через отрицание.
Закон единства и борьбы противоположностей должен восприниматься не иначе как через целостность системных отношений. В реальной системе все ее элементы находятся в состоянии содействия достижению цели. Это требует от каждого элемента готовности ограничить свою степень свободы для реализации общего эффекта системы. Борьба противоположностей в большинстве случаев выступает не более как противоречия, которые мы разделили на три категории:
1) противоречия, возникающие в результате функционирования и развития систем, разрешение которых не угрожает самой системе и способствует ее движению к цели;
2) противоречия, которые требуют модернизации системы за счет изменения существующих взаимосвязей, структур, элементов, не нарушая при этом существенных основ самой системы;
3) противоречия, несовместимые с существованием данной системы. Появление и нарастание последних порождает кризисы системы, что частично или полностью парализует ее функционирование, приводит ее к краху и преобразованию в новую систему.
В такой интерпретации закон единства и борьбы противоположностей скорее должен называться законом единства противоположностей и противоречивости развития. Именно в этой интерпретации становится понятно, почему фактор единства превалирует над борьбой, обеспечивая развитие.
На основе открытий, сделанных Луи Пастером и Пьером Кюри, показано, что появляется возможность более полного рассмотрения онтологии противоречий. Что большинство противоречий носит характер либо симметрии, либо асимметрии энантиоморфного характера, то есть симметрии зеркального отражения, скажем, симметрии человеческого тела, когда правую и левую его части невозможно совместить в одной плоскости никакими поворотами в трех плоскостях вследствие различной пространственной ориентации. Такое единство Пьер Кюри сравнивает с математическим уравнением, когда преобразование в одной части уравнения влечет за собой соответствующие изменения в другой.
Это открытие сегодня широко используется в экономике, когда путем манипуляций с денежной массой достигаются изменения в производстве продукции. Экономика XIX века знала только обратный процесс.
Надо отличать взаимодействие противоположностей от противоречий. Последние, на наш взгляд, носят исключительно социальный характер. Как правило, взаимодействия противоположностей происходят не напрямую, а опосредованно. Так, у человека и животных это происходит через нервную систему и функции мозга.
В социальной сфере противоположности могут обладать свойствами трисимметрии. Это обнаруживается, когда противоречия снимаются путем изменения количественных пропорций взаимодействующих сторон (обмен товаров) или изменения социальных условий в пользу одной из сторон (наделение дополнительными правами). Именно поэтому многие противоречия неустранимы путем исключительного взаимодействия противоборствующих сторон. Например, борьба полиции с бандитами или наркоконтроля с наркодилерами может привести к такому единству (что сегодня возникает повсеместно), когда уже невозможно отличить, где первые, а где вторые. Такие противоречия устраняются только, скажем так, окольными путями, с привлечением дополнительных сторон.
Понимание противоречивости социальной жизни дает некоторый ключ к пониманию взаимодействия Добра и Зла, но лишь до определенной степени. Последние понятия – более сложные и концентрированные, что мы и покажем в дальнейшем.
Таков наш краткий обзор, позволяющий нам говорить об ограничениях диалектики, отсутствующих в диалектическом материализме марксистского толка.
а) В чем заключается первичность в рамках основного вопроса философии
Основной вопрос философии имеет непосредственное отношение к вопросу развития общества. Однако прежде чем перейти к этой взаимосвязи, нам хотелось бы критически рассмотреть само понимание основного вопроса.
Философия понимает эту проблему как вопрос первичности: что первично – материя или сознание. Другая трактовка основного вопроса касается соотношения бытия и духа. Точнее, вторая трактовка, на наш взгляд, и является основным вопросом философии и касается она следующей проблемы: развивается ли мир самостоятельно, или существуют некие силы вмешательства в этот процесс. Начнем же с материи и сознания и понимания первичности. С позиций материалистов первичность заключается в следующем:
1) материальный мир существует объективно, независимо от нашего сознания;
2) сознание есть свойство высокоорганизованной материи, продукт социального развития. При этом онтологически материя выступает как объективная реальность, а сознание – как реальность субъективная;
3) сознание есть отражение действительности – истинное или превратное. Этим оно отличается от материи гносеологически. В этой двойственности выражается его субъективизм;
4) на сегодняшний день науке известна лишь одна форма сознания – та, которую продуцирует мозг. Хотя современная наука предполагает, что в мыслительном процессе принимает участие более широкий спектр человеческих органов.
Однако все более или менее развитые страны работают над проблемой создания искусственного интеллекта (ИИ). Сама по себе теоретическая постановка вопроса о возможности создания ИИ должна была бы повергнуть материалистическое мировоззрение в куда больший шок, чем обнаружение сложного строения атома, поскольку возникает прецедент (пока только, правда, потенциальный) возможности сознательной деятельности иными средствами, нежели человеческий мозг или мозг другого живого существа. Конечно, сам по себе этот факт еще ничего не доказывает, но он позволяет делать вполне обоснованные гипотезы более широкого характера.
При этом материалистами не отрицается факт, что сознание не ограничивается свойствами отражения, но имеет и способность формировать отношение к действительности, а также выделяются теоретические способности сознания: «Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю»[18 - Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика политической экономии // Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. С. 189.].
Однако давайте остановимся и задумаемся над таким вопросом: а не является ли последняя цитата опровержением первого постулата материалистов о первичности материального мира? Пусть не в масштабах Вселенной, а лишь в сфере культурной и производственной деятельности человека. Где же тут независимость от сознания, когда и сам человек, и предметы его труда, а также получаемый продукт подчинены идеальной цели, которая действует как закон?
Этот момент принципиален постольку, поскольку один из принципов Общей теории систем гласит: если какая-либо теория неверна хотя бы в одном своем постулате, то она неверна в принципе и не может быть признана истиной.
Что нам могут возразить? Могут сказать, мол, целенаправленное воздействие на материю не отменяет ее объективности существования. Она как была до воздействия на нее человека, так и осталась неизменной. Преобразовалась только ее форма или химический состав, или изменились ее физические параметры. Но и последнего признания нам достаточно, чтобы утверждать, что существует некое поле взаимодействия материи и сознания, при котором сознание выступает фактором причинности.
Итак, первичность предполагает установление причинно-следственной связи между двумя объектами исследования. При этом оба объекта в своей совокупности представляют определенную целостность, формирующую наше мировоззрение. Пока из достаточно беглого нашего взгляда просматривается тот факт, что первичность в этом вопросе (объективное существование материи независимо от сознания) не исключает вторичности положения материи в процессе ее преобразования со стороны человека.
Однако, чтобы разобраться в этом вопросе досконально, нам необходимо разобраться с самими категориями «материя» и «сознание».
б) Материя
Беда в том, что мы до сих пор не имеем четкого понимания, что такое материя. Ленинское определение, вдалбливавшееся нам на «диамате», – «философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них…»[19 - Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 18. М: Госполитиздат, 1958–1965. С. 131.] – весьма спекулятивное, если не сказать больше, что от него веет неким шарлатанством. Я даже не говорю о том, что наши ощущения – весьма примитивный аппарат регистрации, а иногда и обманчивый. Кроме того, эта формула вполне приемлема не только для материалистов, но и для субъективных идеалистов, поскольку существование «независимо от них», то есть от органов чувств, не поддается проверке. Остается только поверить Ленину на слово, но для науки это неприемлемо. Отсюда этот субъективный идеалист может сделать вывод, что материя, мир существует только в нашем восприятии через эти самые органы чувств. Если полностью довериться чувствам, то и внутренний мир фантазий, и виртуальный мир компьютерной техники можно признать объективной реальностью. Самое главное, в этом определении нет и попытки описать сущность материи. Она остается такой же тайной, как и была до этой формулировки.
Открытие физиками начала ХХ века, что атом не является элементарной частицей материи, породило определенный кризис в самой физике и философии. Старые теории не объясняли новых открытий, а новых теорий еще не появилось. В науке такие явления случаются сплошь и рядом, но эти события породили какой-то особенный ажиотаж. Ученый мир, не без основания, интуитивно, усмотрел в этом необходимость пересмотра мировоззренческих теорий. Требовалось время, чтобы собрать новую информацию из появившихся условий, сформировать новую философию.
Сегодня всем очевидно, что структура материи намного сложнее, чем это виделось науке до ХХ века. Безусловно, что электроны, протоны, нейтроны, волны, поля, кванты и бозоны когда-нибудь будут сведены физиками в единую систему, которая даст нам описание не только элементарных составляющих некоего целого, под которым и следует понимать материю, но она опишет также взаимосвязи и взаимопереходы между этими элементами. В этом смысле тезис, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна…»[20 - Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. С. 277.] – верен лишь в том, что познание действительно не имеет границ, но он не верен в том смысле, что состав элементарных частиц – явление бесконечное. Оно конечно, так же как и набор их в составе материи. Более того, в своей совокупности этот набор должен формировать определенную систему, но не мертвую, а систему со своими взаимосвязями и переходами. При этом мы не исключаем возможности существования сверхквантовой физики, природу которой мы не в состоянии зафиксировать современными приборами. Более того, в качестве гипотезы выскажем мысль, что именно в сверхквантовой физике скрыт ключ к пониманию сознания и того, что в идеалистической философии и религии принято называть Духом, Душой, Абсолютным разумом.
Свою беспомощность в попытках сформулировать понятие «материи» философы пытаются завуалировать следующими идиомами: «Нельзя забывать, что понятия идеального и материального всего лишь абстракция, более или менее адекватно приложимые к самой действительности»[21 - Налетов И. З. Философия: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 249.].
Но тут уже затрагивается проблема всей философской науки. Сегодня философия перенасыщена всякого рода абстракциями, не имеющими конкретного содержания, без каких-либо перспектив это исправить. Таким образом, утрачивается всякая значимость философии как науки. Научность философии значима только тогда, когда она способна трансцендентально сформулировать перспективу поиска в других отраслях научной сферы (физике, химии, социологии, экономике и т. д.). В противном случае все эти абстракции не более чем зарядка для бесцельных упражнений мозга. Совершенно не случайно сегодня в среде ученых возникают такие убеждения: «…Философскую литературу могут читать и понимать теперь только сами философы, реального влияния на жизнь она фактически не оказывает»[22 - Новиков Ю. В. Добро и зло – выбор длиною в жизнь. М.: Феникс, 2005. Формат: PDF. С. 40.].
Поэтому вопрос о материи – это вопрос не просто о некой субстанции, а вопрос о ее элементном составе и о формах и способах движения, взаимодействия и преобразования этих элементарных частиц.
Таким образом, под материей нами понимается некая неоднородная субстанция, на основе которой существует всё мироздание. Эта субстанция представляет собой конечный набор элементарных частиц и энергий, в своей совокупности образующих целостную систему. При этом элементарный состав существует не сам по себе, а в тесной взаимосвязи между собой и постоянным преобразованием, формируя различные структуры. Эти процессы происходят под воздействием различного уровня закономерностей, присущих природе, самой материи, чем и обеспечивается организационная стройность мироздания.
Однако такое видение не исключает возможности определенных преобразований материи под воздействием сознания человека или других форм сознания, еще нам неведомых.
Системное описание материи на самом деле существует с XIX века, изменяясь исторически в зависимости от глубины ее познания. Такое описание дано Д. И. Менделеевым в его периодической таблице химических элементов. В дальнейшем его таблица расширялась как вниз, с добавлением новых элементов, так и «вверх» – в понимании строения атома и квантовой механики. ХХ век показал сложность атомного строения и неоднородность атомов, зародились квантовая физика, физика поля. Попытки сформулировать «теорию всего» есть не что иное, как попытки дать описательные рамки материи. Нет сомнений, что XXI век расширит горизонты нашего понимания в этом вопросе.
в) Сознание и его структура
Онтологически сознание есть свойство высокоорганизованной материи, продукт социального развития и необходимый атрибут этого развития. В этом плане сознание само выступает как определенный вид движущейся материи. Но гносеологически мы отграничиваем его. Это необходимо сделать, чтобы разделить объективно существующий мир и отражение его в нашем сознании, которое может быть истинным, искаженным или совершенно превратным. Поступая так, мы ни в коей мере не нарушаем целостности мира.
Вообще сознание сложно понять и охарактеризовать, не рассмотрев его структуру. Понимание структуры во многом нами почерпнуто из ведического и буддийского учений, но при этом мы постарались очистить свое изложение от теологических воззрений, основанных на вере, привнести в него диалектику и дополнить современными знаниями нейробиологии.
В европейской философии сознание воспринимается как некое единое целое, как некий резервуар, наполненный мыслями, отражающими с той или иной степенью адекватности объективную реальность. С позиций восточных религий и с позиции автора этих строк такой взгляд выглядит достаточно примитивным.
Во-первых, существует индивидуальное сознание и сознание общественное. Они находятся в тесном взаимодействии и единстве, но и в постоянном противоречии и борьбе, содержательно влияя друг на друга. Сознание есть двоякий процесс: процесс познания объективной реальности и процесс самопознания. Это относится к обеим формам сознания.
Сознание имеет: а) пассивную функцию – отражать объективную реальность. В данном случае «пассивность» достаточно условна, поскольку для того, чтобы достичь пассивного отражения, порой приходится проделать большую эмпирическую работу по сбору и исследованию информации о некой реальности, а также по теоретическому осмыслению полученных результатов.
Но еще большее значение имеет б) активная функция сознания. Наилучшее ее определение, на наш взгляд, дал Джонатан Коэн из Принстонского университета: «Это способность координировать мысли и действия (выделено мной – Ю. Г.) в соответствии с внутренними целями»[23 - Цит. по: Сапольски Р. Биология добра и зла… С. 48.]. В эту формулировку я бы добавил, что исключительное значение имеют сама способность формулировать цели и идеалистическая визуализация ожидаемого результата.
Чувственное сознание. Ум
Индуизм разделяет чувственное сознание или ум (манас) и разум (будхи). Такого же деления придерживается и буддизм, трактуя первое как главное сознание, а второе – как производное.
Чувственное сознание охватывает шесть его классов, которые соответствуют шести категориям чувственных объектов восприятия:
– сознание зрения (чакху-виджняна);
– сознание слуха (сота-виджняна);
– сознание обоняния (гхана-виджняна);
– сознание вкуса (джихва-виджняна);
– сознание тактильности (кая-виджняна);
– сознание ума (мано-виджняна).
Категория, указанная последней, в отличие от пяти предыдущих, – материально не осязаема. Она характеризует собой некий переходный момент от предшествующего чувственного сознания к появлению настоящего сознания, получившего некоторую собственную оценку.