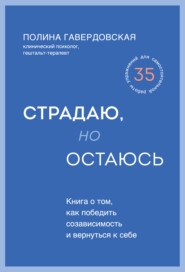скачать книгу бесплатно
И, к сожалению, именно поэтому созависимые люди склонны к аутоагрессии, пассивной агрессии и манипулированию окружающими. По понятным причинам в детстве иных способов получить хоть какой-то кусочек желанного и нужного у них не было. Позже, в главе «Простые чувства: злость» будет очень подробно про агрессию, в том числе про пассивную агрессию.
Зеркальные нейроны незаменимы в социальном взаимодействии. Они дают начало любому замечанию другого человека.
История моего знакомства с университетской подругой Таней Медведовской (она еще будет упоминаться в книге) насчитывает сейчас тридцать лет и начиналась так. Толпа нервных абитуриентов изнывала в тесном дворе московского психфака жарким (наверное) летом 1992 года в ожидании результатов вступительного экзамена по математике. От этой оценки зависело поступление, поэтому вид у толпы был максимально драматичный. Вчерашние школьники с прозрачными от параметрических уравнений лицами стояли неестественно тихо, сбившись в небольшие статичные группы. Согласитесь, очень нетипичное поведение для толпы подростков. Я сидела на бордюре (у питерцев это был бы поребрик). Таня стояла в толпе одна и ела маленькую круглую белую булку за две копейки. Кто помнит эти булки, согласится, что они имели такой глубокий «паз» посередине, будто были созданы для разламывания пополам.
Я заметила Таню и булку. Видимо, в моем взгляде (несмотря на то, что я старалась выглядеть как приличная девушка, поступающая в МГУ) как-то считывалось, что я не завтракала. Таня прошла сквозь толпу прямо ко мне и сказала: «Будешь?». Я мгновенно согласилась, и Таня разломила булку и отдала мне половину.
Слияние и научение
Все уже знакомые нам слиятельные механизмы мы видим на примере любого процесса научения чему-либо. Чтобы перенять чье-то знание или навык, не говоря уж о какой-то целостной системе или идеологии, нужно отдать на время свою границу (а за ней – и всю свою идентичность) в уплату за то, чтобы позволить новому знанию повлиять на себя. Нужно либо поверить учителю, либо уже верить ему заранее. Разумеется, именно поэтому лучше учатся (при прочих равных) те, кто хорошо относится к учителю/наставнику/преподавателю/тренеру. В таком случае новая информация воспринимается естественно, а не враждебно, и входит в нас как нож в масло – без препятствий.
Слияние, напоминаю, в огромной степени – физиологический, химический, природный, изначальный механизм. А уже затем – психологический. Именно в силу животной природы слиянию мало что можно противопоставить кроме его, слияния, осознавания. Мы рождены, чтобы продолжать рождать, только и всего. С этой точки зрения все, что способствует продолжению рода, – хорошо. И подражание – первое, что нам в этом поможет.
Видели знаменитую фотографию, где как бы усталой походкой удаляется вбок от зрителя австрийский зоолог Конрад Лоренц, а за ним – именно что гуськом – следуют один за другим маленькие гуси?
https://codependency-book.info/imprinting/
Лоренц открыл и изучал явление импринтинга (от англ. imprint – оставлять след). Он выяснил, что у многих животных и птиц есть короткий сензитивный период, во время которого формируется реакция следования: птенцы или детеныши двигаются за тем объектом, который успели увидеть во время этого периода. Природа полагает, что с высокой долей вероятности это будет мама, но гусята, которым во время сензитивного периода намеренно попался на глаза Лоренц, далее следовали вовсе не за мамой-гусыней, а за Лоренцом.
Импринтинг шире, чем реакция следования. Это – в целом – механизм, позволяющий животным усваивать и повторять жизненно важные навыки и цепочки действий за родителями. Так, например, котята вслед за мамой учатся гоняться за мышкой и верно находить туалет.
Думаете, люди устроены гораздо сложнее? Тогда вспомните себя в составе какой-нибудь экскурсии. Замечали, как экскурсанты, добровольно войдя в слияние с группой и экскурсоводом, немедленно отдают этому самому экскурсоводу свою «взрослую часть»? Они чаще, чем обычно, спотыкаются, стараются держаться строго друг за другом, как гусята Конрада Лоренца, а самое потрясающее – даже на самом простом маршруте (чья-нибудь городская усадьба, а вовсе не опасный горный ледник) вовлеченные в процесс люди теряются и забывают выход обратно! На самом деле ничего удивительного. Слияние и есть психический механизм, позволяющий нам как бы сказать другому: «Вот тебе моя воля и вера в тебя, а в ответ отдавай мне свои знания, ты сейчас главный, и я согласен на все. Веди меня!»
Опытные экскурсоводы интуитивно знают об этом эффекте и обязательно заботятся о группе на длинных маршрутах: ждут потеряшек, объясняют, когда и где будет остановка и как найти группу, если сошел с маршрута. Так недавно случилось и со мной во время экскурсии по Северному Чертанову (я увлекаюсь городским модернизмом). Ведущая экскурсии, стоя на холме с прекрасным обозрением (можно было красиво махнуть рукой в любую сторону, обозначив основные направления), завершила вылазку в мой любимый район словами: «Кто боится заблудиться, идите со мной, я как раз направляюсь к метро!»
Чем это важно для нас в контексте разговора о созависимом поведении?
Нужно понимать, что психика устроена достаточно архаично. Ради безопасности, защиты, выживания и приобретения знаний она склонна подталкивать нас отказываться от собственных мнений, рискованных инициатив и даже личной свободы. Эта дихотомия внутри нашей психики обычно звучит довольно ультимативно: «Хочешь учиться у Н.? Слушай, что тебе говорит Н. Забудь на время, что ты сам думаешь. Просто повторяй и не перечь».
Однако здесь как раз появляется возможность спросить себя: чему именно я хочу учиться у Н.? Да, она отличный тренер по конкуру и наверняка способна улучшить мою технику прохождения систем (серии препятствий, которые нужно преодолеть во время соревнований определенным образом). Но нужно ли мне теперь курить, если Н. курит?
Как-то раз мы пили кофе (а может быть, ели суп) в Подмосковье, в обеденный перерыв одного профессионального проекта с моей коллегой, психиатром и гештальт-терапевтом Галей Каменецкой. Разговор шел о каких-то бытовых пустяках, которых я и вспомнить не могу. А потом кто-то из наших друзей наливал воду в чайник прямо из-под крана, и другие забеспокоились, что, мол, как же так без фильтра. Галя убедительно заверила:
– В московской воде столько хлорки, что ее можно пить совершенно спокойно даже сырую. Она абсолютно неопасная, просто невкусная.
Разговор забылся. И вспомнился только тогда, когда я заметила, что уже месяц гораздо реже покупаю домой питьевую воду. Чаще пью из-под крана: Галя разрешила, а я ее уважаю. Значит, можно.
* * *
Итак, мы можем приобретать новые знания и навыки, только сдавая границы. Там, куда мы собираемся поместить новый опыт, для него должно быть место, свободное от критики. Только потом, когда новое знание, навык или система знаний уложатся в голове и станут моим приобретением, я смогу (если смогу) распоряжаться ими как захочу. В том числе – не использовать.
Эту логику можно продолжать, хотя и не хочется. Однако мы все понимаем, что ради выживания мы часто повторяем за толпой. И не только потому, что боимся отвержения своей группы. Но и просто потому, что мы уже честно поверили в официальную повестку.
В контексте созависимого поведения интересен еще и вот какой момент. В слиянии обучаться легче, это плюс. Но минус в том, что слияние делает нас менее критичными к поступающей информации. Именно это и нужно иметь в виду, думая о созависимости. Мы набираем ментальный материал от тех, с кем связаны. И часто – неразборчиво набираем.
ЭКСПЕРИМЕНТ
Проверьте себя: насколько вы слиятельный человек?
• Вы замечали, как приобретали дурные привычки от любимых/важных учителей?
• Приходилось ли вам замечать, что вы копируете не только сам навык учителя, но и его манеры?
• Можете ли вы вспомнить, как учились чему-то, не понимая, понадобится ли вам это знание? Остались ли вы довольны качеством своего обучения?
• Было ли так, чтобы вы учились чему-то в состоянии очарованности и предметом, и преподавателем?
Шутки ради тут у вас должно получиться «да, да, нет, да». Но другой вариант тоже нормальный. Просто такими вопросами я помогаю вам заострить внимание на собственной психической реальности. Впрочем, как всегда.
Слияние, окситоцин и агрессия
Психологическое слияние – продукт физиологического слияния. Про слияние и телесные границы мы поговорим отдельно, а сейчас я хочу рассказать, что восхищает меня в физиологии слияния на уровне нейромедиаторов. Гормон окситоцин называют гормоном привязанности. Он вырабатывается при грудном вскармливании, сексе, от телесных прикосновений, если они вам приятны, и сообщает чувство доверия, защищенности и покоя. Подробнее про окситоцин будет еще в главе «Физиология радости».
Таким образом, окситоцин на химическом уровне поддерживает нас в слиянии с той группой, к которой мы принадлежим. И это еще не все удивительные факты про окситоцин! Он же, окситоцин, повышает агрессивность к чужим. К представителям соседних племен, к врагам. По сути дела, окситоцин – гормон не только гражданской, но и любой войны. В сочетании с адреналином и тестостероном он обеспечивает агрессию к врагу и сплоченность со своими. Получается, окситоцин и есть гормон слияния.
На психологическом уровне с обратной стороны слияния также много агрессии. Маленькие обезьянки держатся когтями за тело матери, ради них обезьяна-мать способна напасть и убить врагов, котятки нередко травмируют кошку, пока сосут ее молоко, а кошка может съесть слабых котят, чтобы сохранить ресурсы для более жизнеспособных.
Как тут не вспомнить взрослеющих детей? В поддержании слияния между взрослыми, но не желающими взрослеть детьми и родителями, которые не хотят их отпускать, также очень много агрессии. Подростки бунтуют, делая себе татуировки, но не хотят ни самостоятельно зарабатывать, ни даже убрать за собой на кухне. Родители, не готовые отпустить их, конфликтуют, манипулируют, обесценивают достижения детей и недооценивают при этом их способность всерьез сепарироваться. Многие родители «готовятся» к этой войне за вечное слияние с самого начала своего родительства. Моя любимая зарисовка на эту тему – бабушка, завязывающая внуку шнурки и приговаривающая: «Ничего-то без меня не можешь, какой же ты несамостоятельный».
Не могу не упомянуть здесь людей, использующих свою болезнь для поддержания слияния с теми, кто заботится о них. «Я не могу работать, и только такие жестокие люди, как вы, могут этого не понимать», – заявляет ваш родственник, который целыми днями сидит дома в интернете. В более пугающей модификации можно наблюдать агрессию слияния на примере так называемого делегированного синдрома Мюнхгаузена – заболевания, встречающегося довольно редко и чаще всего в медицинских сериалах. Когда мать намеренно создает ребенку болезнь, чтобы инвалидизировать его и навеки оставаться для него незаменимой.
Слияние в биологическом смысле защищает вид от исчезновения. А в философском смысле слияние противостоит сепарации и индивидуации отдельной личности. В уплату за защиту и принадлежность к группе необходимо принести индивидуальность, собственные желания и несогласие с мнением большинства. А за свободу и независимость – заплатить разрывом некоторых связей, теплом, защитой и отказаться от такого приятного, но немного отупляющего коллективного МЫ-чувства, как его называют социальные психологи. МЫ-чувство и есть переживание слияния с группой. Это когда мы уверены, что МЫ лучше ИХ, а наши жизненные правила правильнее. Это когда НАШИ НАС не бросят, и, значит, я не один. В этом смысле, конечно, слияние символически противопоставляется личной смерти. Ведь если нет отдельного меня, я и умереть не могу. Другое дело, что, вечно оставаясь в слиянии, я как личность и не рождался.
Слияние не очень осознанно используют так называемые пикаперы – молодые люди, соблазняющие женщин ради хобби. Они намеренно быстро проходят в личное пространство девушки (подробнее читайте в главе про пространственные и телесные границы), прикасаются, работают с ее возражениями, просто отметая их, в результате сразу попадают (если повезет) в зону слияния. От прикосновения кожи к коже сразу выделяется окситоцин, повышающий доверие, и, если на этом этапе девушка не остановила взаимодействие, дальше ей будет несколько сложнее, ведь она уже получила послание: «Я близко – значит, я свой. А раз уж я свой, мне можно все, что можно своим».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: