
Полная версия:
Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

Михаил Леонович Гаспаров
Собрание сочинений в шести томах. Том 4. Стиховедение
© А. М. Зотова, 2022
© И. А. Пильщиков, Д. В. Сичинава, А. Б. Устинов, составление, 2022, Д. Черногаев, обложка, макет, 2022
© ООО «Новое литературное обозрение», 2022
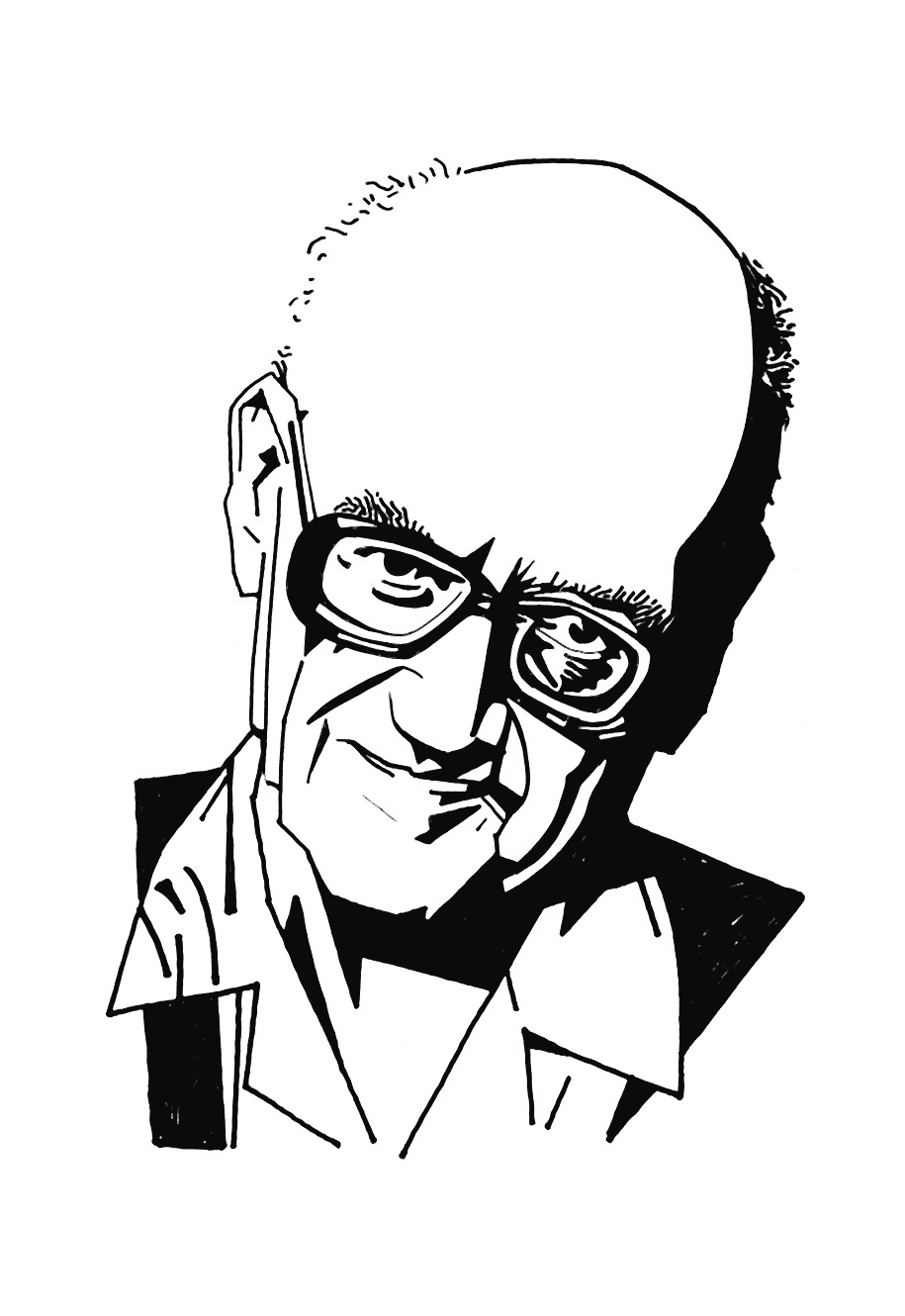
Гаспаров-стиховед
Non ignara mali, miseris succurrere disco.
P. Vergilius Maro1Raison d’ être своего увлечения стиховедением Михаил Леонович Гаспаров объяснял в мемуарной виньетке, вошедшей в его книгу «Записи и выписки»:
Меня спросили: зачем мне понадобилось кроме античности заниматься стиховедением. Я ответил: «У меня на стенке висит детская картинка: берег речки, мишка с восторгом удит рыбу из речки и бросает в ведерко, а за его спиной зайчик с таким же восторгом удит рыбу из этого мишкиного ведерка. Античностью я занимаюсь, как этот заяц, – с материалом, уже исследованным и переисследованным нашими предшественниками. А стиховедением – как мишка, – с материалом нетронутым, где всё нужно самому отыскивать и обсчитывать с самого начала. Интересно и то, и другое».
В другом месте он вспоминал, как начинались стиховедческие штудии нового времени:
Когда мне было двадцать пять лет, в Институте мировой литературы начала собираться стиховедческая группа. Ее можно было назвать клубом неудачников. Все старшие участники помнили, как наука стиховедения была отменена почти на тридцать лет, а их собственные работы в лучшем случае устаревали на корню. Председательствовал Л. И. Тимофеев, приходили Бонди, Квятковский, Никонов, Стеллецкий, один раз появился Голенищев-Кутузов. У Бонди была книга о стихе, зарезанная в корректуре. Штокмар в депрессии сжег полную картотеку рифм Маяковского. Нищий Квятковский был принят в Союз писателей за считанные годы до смерти и представляемые в комиссию несколько экземпляров своего «Поэтического словаря» 1940 года собирал по одному у знакомых. Квятковский отбыл свой срок в 1930‐х на Онеге, Никонов в 1940‐х в Сибири, Голенищев в 1950‐х в Югославии <…>. Колмогоров в это время, около 1960 года, заинтересовался стиховедением, этот интерес очень помог полузадушенной науке встать на ноги и получить признание.
О том, как стиховедение вопреки всем трудностям было признано научной дисциплиной, Гаспаров рассказывал в заметке «Взгляд из угла», написанной по просьбе журнала «Новое литературное обозрение» для специального выпуска, посвященного тартуско-московской семиотической школе:
Когда в 1962 году готовилась первая конференция по семиотике, я получил приглашение в ней участвовать. Это меня смутило. Слово это я слышал часто, но понимал плохо. Случайно я встретил в библиотеке <Е. В.> Падучеву, мы недавно были однокурсниками. Я спросил: «Что такое семиотика?» Она твердо ответила: «Никто не знает». Я спросил: «А ритмика трехударного дольника – это семиотика?» Она так же твердо ответила: «Конечно!» Это произвело на меня впечатление. Я сдал тезисы, и их напечатали. <…>
Дискуссию <о тартуско-московской школе> начал Б. М. Гаспаров, написав, что тартуская семиотика была способом отгородиться от советского окружения и общаться эсотерически, как идейные заговорщики. <…> С Борисом Михайловичем Гаспаровым мы сверстники, и ту научную обстановку, от которой хотелось отгородиться и уйти в эсотерический затвор, я помню очень хорошо. Но мне не нужно было даже товарищей по затвору, чтобы отвести с ними душу: щель, в которую я прятался, была одноместная. Мой взгляд на тартуско-московскую школу был со стороны, верней из угла. Из стиховедческого. <…>
Почему меня приняли в «Семиотику»? Я занимался стиховедением с помощью подсчетов – традиция, восходящая через Андрея Белого к классической филологии и медиевистике более чем столетней давности, когда по количеству перебоев в стихе устанавливали относительную хронологию трагедий Еврипида. Эти позитивистические упражнения вряд ли могли быть интересны для ученых тартуско-московской школы. К теории знаков они не имели никакого отношения. В них можно было ценить только стремление к точной и доказательной научности. То же самое привлекало и меня к тартуским работам: «точность и эксплицитность» на любых темах, по выражению Ю. И. Левина, «продвижение от ненауки к науке», по выражению Ю. М. Лотмана. Мне хотелось бы думать, что и я чему-то научился, читая и слушая товарищей, – особенно когда после ритмики я стал заниматься семантикой стихотворных размеров.
Потом я оказался даже в редколлегии «Семиотики», но это уже относится не к науке, а к условиям ее бытования. В редколлегию входил Б. М. Гаспаров, и его имя печаталось среди других на обороте титула даже после того, как он уехал за границу. Цензор заметил это лишь несколько выпусков спустя. Но Ю. М. Лотман сказал ему: «Что вы! это просто опечатка!» – и переменил инициалы.
Стиховедение предоставляло уникальную возможность продвижения в заявленном Ю. М. Лотманом направлении развития филологии – «от ненауки к науке». Вектором, задававшим «научность» в стиховедении, выступала статистика, объективность которой была обеспечена математическими подсчетами, в каких бы субъективных условиях они ни производились. Михаил Леонович настаивал, что результаты его подсчетов никак не зависели от того, где он их делал, – будь то читальный зал библиотеки или изнуряющие заседания научного совета, – для этого никак не требовался «эсотерический затвор». Эти же наработанные принципы – не зависеть от внешних условий – он впоследствии благополучно применил при работе над «Неистовым Орландо» Ариосто, которого перевел почти целиком в поездках на московском метро.
2Подготовить единственный том стиховедческих трудов Гаспарова – задача трудновыполнимая. Вне всякого сомнения, эта область его деятельности заслуживает отдельного многотомника. Первый и третий томá настоящего собрания выстроены вокруг одной из монографий Гаспарова по общей теме тóма, которую сопровождает подборка статей, развивающих частные сюжеты. Для работ о стихе такое решение невозможно: оно бы недопустимо сократило пространство для статей и неизбежно ухудшило бы репрезентативность подборки работ по стиховедению. Кроме того, у Гаспарова нет одной «главной» стиховедческой монографии. Из трилогии «Современный русский стих: метрика и ритмика» (1974) – «Очерк истории русского стиха» (1984) – «Очерк истории европейского стиха» (1989)[1], тесно связанной логически и методологически, не представляется возможным включить в собрание сочинений лишь какую-то одну часть, исключив другие. Они могут быть напечатаны только все вместе, причем немало места займут также исправления и дополнения к каждой из них[2]. Задача составить полноценное собрание стиховедческих статей Гаспарова осложняется существованием прижизненного третьего тома «Избранных трудов» (1997), озаглавленного «О стихе», и соответствующего раздела в однотомнике «Избранных статей», изданных «НЛО» (1995). Очевидно, что в стиховедческом томе собрания сочинений Гаспарова должны быть представлены, помимо его классических работ, еще и незаслуженно малоизвестные, но не менее важные, в соседстве с которыми тексты, отобранные самим автором, приобрели бы новое качество.
Большинство статей, вошедших в прижизненный том «О стихе» – это case studies, посвященные конкретному метру, конкретному автору, конкретному периоду. В первом разделе настоящего сборника мы воспроизводим авторскую композицию тома 1997 года, дополнив ее тематически близкими трудами, но далее предлагаем иную композиционную структуру, принципы которой разъясняются ниже.
Мы впервые вводим в собрание сочинений Гаспарова его статьи из «Большой советской энциклопедии» (БСЭ), «Краткой литературной энциклопедии» (КЛЭ) и «Литературного энциклопедического словаря» (ЛЭС). Статьи эти наиболее экономно – подчиняясь жестким требованиям объема, к которым Гаспаров, кстати сказать, виртуозно примерялся и в своих монографиях, – формулируют принятые им определения фундаментальных понятий стиховедения. Не везде столь же строго эти дефиниции даются в упомянутой монографической трилогии. Именно энциклопедические статьи – один из основных источников для обсуждения вопроса о том, чтó именно Гаспаров считал стихом, ритмом, метром, какие определения давал более частным понятиям. В статье «Метр» читатель найдет высказывания на такую не самую характерную для гаспаровского корпуса тему, как ощущение метра при сочинении стихов поэтом и восприятии их читателем. В статье «Ритм» – концептуальное разделение понятия стихотворного ритма на «Ритм с большой буквы» (общая упорядоченность стиха, реализацией которой является метр) и «ритм с маленькой буквы» (звуковое строение стихотворной строки, которое, наоборот, выступает реализацией метра).
Статьи из ЛЭС неявно уточняют определения, данные ранее в книге «Современный русский стих» (раздел из нее, озаглавленный «Основные понятия русской метрики», для удобства изучения эволюции научных взглядов Гаспарова воспроизведен и в настоящем томе), между тем цитируются они существенно реже. В «Записях и выписках» есть такое замечание: «Я говорил диссертантам: „Ссылаться на ‘Мифы народов мира’ так же непристойно, как на энциклопедию Брокгауза: там при каждой статье – библиография, проработайте и ссылайтесь“, – но не встречал понимания». Однако специфика энциклопедических статей Гаспарова заключается именно в том, что в процессе работы над ними он перерастал «библиографию», в большой мере состоящую из его же трудов (вспомним нередкие у него глухие обороты типа «стиховеды знают…», скромно отсылавшие к собственным статьям), и их самостоятельная ценность оказывается более значимой, чем это представлялось самому автору, – сегодня об этом можно говорить совершенно уверенно.
Эта книга состоит из пяти разделов: «Русский стих: метрика и ритмика», «Рифма. Фоника», «Строфика», «Сравнительная метрика» и «Лингвистика стиха».
Название первого раздела варьирует заглавие и подзаголовок первой стиховедческой монографии Гаспарова. Помимо энциклопедических статей и работ из тома «О стихе» сюда включены важнейшие из его поздних исследований – как опубликованные в посмертном четвертом томе «Избранных трудов» (например, «Стихосложение од Сумарокова»), так и несобранные (например, «Стихосложение Баратынского-лирика»). Впервые под одной обложкой напечатаны парные работы о ритмике 4-стопного ямба и хорея, вышедшие уже посмертно (первая из них была пропущена в наиболее полной библиографии Гаспарова). Автор любил статьи-двойчатки – таковы, например, включенные в этот раздел статьи о Валерии Брюсове («Брюсов-стиховед и Брюсов-стихотворец») и Андрее Белом («Белый-стиховед и Белый-стихотворец»).
Дальнейшая композиция тома опирается на авторский подзаголовок второй книги трилогии («Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика»). Разделы, посвященные рифме (а также фонике) и строфике, тоже открываются энциклопедическими статьями – соответствующие понятия в исследовательских статьях и монографиях Гаспарова столь систематически не изложены. Его исследования о рифме и фонике, созданные еще в 1970–1990‐е годы, в значительной степени остались за бортом «Избранных трудов». В нашем издании впервые перепечатываются не вошедшие в прижизненное собрание статьи о рифме Н. Некрасова и советских поэтов, появившиеся в ярославском и смоленском тематических сборниках. Ни в коей мере не стесняясь привлекать материал малопопулярных в постсоветское время авторов – хорошо известен его интерес к В. Маяковскому или С. Кирсанову, – поздний Гаспаров всё же с большей строгостью относился к подобным публикациям. Тем не менее они представляют собой тонкий анализ не сразу заметных читателю (а, возможно, и поэту) системных стиховых особенностей, более сложный, чем констатация программной яркости; такой же подход впоследствии развит в статье Гаспарова «Рифма Бродского». Статья о Некрасове выходит далеко за пределы заявленной темы и затрагивает более общие вопросы истории русской рифмы, в том числе с грамматической точки зрения. Помимо вошедшей в «Избранные труды» статьи «Эволюция русской рифмы», мы даем также конспективно изложенные в ней тартуские публикации о первых двух кризисах точной рифмы, где материал представлен более подробно.
Отдельные разделы настоящего тома посвящены проблемам сравнительной метрики и лингвистики стиха, в прижизненных изданиях раскрытым недостаточно.
Работы Гаспарова по сравнительной метрике, тематически коррелирующие с «Очерком истории европейского стиха», никогда не собирались под одной обложкой. В энциклопедических статьях этого раздела изложены взгляды Гаспарова на определение систем стихосложения – вопрос, которому в монографиях уделено очень мало внимания. Три статьи посвящены различным применениям вероятностной модели стиха, адаптированной для разных языков; пять статей – сравнительным характеристикам русской, германской (английской, немецкой) и романской (французской, итальянской, испанской) тоники, силлабики и силлабо-тоники. В них также затрагиваются вопросы о передаче этих систем стихосложения и соответствующих стихотворных размеров в переводах на другие языки. Гаспарова интересуют такие небанальные вопросы, как отнесение итальянского стиха к силлабической либо к силлабо-тонической системе на основании его объективных статистических характеристик и существование маргинальных систем стихосложения в системе национального языка (силлабика в современном русском стихе, силлабо-тоника во французском). Заключительная статья раздела («Историческая поэтика и сравнительное стиховедение») состоит из двух частей; в первой рассмотрен вопрос о месте сравнительной метрики в системе исторической поэтики, вторая представляет собой полезный дайджест «Очерка истории европейского стиха», впервые опубликованный в качестве предисловия к предыдущей книге трилогии – «Очерку истории русского стиха».
Заключительный раздел тома содержит статьи, в которых обсуждается проблема сращивания метрики и ритмики с лексикой и грамматикой, поставленная в 1920‐е годы в пионерских работах О. М. Брика и С. П. Боброва. В 1980‐е годы механизм возникновения стиховых формул и клише заинтересовал Гаспарова, который назвал эту область «лингвистикой стиха». Значительная часть работ этого цикла вошла в посмертный четвертый том «Избранных трудов», но печатается нами по вновь сверенному тексту.
За пределами прижизненных «Избранных трудов» остались работы, где Гаспаров выступает как полемист – между тем и оппонируя чужим наблюдениям, он оставался собой, формулировал важные положения, фактически проводя мини-исследования. Образцами таких работ являются публикуемые в этом томе отклики Гаспарова на гипотезы Р. Папаяна («Еще раз о соотношении стиха и литературного направления») и В. Е. Холшевникова («Еще раз к спорам о русской силлабо-тонике»), сопровождаемые детальной проработкой материала. Несомненно, одной из важных задач остается собрание печатных и внутренних (издательских) рецензий Гаспарова, отзывов на диссертации и других текстов подобного рода. Недаром его первой стиховедческой публикацией была статья «Цель и путь советского стиховедения» – так озаглавлен его отклик на книгу Л. И. Тимофеева «Очерки теории и истории русского стиха», который появился в «Вопросах литературы» в августе 1958 года, вскоре после печатного дебюта Гаспарова в классической филологии – статьи «Зарубежная литература о принципате Августа». Отдав должное факту появления книги Тимофеева и отметив ее значение как попытки вернуть гонимое тогда стиховедение в разряд дозволенных филологических дисциплин, молодой рецензент разгромил концепцию старшего коллеги в пух и прах[3]. Важнейшие методологические обобщения и фактические уточнения сформулированы и в поздних рецензиях Гаспарова на книги М. Тарлинской (1976, 1987, 1993), Дж. Бейли (1993), И. Лилли (1995), С. И. Кормилова (1996), М. Вахтеля (1999) и других[4]. Контекст публикаций современников и полемический модус более конкретно отразились и в ряде других работ. Обычно из своих компендиумов, не говоря об энциклопедических статьях, Гаспаров этот компонент снимал.
3Как стиховед Гаспаров начал с новаторских работ по статистическому изучению неклассического (несиллабо-тонического) русского стиха. Если статистическое изучение силлабо-тонических размеров, как показали предшественники Гаспарова от А. Белого и Б. В. Томашевского до К. Ф. Тарановского, помогает выявить ритмические особенности того или иного метра у разных поэтов и в разные периоды, то за пределами классической метрики мы без статистики не можем определить даже сами размеры (М. Лотман называет классическую метрику априорной, а неклассическую – апостериорной: в неклассической номенклатура размеров нам заранее не дана). В работах о русском дольнике (1962, 1968), об акцентном стихе раннего Маяковского (1967), о вольных хореях и ямбах Маяковского в контексте его акцентного стиха (1965) и, наконец, о русском литературном тактовике (1968) не только обследованы ритмические особенности этих типов стиха, но и самим названиям размеров впервые придан действительно терминологический статус. (Это не значит, что концепции Гаспарова не подлежат критике, – это значит, что теперь есть что критиковать, а раньше не было; наука движется вперед уточнением и исправлением предшественников.)
Со своим интересом к точным методам Гаспаров оказался близок как группе математика и стиховеда А. Н. Колмогорова, так и семиотикам-структуралистам московской (впоследствии московско-тартуской или тартуско-московской) школы. Тезисы первого доклада о дольнике были напечатаны в материалах московского «Симпозиума по структурному изучению знаковых систем» (1962), сам доклад – в основанном Колмогоровым журнале «Теория вероятностей и ее применения» (1963), а статьи о тактовике и Маяковском – в либеральных «Вопросах языкознания» (где публиковались и статьи Колмогорова) и в тартуских «Трудах по знаковым системам» (в обиходе известных как тартуские «Семиотики»). Вскоре Гаспаров берется и за силлабо-тонику: в «Вопросах языкознания» выходят его статьи «Ямб и хорей советских поэтов и проблема эволюции русского стиха» (1967) и «Метрический репертуар русской лирики XVIII–XX вв.» (1972). Все эти работы вошли в уже неоднократно здесь упоминавшуюся первую книгу монографической трилогии (1974). Русский стих XX века рассматривается в ней на фоне стиха XVIII и XIX веков. В качестве первой главы в книге напечатана статья «Квантитативные методы в русском стиховедении: итоги и перспективы»[5], написанная в 1967 году по просьбе Ю. М. Лотмана для «Трудов по знаковым системам», но опубликованная впервые в сборнике статей о точных и семиотических методах в филологических науках, который Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский подготовили к публикации по-итальянски в издательстве «Einaudi» (вышел в 1973 году).
В «Очерке истории русского стиха» (1984), синтезирующем достижения самого Гаспарова, его предшественников и современников, тот же материал подан диахронически: всеохватно и в то же время лаконично изложена история и предыстория всех национальных метрических, ритмических, рифмических и строфических форм. На пути к ней были проведены важнейшие исследования по целому ряду конкретных тем – это серия работ об эволюции рифмы (1976–1984), статьи о строфике нестрофического ямба (1976), о ритмике сверсхемных ударений («Легкий стих и тяжелый стих», 1977), о русском былинном стихе, который исследователь интерпретировал как народный тактовик, и его литературных имитациях (1975–1978)[6], о ритмике русского 4-стопного ямба XVIII века (1982). Отдельно следует упомянуть книгу, формально Гаспарову не принадлежащую, – сборник «Русское стихосложение XIX в.: материалы по метрике и строфике русских поэтов» (1979), в котором он выступил ответственным редактором (и фактическим соавтором почти всех статей).
Одной из отличительных черт своего подхода к проблемам стиха и существенным вкладом в стиховедение Гаспаров всегда называл переход от формального изучения метрики и ритмики к изучению семантики стихотворных размеров. Проблемой семантического ореола метра он занялся вслед за К. Ф. Тарановским, и совсем не случайно, что первая его статья на эту тему – «К семантике дактилической рифмы в русском хорее» – была напечатана именно в фестшрифте Тарановскому (1973). Заглавие книги, в которой были собраны статьи на эту тему («Метр и смысл: об одном из механизмов культурной памяти», 1999)[7], было предсказано во второй статье цикла («Метр и смысл: к семантике русского трехстопного хорея», 1976), а в следующей статье появился и базовый термин («Семантический ореол метра: к семантике русского трехстопного ямба», 1979). За ними последовали статьи о семантике других размеров: Ам3 (1980, опубликована в 1982), Х43жм (1981), Х4жм (1987, опубликована в 1990), Д4д (1988) и др. – всего числом 10. Начал и закончил Гаспаров двумя размерами, с которых (с легкой руки О. Брика) началось изучение семантики метра, – Х4дм и Х5 (размер «Выхожу один я на дорогу…», задавший семантический ореол русского пятистопного хорея). Но и здесь Гаспаров не остановился на том, что сделали до него Р. О. Якобсон и К. Ф. Тарановский: он не только расширил материал, но и сделал два следующих методологических шага. Во-первых, он начал описывать семантический ореол как состоящий не из одной темы, а из набора тем, ассоциирующихся с метром, подобно тому, как лингвисты описывают семантику слова через набор сем. Во-вторых, он поставил вопрос о генезисе метрической семантики, обнаружив, что темы жизненного пути и смерти, на которых построено стихотворение Лермонтова, русский пятистопный хорей напрямую заимствовал из немецкой поэзии.
Сравнительная перспектива, так или иначе присутствующая во всех работах Гаспарова, пришедшего в стиховедение не из русистики, а из классической филологии, сменяется компаративным фокусом в серии статей, над которой он начал работать одновременно со статьями о семантике стиха. Статья «Русский ямб и английский ямб» появилась в сборнике памяти стиховеда и германиста академика В. М. Жирмунского (1973), за ней последовали «Итальянский стих: силлабика или силлабо-тоника?» (1978, опубликована в 1981) и «Романская силлабика и германская тоника» (1987). Помимо попарного сопоставления метров, принадлежащих разным национальным традициям и системам стихосложения, Гаспаров применил к изучению нескольких национальных традиций «русский метод»[8] – разработанный Б. В. Томашевским, К. Ф. Тарановским и другими русскими стиховедами метод сравнения статистических данных по стиховой ритмике с теоретическими моделями стиха, построенными на основании общеязыкового словаря или «естественного» ритма прозы на соответствующем языке. Основополагающая статья «Вероятностная модель стиха» (с длинным поясняющим подзаголовком «Английский, французский, итальянский, испанский…») была напечатана по-английски в журнале «Style» (1987), а по-русски – в «Избранных трудах» (1997).
Вершиной гаспаровского сравнительного стиховедения стал «Очерк истории европейского стиха» (1989), выходом которого увенчался целый этап изучения сравнительно-исторической и типологической метрики на материале стиховых традиций Европы. Целью работы, по словам самого автора, был переход от накопления сведений об истории размеров к методологическому синтезу, позволяющему свести свои и чужие результаты, «фактические и гипотетические, в одну систему, охватывающую материал от общеиндоевропейских времен до наших дней»[9]. Книга была переведена на итальянский (1993), английский (1996) и чешский (2011) языки.
В середине 1980‐х годов появляются первые исследования Гаспарова, где он нащупывает подход к проблеме стиховой формульности, – это «Ритмический словарь и ритмико-синтаксические клише» и «Ритмико-синтаксическая формульность в русском 4-стопном ямбе», из которых вырос проект «лингвистики стиха»[10]. Работу под таким заглавием Гаспаров напечатал в 1994 году, и с тех пор эта тематика все более доминировала в его интересах. Десять лет спустя увидели свет подготовленные совместно с Т. В. Скулачевой «Статьи о лингвистике стиха» (2004).
Последняя по времени стиховедческая работа, которую Гаспаров увидел напечатанной при жизни, – это «Предисловие», написанное им для «Конкорданса к стихотворениям М. Кузмина» (2005)[11]. Фундаментальная, но оборванная буквально на полуслове статья «Ритмика четырехстопного ямба раннего Мандельштама» появилась в самом конце 2005 года уже с именем автора в траурной рамке[12].
С начала 1960‐х годов Гаспаров писал энциклопедические статьи о стиховедческих терминах – сперва почти исключительно об античных, а потом обо всех – для КЛЭ (1962–1978), для «Словаря литературоведческих терминов» под редакцией Л. И. Тимофеева и С. В. Тураева (1974), для БСЭ (1975–1978), ЛЭС (1987), «Литературной энциклопедии терминов и понятий» (доработанные статьи из ЛЭС, 2001). Хотя сам автор избегал их упоминать, эти работы, как уже было сказано, в полной мере принадлежат его стиховедческому научному наследию. Так, за исключением статьи о Бабрии, все написанное им для первого тома КЛЭ сосредоточено на вопросах стиховедения: «Александрийский стих», «Амфимакр», «Антибакхий», «Антиспаст», «Арсис», «Ателлана». После этого мы уже, наверное, не будем удивляться, что и резюме собственных достижений Гаспаров, зная себе цену, представил в форме энциклопедической статьи:



