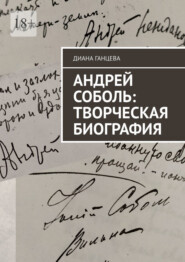
Полная версия:
Андрей Соболь: творческая биография

Андрей Соболь: творческая биография
Диана Ганцева
© Диана Ганцева, 2022
ISBN 978-5-0056-5864-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
– Девушка, у вас перевес 12 килограмм. На стойке вон там оплачивайте и к нам с чеком за посадочным без очереди.
Я стояла с квитанцией в руке у стойки регистрации в Домодедово – каких-то два часа перелета, и я дома. Но будет ли этот перелет?.. Я точно знала, что денег у меня нет – совсем. Перевес в планы не входил, я забыла о нормах багажа на наших авиалиниях. Начало нулевых – ни сотовых телефонов, ни мобильных платежей. Шансов нет.
– Подождите, вы же «Уральские авиалинии»?
– Да, и что?
– Так у вас в Кольцово тоже офис есть. Давайте я прилечу и там сразу оплачу? Понимаете, сейчас у меня с собой денег нет столько, а там меня встречать будут, и я сразу эту квитанцию оплачу.
– Так не положено. Я без чека вам посадочный не выдам.
Первая попытка не прошла – непробиваемый сервис. Может, с пассажирами повезет больше?
– Извините, вы мне на 2 часа денег не одолжите? Мне багаж оплатить, а в Кольцово я сразу вам все верну. Мы ж в одном самолете полетим, я никуда не денусь.
Каменные лица, легкие усмешки, откровенное презрение. Регистрация уже почти закрыта, очередь рассосалась. Возвращаюсь к стойке:
– Девочки, милые, ну ведь должен же быть какой-то вариант?
– Мы решения не принимаем, у нас инструкция. Вон начальник смены идет – попробуйте с ним поговорить.
Бросаюсь к проходящему мимо высокому мужчине в синей форме:
– Добрый вечер! Только вы можете меня спасти!
– Что у вас?
– У меня перевес, а денег нет. Я могу оплатить в Кольцово, после прилета – меня встретят, и я сразу оплачу, но нужно ваше распоряжение. Вы же можете?
С тяжелым вздохом он обводит меня взглядом и кивает в сторону двух набитых сумок с бумажными «браслетками» израильской авиакомпании:
– Шмотки?
– Книги…
Бровь удивленно взлетает вверх, недоверие в глазах. Открываю сумку – со скрипом разъезжающаяся молния обнажает обложку книги по мультикультурализму на английском и пачки ксерокопий, аккуратно разложенные по пакетам.
– И зачем?
– Я диссертацию пишу, со стажировки лечу в Иерусалимском университете. Это книги, которых у нас нет, а мне они для работы нужны. Вы мне просто дайте возможность по прилету багаж оплатить.
Он взял мою квитанцию, быстро на ней расписался и вернул мне:
– Счастливого полёта!
Через всю квитанцию размашистым почерком были написаны три слова: «Пропустить без оплаты» и подпись.
Это только один эпизод, хранимый моей памятью. А их были десятки. Маленькие чудеса, совершавшиеся на протяжении всех трех лет, что я работала над диссертацией, ставшей книгой, которую вы держите в руках. Десятки людей, без поддержки которых эта работа не могла бы состояться, и эта книга никогда не была бы ни написана, ни опубликована.
Андрей Соболь стал героем моей диссертации случайно. Все свои студенческие работы я писала по творчеству Бунина – влюбилась в его тексты, самозабвенно исследовала, умудряясь видеть и улавливать то, что до меня еще никем замечено не было. Как-то после защиты курсовой, где я писала о рассказе «Легкое дыхание» – уж более изученное вдоль и поперек произведение сложно найти – профессор Татьяна Александровна Снигирева произнесла слова, которые как самый мощный комплимент я помню до сих пор: «Дайте ей 3 страницы текста – она напишет вам 300 страниц анализа». Меня нисколько не смущала «научная конкуренция», я была уверена, что продолжу исследование прозы Бунина и в аспирантуре – планов было громадьё, еще столько мотивов и художественных категорий осталось вне моего внимания. Но после защиты диплома профессор Вера Васильевна Химич из приемной комиссии мягко намекнула, что «тему лучше бы сменить», потому как «буниноведов» у нас в университете и так избыток.
Два дня до подачи документов в аспирантуру – и ни одной идеи. Мой научный руководитель Мария Аркадьевна Литовская, которую я поймала в коридоре у кафедры и озадачила вопросом о новой теме, задумчиво потерев подбородок, произнесла: «Вот что, Диана, у Катаева в повести „Уже написан Вертер“ есть такой персонаж – Серафим Лось, писался он с Андрея Соболя. Слышали о таком? Вот и никто не слышал, так что новизна исследования обеспечена. Посмотрите его тексты – вдруг он вас заинтересует?»
Интернет в конце 90-х был в зачаточном состоянии, и я бросилась в библиотеку УрГУ – книгу Катаева мне там выдали, а вот произведений Андрея Соболя не нашлось. Отправилась в Белинку с ее отделом редких книг, но и там меня порадовали только парой рассказов в сборниках и тоненькой брошюркой про каторжную жизнь. «Ого! – подумала я. – История обещает быть интересной!» Текстов нет, информации о писателе – никакой, кроме сомнительной подлинности полухудожественных свидетельств Валентина Катаева. Отличный вариант! Так я взялась за творчество Андрея Соболя, понятия не имея о его произведениях, ничего не зная о его биографии – исключительно из любопытства и искательского азарта. И «поисковый инстинкт» меня не подвёл! Путь предстоял непростой, извилистый, заведший меня из Екатеринбурга в Москву и Питера, а потом и в Иерусалим.
Знакомство с Соболем началось с загадок. Сначала выяснилось, что имен, фамилий и документов у него было как у заправского шпиона. Андрей Соболь по метрике оказался Израилем Моисеевичем Собелем, а в кругу друзей и домашних – Юликом. При этом в некоторых источниках его путали с одним из его приятелей, театральным и литературным критиком Юрием Соболевым. Созвучность их фамилий разошлась по анекдотам: «Вместе или отдельно бывали Андрей Соболь и Юрий Соболев. У кого-то из них был к тому же, помнится, ординарец Собольков…» (М.О.Чудакова «Жизнеописание Михаила Булгакова»). В литературу он входит под псевдонимом Андрей Нежданов, а в 1915 году тайно возвращается из Европы, где 8 лет прожил нелегальным эмигрантом, в Россию с паспортом на имя Константина Виноградова.
Затем оказалось, что юношеская биография моего героя достойна приключенческого романа. К двадцати семи годам он уже исколесил всю Россию от Перми до Нижнего Новгорода, от Иркутска до Мариуполя, то мальчиком-подручным на пароходе, то в составе опереточной труппы, то «в кандалах, с сотней уголовных», отправленных по этапу в Сибирь; успел поработать агитатором в еврейской политической партии: «разъезжал по еврейским городкам и местечкам, очень милым еврейским девушкам рассказывал о французской революции, „разъяснял“ Энгельса, цитировал Блосса»; прошел несколько тюрем: Мариупольскую, Виленскую, Бутырки, Александровский централ и Горный Зерентуй, и самую страшную царскую каторгу – Амурскую колесную дорогу или, как ее называли заключенные, «Колесуху»; объездил нелегальным эмигрантом «весь Запад», в его маршрутном списке Рим, Брюссель, Париж, Мюнхен, Ницца, Копенгаген, Сан-Ремо и маленькая деревушка на итальянской Ривьере Cavi di Lavagna, где члены боевой организации партии эсеров, среди которых был и А. Соболь, «на горе St. Anna расстреливали ежедневно картонное чучело: готовились к поездке в Горный Зерентуй, чтобы убить начальника каторги за смерть Сазонова».
Он горел идеей революции и народной справедливости. Всегда стремился в гущу событий, но как-то однажды… Или это было не вдруг и понимание пришло постепенно – с чувством внутренней боли и страшного душевного надрыва. Весной 1916 года под именем Александра Александровича Трояновского Андрей Соболь был направлен на Кавказский фронт, а в августе 1917 года, окончив школу прапорщиков в Петрограде, уехал на Северный фронт комиссаром Временного правительства: «Три месяца я был в солдатской гуще, три месяца я „уговаривал“ – от полка к полку, от дивизии к дивизии – три месяца напряжения, муки, горести и обид – и так ощутительно-близко видел, как разворачивается великая всероссийская водоверть. В ночь на 30 октября в городишке Вейзенберг я получил кулаком в грудь на собрании представителей 47 дивизии. А несколько недель спустя на могилевском вокзале я глядел на убитого Духонина; в тот день в опустошенной ставке я по настоящему познал, что такое одиночество и как порой даже смерть желанна». Мечта о революции и справедливости обернулась в реальности страшным вихрем, «всероссийской водовертью», в которой захлебнулась страна и тот самый новый мир, который виделся на обломках старого, но так и не воплотился: «…самое страшное во всем, что окончательно и бесповоротно пришел его величество Хам и тяжелыми сапогами придавил все, плюнув на все…».
Почти 10 лет он будет пытаться найти себя в ошалевшей от революционных событий Москве и в пытающейся прийти в себя от идеологических чисток литературе. Об авторитете Соболя в писательском мире говорит избрание его в 1922 году секретарем Союза писателей. А о популярности свидетельствует тот факт, что в 1927 году, по результатам читательского опроса, Андрей Соболь оказался на первом месте в числе самых любимых писателей. Однако в новой России места для себя он не найдет – 7 июня 1926 года его найдут на Тверском бульваре у памятника Тимирязеву в луже крови и с револьвером в руке. Через несколько часов после этого писатель Андрей Соболь умрет в больнице, а его книги на долгие годы исчезнут с полок книжных магазинов и частных коллекций, будут изъяты из открытого доступа библиотек.
Когда я бралась за творчество неизвестного автора, мне не было страшно – просто нужна была тема, достаточно актуальная, чтобы с ней взяли в аспирантуру. С Соболем меня взяли. Страшно стало потом, когда выяснилось, что его текстов нет ни в одной библиотеке города. И о нем информации тоже не густо.
За несколько дней до защиты меня остановил в коридоре универа кто-то из преподавателей филфака, входивших в академическую комиссию. Я тогда была не в себе от волнения и предстоящего события и, конечно, сейчас не вспомню, кто это был.
– Дианочка, а не могли бы вы мне хотя бы парочку текстов героя вашей диссертации дать для прочтения?
Да, оппоненту я тоже отправляла вместе с диссертацией копии избранных произведений Андрея Соболя.
И так получилось не потому, что автор «вышел в тираж» или не пользовался спросом. В 1927 году, по результатам читательского опроса газеты «Гудок», Андрей Соболь оказался на первом месте в числе самых любимых писателей. Анонсы его произведений печатались в толстых журналах, сборники рассказов, несмотря на неодобрительные рецензии, переиздавались, четырехтомное собрание сочинений выдержало два издания подряд в 1927 и 1928 годах, а читатели в журнальных анкетах о самых читаемых и любимых авторах ставили его имя рядом с С. Есениным.
В начале 1930-х книги Андрея Соболя исчезли из библиотек. Кампании по «чистке библиотечных фондов» проводились в послереволюционные годы регулярно, но стихийно – «по инициативе трудящихся» и «с воодушевлением на местах». «В Московской области изъятые книги переводились в «специальный фонд», в Ленинградской области – в «закрытый», а в Западной области помимо спецфонда был создан фонд «МНД», что расшифровывалось как «Массам не давать» (Евгения Добренко «Формовка советского читателя»). А в регионах «идеологически вредные» произведения часто попросту уничтожались – шли на растопку.
Так что в родной Белинке мне выдали только пропущенную в свое время цензурой брошюрку Издательства Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев из серии Дешевая библиотека журнала «Каторга и ссылка» с воспоминаниями Андрея Соболя о «Колесухе» – царской каторге на Амурской колесной дороге. Собрание сочинений и сборники повестей и рассказов я копировала в Питере – в Российской Национальной библиотеке, копии статей и публицистики, написанной современниками, везла из «Ленинки» – Российской Государственной библиотеки в Москве, а критические исследования, рукописи и воспоминания современников собирала по частным коллекциям, библиотекам и архивам не только России, но и Израиля.
Библиотечные копии стоили немыслимых денег, которых у юной провинциальной аспирантки, конечно, не было. И если бы не гранты и программы Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», мне никогда не удалось бы не то что завершить, но даже начать работу над диссертацией. Жаль только, что не сделала на память копию первой страницы хотя бы одной книги со штампом «СПЕЦХРАН».
В аудиторию, где проходил отчетный семинар по стажировке студентов и аспирантов из стран СНГ в Еврейском университете в Иерусалиме, я ворвалась, опоздав на полчаса.
– Ну? – с немым вопросом во взгляде смотрела на меня Ленка: мы жили с ней в одной комнате, и только она знала, куда я уехала с утра пораньше.
– Нашла!!! – шепот не в силах был скрыть моего ликования. – Я нашла! – в руках я держала черную пластиковую папку со стихами Андрея Соболя, которые почти сто лет считались утраченными безвозвратно.
Уже год работая над диссертацией и объехав центральные библиотеки Петербурга и Москвы, я выудила все, изданные в России произведения Андрея Соболя. В моем личном рабочем архиве хранились копии 4-х томов Собрания сочинений, разрозненных изданий романов и повестей, сборников рассказов, брошюрок Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, статей и ранних рассказов, опубликованных в дореволюционных журналах еще под псевдонимом Андрей Нежданов, и даже переписанные от руки хранящиеся в ИМЛИ черновики неопубликованных произведений. И ни одного стихотворения.
Я на них, признаться, с самого начала не особо и рассчитывала. Но найти неизданные рукописи своего автора – какой исследователь не мечтает об этом? Из автобиографических заметок Андрея Соболя было известно, что стихи он начал писать четырнадцатилетним мальчиком, сбежав от семьи из Шавли, захолустного городка Ковенской губернии, и оказавшись в далекой Перми. Некоторые из них изредка печатались в местных газетах «Пермские губернские ведомости» и «Пермский вестник» и часто читались на заседаниях теоретического сионистского кружка «Бней Цион». Содержимое архивов и библиотечных хранилищ тогда еще не оцифровывалось и не выкладывалось в сеть, а ехать в Пермь за свой счет с неясным результатом я не рискнула. Попробовала поискать Пермские дореволюционные издания во время стажировок в Москве и Петербурге, но безуспешно. Даже если бы и нашла – перелопатить все подшивки двух изданий за несколько лет в поисках пары стихотворений представлялось чистым безумием. Тем более, это были бы уже опубликованные стихи…
Вот если бы удалось найти ту тетрадочку со стихами, что он писал в тюрьме и на каторге! О ее существовании я узнала тоже из автобиографических записей Андрея Соболя – сейчас уже не вспомнить точно, но где-то он упоминал, что тетрадку со своими стихами, написанными на каторге, и другие бумаги перед эмиграцией оставил кому-то из своих друзей по сионистскому кружку и революционной деятельности, а потом бумаги эти затерялись. На этом я решила тему поиска стихов закрыть и начать с прозы.
В 2000 году я попала на стажировку в Еврейский университет в Иерусалиме, которую ежегодно организовывал Центр «Сэфер» при поддержке благотворительного фонда «Джойнт». Там мне посчастливилось встретиться с Мариной Потоцкой – внучкой Андрея Соболя. Мы встретились с ней в Тель-Авиве по рекомендации моего университетского куратора – профессора Владимира Хазана. И если мне не изменяет память, именно в разговоре с Мариной всплыла история про потерянные рукописи. Как так получилось? Зачем я рассказала об этих стихах и о том, что они были переданы кому-то из друзей, и о том, что одним из возможных этих друзей был человек по фамилии Кауфман – то ли Александр, то ли Борис?
– А я знаю одного Кауфмана, здесь у нас – в Тель-Авиве. Только он – Теодор. Сейчас-сейчас… Да, Теодор Кауфман, председатель Ассоциации выходцев из Китая в Израиле «Иегуд Иоцей Син».
Китая?.. Странно, конечно, но кто знает… Марина пообещала с ним созвониться и уточнить.
Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что Теодор Кауфман – сын Абрама Кауфмана, руководителя того самого пермского кружка «Бней Цион», участником которого был и Андрей Соболь!
А представляете, что со мной было на следующий день, когда выяснилось, что в Тель-Авиве в архиве Ассоциации выходцев из Китая в Израиле «Иегуд Иоцей Син» среди папок личного архива доктора Абрама Иосифовича Кауфмана долгие годы хранилась желтая картонная папка без номера и карточки с карандашной пометкой «А. Соболь». А в ней – конспекты сионистской литературы, сделанные членом пермского молодежного теоретического кружка «Бней Цион» Юсей Соболем, рукопись его доклада по решению еврейского вопроса и более двадцати стихотворений, подшитых в аккуратные тетрадочки и написанных на маленьких клочках бумаги в Александровском централе или в Горном Зерентуе, частью прекрасно сохранившихся, временами практически нечитаемых, но в большинстве своем никогда и нигде не печатавшихся.
Ранним утром, несмотря на назначенный отчетный семинар, на первом же автобусе я рванула в Тель-Авив. И уже через три часа прижимала к груди заветную папку с копиями никогда ранее не издававшихся стихов Андрея Соболя. Я нашла!
Именно с них я начала исследовать первые шаги будущего известного писателя Андрея Соболя в литературе. Эти ученические стихи – скорее юношеская проба пера, своеобразный лирический дневник духовных переживаний, летопись внутренней жизни автора – мальчика-подростка, начинающего свой жизненный путь, ищущего нравственные ориентиры, пытающегося определить свое место и призвание в этом мире.
Мне же он сам и герои его книг оказались удивительно созвучны своим мироощущением – силой любви и мерой ответственности. Главное в нем – личность вне политических и социальных масок, человек как таковой и его «готовность сознаться, готовность отвечать за все, что свершилось при твоем (пусть даже бессознательном) участии». Варлам Шаламов писал о нем: «Совесть русской интеллигенции, принимающей ответственность за всё, что делается вокруг».
С одной стороны, главная и изначальная целевая аудитория моего исследования – это филологи, профессиональные исследователи литературы, студенты гуманитарных факультетов. Как было написано в заключении диссертационного совета, «изучение биографии и художественного наследия малоизвестного писателя второго ряда, осмысление художественных особенностей его творчества будет способствовать детализации объективной картины историко-литературного процесса первой трети ХХ века».
С другой стороны, и предлагаемая монография и само творчество Андрея Соболя могут быть интересны для исследователей души человеческой – коучей, психологов и психотерапевтов. Произведения Андрея Соболя предельно автобиографичны – ткань собственной жизни он расплетал на нити событий и сюжетов, чтобы сплести из них художественные полотна своих повестей и рассказов. Образы, мотивы, сюжетные повороты кочуют из произведения в произведение, обрастая новыми подробностями, обретая новые смыслы. И это удивительная возможность – наблюдать, как из реальности рождается вымысел, как ткань жизненных событий и обстоятельств преображается творческим сознанием человека и ложится в основу текста.
И, наконец, с третьей стороны – я хочу, чтобы эту книгу прочитали все мыслящие люди, интеллигентные, образованные, деятельные, все, кто думает о судьбе своей страны и хочет сделать жизнь в ней лучше. Герои Соболя – мечтатели о новой России, деятели, активисты, решившиеся на преобразования, но ставшие слепой силой и сметенные в конце концов вихрем перемен. Каждый из них в какой-то момент оказывается в той ситуации, в которой оказались сейчас мы все с вами – перед лицом ужасающих событий, которые не ими были созданы, но молчаливыми участниками и свидетелями которых им приходится быть, оставаясь в этой стране.
Каждое поколение, оказавшееся в ситуации «распалась связь времен», ищет свою точку опоры, свои основания жить. И сам Андрей Соболь, и его герои ищут ответа на вопрос, который на свой лад формулировали и Платон, и Шекспир, и Герцен, и Достоевский…
Каждый из них задается одним единственным вопросом – как жить дальше? Их ответ меня не устраивает, и, думаю, не устроит он и вас, но это тот самый опыт предыдущих поколений, который мы можем не повторять. Мы можем прожить его, окунувшись в художественный мир текстов Соболя, осознать и сделать свой выбор, найти свои ответы.
Диана Королькова (Ганцева)Введение
История литературы жестока: она писателя стремится загнать в мелкий шрифт, сделать контекстом, фоном, уложить в схему, в эпоху.
С. Шершер
В литературных исследованиях последних лет отчетливо проявляются две взаимосвязанные тенденции. С одной стороны, ведется активное накопление и введение в научно-исследовательский оборот материала, ранее недоступного или попросту изъятого по идеологическим и иным соображениям. Предпринимаются попытки описания состава литературы начала ХХ века, внутрилитературных связей и общекультурного контекста, обусловившего движение литературного процесса.
Этим вызвано появление ряда работ, посвященных как рассмотрению конкретных явлений литературной жизни, анализ которых позволяет выявить специфические закономерности литературного процесса первой трети ХХ века (Д.М.Фельдман «Салон-предприятие: писательское объединение и кооперативное издательство „Никитинские субботники“ в контексте литературного процесса 1920-1930-х гг.»; Г.А.Белая «Дон-Кихоты 20-х годов: „Перевал“ и судьбы его идей» и др.), так и исследованию творчества отдельных писателей, оказавших существенное влияние на формирование художественного сознания и языка эпохи (М.О.Чудакова «Жизнеописание Михаила Булгакова», А.В.Михайлов «Мир Велимира Хлебникова», А.К.Жолковский «Зощенко: поэтика недоверия», А.К.Жолковский, М.Б.Ямпольский «Бабель/Babel», Г.Г.Амелин, В.Я.Мордерер «Миры и столкновения Осипа Мандельштама» и др.).
С другой стороны, значительную роль играют типологические работы, выявляющие основные направления литературного развития, прослеживающие динамику определенных художественных течений и стилевых тенденций (М.М.Голубков «Русская литература ХХ века. После раскола», В.В.Заманская «Русская литература ХХ века: проблема экзистенциального сознания», В.В.Эйдинова «Антидиалогизм» как стилевой принцип русской «литературы абсурда» 1920-х – начала 1930-х гг.» и др).
Создание объективной картины историко-литературного процесса требует не только исследования художественного наследия писателей так называемого первого ряда (М. Булгаков, Е. Замятин, И. Бабель, М. Горький, А. Толстой, В. Маяковский, С. Есенин, О. Мандельштам и др), но и переосмысления творчества авторов, не осуществивших значительных прорывов в своем творчестве, но составлявших ту литературную среду, которая обозначала проблематику времени, устанавливала критерии и ориентиры, в определенной степени задавала направление и степень влияния литературы на духовную жизнь общества в целом (В. Зазубрин, С. Малашкин, Д. Стонов, А. Тарасов-Родионов, Л. Гумилевский, Ю. Слезкин, А. Неверов, Л. Островер, С. Ауслендер и др.)
Тем более актуальным представляется нам обращение к фигуре Андрея Соболя, писателя, который не стал в 1910-1920-е гг. законодателем литературной моды, но в жизни и творчестве которого отчетливо прослеживаются значимые веяния времени.
В восприятии критики, как начала века, так и современной, Андрей Соболь предстает одним из многих, но хороших писателей, частью общего потока литературы «о времени и о себе», упоминается среди имен более или менее известных, но не удостоенных пристального внимания1. М. Осоргин писал об А. Соболе: «Он никогда не был модным или очень известным писателем, хотя в кругах литературных был популярен… Соболя скоро забудут, а может быть уже забыли, хотя он был лучше и оригинальнее многих»2. Он оказался прав. До сих пор нет сколько-нибудь полных изданий его произведений, нет монографических исследований творчества писателя, чье имя тем не менее постоянно упоминается в различных работах по истории литературы 1920-х годов3. Обращение именно к этой фигуре литературного процесса тем более важно, что современники писателя отмечали удивительную типичность его творчества для художественного сознания времени: «Соболь, конечно, фигура не менее типичная, чем Сергей Есенин. Распад интеллигентского сознания, крах целой идейной полосы и целого поколения в истории русской общественной мысли и общественного движения, – все это нашло в Соболе талантливого и чуткого изобразителя»4. Таким образом, можно предположить, что исследование творчества А. Соболя есть одновременно и исследование «срединного», «типичного» художественного сознания эпохи.
Косвенным подтверждением тому служит и тот факт, что в 1910-1920-е годы А. Соболь был яркой фигурой литературной жизни России, и его произведения пользовались успехом у различных групп читателей. В 1927 году, по результатам читательского опроса газеты «Гудок», А. Соболь оказался на первом месте в числе самых любимых писателей5. Анонсы его произведений печатались в толстых журналах, сборники рассказов, несмотря на неодобрительные рецензии, переиздавались, четырехтомное собрание сочинений выдержало два издания подряд в 1927 и 1928 годах, а читатели в журнальных анкетах о самых читаемых и любимых авторах ставили его имя рядом с С. Есениным6. Основываясь на этих фактах, мы можем утверждать, что обращение к творчеству А. Соболя весьма продуктивно с точки зрения социологии литературы, так как позволяет нам говорить о художественных приоритетах и литературных вкусах читающей публики 1910-1920-х гг.



