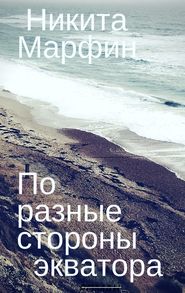скачать книгу бесплатно
Правда, мои алмазные, вы же видите эти дикие горно-кордильерско-андско-альпийские нагромождения породы и мусора и по высоте, и по протяженности; и добросовестность говорит, что все они обязаны стать почти вручную перебраны вплоть до последней ничтожной бумажко-буковки для исключения потери самой мелкой золотой песчинки всяко-необходимой окончательному и полному решению комплекса, никем более кроме нас не могущими оказаться решенными вопросов.
Пренебрежение мелочью в нашем, возможно, самом тонком на свете деле нарушит балансы доказательств, подмочит репутацию незапятнанного равновесия и даст нежелательную возможность двусмысленных толкований и извращений, а то и переворачивания наизнанку предлагаемого нами одного-единственного смысла. Коряво сказано? Не знаю, мне некогда перечитывать – у меня тут со сроками напряженка, так что кое-какие, уже найденные драгоценности полагается по условию обнаружить сразу выставляемыми и мы тут же кладем их в наспех сколоченные грубые стенды и без задержек ведем к ним экскурсию, а то поля, горы, моря, леса, острова, города, виллы и все остальное со всеми ожидают археолога пера и глубоководно-космического инженера не только человеческих душ. Что это мы, моя радость, хотели этим сказать? Ждут, стало быть, безальтернативного специалиста , способного все честно перелопатить, переграблить, провеять и сделать долгожданные всеми и, надеемся, верные выводы.
Ну, и до стиля ли тут, граф? Простите за фамильярность, но поймите меня по корпоративной этике, а добросовестно-пуантильные стилисты в нашей с Вами (необъятной и недосягаемой по ценностям достижений никакой другой национальной литературой) отечественной кладовой писателей, постоянно отыскивались и никогда не переведутся (не мамонты), и наш стремительно вымирающий читатель не лишится даже крохотной незначительности в, требуемой его искушенной читательскою душою, высокой эстетике.
Ах, граф, позвольте мне еще заявить Вам, что Ваш выточенный до эталонного совершенства стиль, все одно навечно останется даже приблизительно недоступным.
Уф! Куда там запропастился меж оправдательных, ругательных, льстивых и все прочее строк разбираемый ныне нами неполноценный старичок? Да, да – ослепленным фальшивой лжесвободой одиночкам даже не дано понять глубину собственной ущербности, твердо и несдираемо напыленной на них ядовитым покрытием скрытого несчастья.
В Евангелии, в одном из Посланий, Апостол Павел говорит о свободе христианина и несвободе язычника и, да простит нас Апостол, хотим перефразировать по смыслу его объяснения для нужной нам формулы свободы человека семейного и рабства в пустоте и темноте незнания гармонии холостяков и одиночек.
«Православная Церковь решила насаждать Веру мечом и огнем,– пишет протопоп Аввакум,– каки таки Апостолы научили? Не знаю». А Лесков пишет: «На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя». Это мы к тому, что вроде же не богохульствуем, приспосабливая священные труды к личным нуждам? Заодно мы и графу еще разок по ходу выразили почтение, а описываемый старичок опять воспользовался нашим отвлечением и выскользнул из под нашего универсального (в смысле – при необходимости мы им гвозди заколачиваем и груши околачиваем) луча-телескопа. Или это для звезд на небе? Пусть лучше будет – мелкоскопа (так выражается лесковский Левша) – Лескову доверять можно. До звезд на небе нам еще рано, а вот внутрь мы лезем неудержимо и страстно, не сомневаясь в неограниченных правах, да это, в конце концов, и является нашей главной и профессиональной обязанностью. Трудоемкой с перегрузками. Ох! Ждет тебя беззащитный читатель катастрофа, когда у твоего Вергилия откажут от перегрузок здоровье, нервы и память. А, ладно! Будем надеяться, что автор для снятия напряжения сам с собой кокетничает с безобидным оттенком вульгарности и представляет себе такое поведение не оскорблением читателя, а самоизобретенным застольно-кабинетным упражнением.
Чтобы закончить полностью со скользким хрычишкой заявляем напоследок еще разок – холостяк, человек неполноценный, инвалид (степень нам еще предстоит выяснить) души и калека сознания, и неявный сектант-одиночка, с немалой подкраской извращенца опаснее половых, не вызывающих ощущений естественности и, большей частью, не оспаривающих трагическую болезненность ненормальной психики. А заяви нашему разбираемому наши же выводы! Нет, он и выслушает, и поговорит, и обсудит – малый-то он, помните, покладистый, добрый и характер имеет… Как это? Толерантный? Нормальный, короче, характер. Адекватный в обществе и способный на уживчивость, но мы, описанный выше протокольно изъян, заносим в добытую нами наконец характеристику. Без пристрастных целей, но с обещанием при случае незамедлительно и беспощадно такой для нас важной уликой в полной мере воспользоваться. Ишь, ты! Ладно, там еще какой-никакой Шерлок Холмс холостяк. Да ведь он – гений! Уникум вроде нашего инфернального ботаника. Исключение, да и то, кажется, все-таки потом женился. Верных сведений на данный счет под рукой не найдется и неважно – Ватсон-то уж точно женился, и вот тут как раз надо оговориться, что наши бескомпромиссно-отрицательные суждения относятся именно к выбранной позиции, а не к людям, оказавшимся в подобной ситуации волею непреодолимых обстоятельств. Уж не дураком ли я себя выставил представленным объяснением? Подыми обсуждаемого старичка ночью со сна и спроси его, что лучше: семья или одиночество? В идеале семья, уверен я, ответит непроспавшийся хрыч, не задумавшись, и, в результате, выставляюсь я на собственной выставке не в безупречном освещении умственных способностей. Впрочем, вот вам еще повод убедиться в моем беспристрастном бескорыстии и полном отсутствии личных интересов в мною же и проводимой и обеспечиваемой труднейшей и опасной экспедиции за, не буду скромничать и лицемерить, истиной для возможного общественного блага и с гуманными целями добычи недостающего материала для новых исследований некоторых белых пятен на карте человекознания.
Итак, читатель, пройден еще один сложнейший и обидно-микроскопически (о, вспомнил – спасибо и до свидания, Николай Семенович!) мало-придвинувший к генеральным целям отрезко-отрывок невиданного по размаху замысла труда. Однако он позади, и мы устремляемся дальше вперед и верим, что дойдем и добудем, и… как там у нас выше сказано? Сказано: не буду лицемерить. Эх, не хватает мне условий и верных квалифицированных помощников, чтобы лучше удерживаться от изредка прорывающегося паясничания! Ну, да в целом, если и вредно оно кому из толкущихся на площадках и дорогах экспедиции, то лишь одному из них, зато самому деятельному и незаменимому участнику и вдохновителю! Умные поняли – verbum sat sapienti, а дуракам не наобъясняешься. А бессребреническая святость указанного вдохновителя, равнодушие к славе и великодушная жертва тщеславием широко и неоспоримо известны, а теперь и подтверждены первыми успешно пройденными этапами с открытиями и находками уже доказавшими верность предыдущих теоретических обоснований в крайне-срочной необходимости авторской экспедиции. Так что разберется сам вдохновитель с этим паясничанием, нейтрализует вредно-побочные его воздействия и сохранит терапевтический эффект для героических своих сотруженников!
За работу, ваше благородие!
Так-с! Кого мы теперь представим пытливому оку верного читателя, благосклонно сдерживающего буйное нетерпение добраться до фабулы невиданно-разрекламированной, небывало-значительно анонсируемой и столь щедро-трескуче авансируемой, что вне зависимости от других результатов невиданного в литературной истории предприятия, провал или успех этой, хранящейся пока в непроницаемой тайне, фабулы, одинаково мощно станет ударным бойком общественного взрыва, но, куда понесет нас неизбежная стихия или куда она поведет не может даже предположительно ответить ни один из многочисленных экспертов, уже не первую неделю ломающих головы над открытыми в абсолютно свободном доступе и уже значительными материалами проекта.
Некоторые специалисты даже подозревают бесстыдно-кликушески декларирующего бескорыстие главного автора в изощренной схеме многоходовой менеджерской спекуляции на стремительно возрастающем всеобщем национальном нервяке. Подозревают в оконцовке аферы, жульнически-быстро превратившейся из мелкой в гигантскую, бесследное исчезновение заводил со всеми (уже сейчас огромными) деньгами с надрывающим животы выхохатыванием тупых, угрюмых и неповоротливых кузьмичей-обывателей и их облапошенных защитников. Впрочем, какие там животы? Цинизм художественного руководителя графоманской аферы, шельмовским образом получившей государственное финансирование, теперь не вызывает сомнений и у его самых горячих поклонников или влиятельных покровителей. Ему даже власть не нужна! Не нужны никому единолично и такие громадные деньги – на одну десятую этой суммы пятьдесят лет можно обеспечивать все население земного шара, включая любые индивидуальные капризы и пожелания излишков.
Граждане! Вас не раз уже обманывали всякие способные проходимцы! Будьте бдительны! Бодрствуйте! Что же среди нас не нашлось ни одной, равной безродному выскочке, головы? Ничего, мы не зря строили новое общество и не собираемся сидеть, как бараны на заклании и ждать катастрофы, уготованной нам хитрым, коварным и беспощадным клоуном-аферистом!
Из доклада главного аналитика Верховного Ученого Совета.
Дополнение к докладу главного бухгалтера Верховного Ученого Совета.
… Я знать не знаю, да и не стремлюсь узнать, что такое фабула, о которой заполошно орет уже несколько недель вся страна от уличных мальчишек до первых государственных лиц. Я не лезу в чужую епархию и не стыжусь признаться, что ни в зуб ногой в хитросплетенных, закрученных, сложных и недоступных для понимания гуманитарных проблемах, внезапно и страшно, как цунами с землетрясением и селем, в мгновение ока снесшим все наши, в том числе и святые, устои к растакой-то нехорошей бабушке! Прошу прощения – эмоции хлещут через край от жестокого в своей нераскрываемости фокуса и нелюдской мгновенности обесценивания и нас и всех наших достижений! Эх, не буду я больше рассусоливать общее горе, но, используя обломок раздавленной насмерть копытом бездушной стихии (о, горе! вот она невиданная чума гуманита…гуманита…тьфу!), царицы точных наук… скорее слушайте и смотрите, что показывает и говорит последний калькулятор здравым и одно-смысловым языком…
Вот, что говорит этот, тоже уже умирающий, последний герой техно-сопротивления несмышлено-революционным убийцам-фанатикам, завороженным и направляемым зомбическими песнопениями стальных, беспринципных и безродных гуманоидов, свирепых клоунов и жутких фокусников:
…так называемая, сведшая в одночасье со светлого пути точного разума во всеобщую и теперь неизличимую эпидемию гибельного удовольствия взаимоисключающих толкований, бесплотная и невидимая фабула, по последним в мировой истории отчетам аналитиков, дает шансы один к трем оказаться преступно-виртуозно изощренной выдумкой сегодняшних звезд-аферистов и только один призрачный шанс, что гуманоиды не наврали и фабула, явившись из мрака небытия, в мгновение восстановит всеобщее повреждение в умах и механизмах. О! Я проклинаю свою кончину! О, я позорно умираю презренным гуманитарием!
По залу Аналитики в полной тишине разносится звук негромкого щелчка, и главный бухгалтер, сквозь рвущийся из глаз, как из лопнувшего пожарного шланга, поток слез, всхлипывая и горестно шмыгая, объявляет:
– Калькулятор умер!
Аналитики оседают на своих местах с бессмысленно выпученными глазами не в силах ни говорить, ни шевелиться и только нездоровое сопение сотни людей слегка оживляет неприличную атмосферу, поголовно потерявшего от умственной слабости все приличия, помпезного зала.
Экран телевизора гаснет.
Отлично! Теперь не только Главному Вдохновителю всеобщего ужаса и его неизменно-верным сотрудникам нет пути назад! Теперь никому нет пути назад! Там, где назад – ничего нет! Вот оно – вдохновение! Вот они его, предполагаемые много веков, волшебные свойства. А не выдержавших напряжения грандиозной перемены после окончания всех работ устроим всем Советом в тихом комфортном местечке и даже разрешим иллюзию аналитики.
Да, все отлично, но это лирика, постоянно останавливающая маховой шаг трудовой солдатско-пехотной прозы и удлиняющая путь к нашему с вами торжеству. Как же от нее хоть временно избавиться? Жаль все же, что лирика неточная наука! Помогает она нам, спору нет, но теперь прошла пора креативных обсуждений и ошеломляющих новизной открытий. Теперь более всего нужна дисциплина! Чувствуя это, несколько солидаризируюсь с погибшим калькулятором и проклинаю своих братьев-гуманоидов за фанатичное, принципиальное и невышибаемое презрение и звериную ненависть к единственно-спасительной безукоризненной дисциплине!
Ладно! Тьфу на не избегнувших заразы внезапного слабоумия и не отличающихся от собратьев-точечников, математиков и аналитиков, но зато еще и потерявшими всякий страх и стыд от упоения властью. Неужели здравый смысл и воля к работе остались у меня одного? Такой вариант предполагался с самой малой долей вероятности, но вот на тебе! Лотерея в обратную сторону! А если и у меня откажет котелок – мозги-то все время плавятся на грани перегрева от охватившего двуногих животных букета невиданных эпидемий психопатии, парализации воли, беспричинной трусости и столь же беспричинно-бесславной храбрости и махровой в своей полусгнившей от срока давности всеобщей анархии! Ну, скажем, котелок у меня не откажет – он крепкий, но если вся эта, переставшая быть людской, масса не выздоровеет и не вернет себе человеческий облик, пока я сам в одиночку выволоку проект, все гуманитарные достижения для человечества, превратившегося в мычащую кашу, будут не нужны, а лично меня так и вообще беспокоил только один пункт программы открытий – чистота эксперимента. Если все произойдет по изложенному бесплодному прогнозу, вот уж действительно наслажусь в полной мере стерильной чистотой, погубившей интеллектуальным перегревом неготовые к не таким уж серьезным перегрузкам коробочки мозгов и механизмов! Уж это предусмотреть и заранее принять меры по борьбе с эпидемией ничего не стоило. Проклятье! Я и сам такой же гнилой гуманитарий, с пол-оборота забывающий о дисциплине и непроизвольно-неконтролируемым сознанием впадающий в омут бессмысленной, а в данных обстоятельствах просто самоубийственной лирики. Однако умирать я не собираюсь – при всех моих откровенных недостатках, присущих презренным гуманоидам, проклятых покойным калькулятором, я не камикадзе и имею одно, но очень важное отличие от многих коллег-собратьев – я не боюсь неведомого.
Мне, как всякому нормальному человеку, присущ страх, а в паре-другой сложных и плохо предсказуемых в развитии ситуаций чуть бывало случалось не охватывал гибельный ужас, но я усилием воли подавлял безумие и заставлял себя, дрожащего как осиновый кол (или осенний лист?) и посекундно сотрясаемого пароксизмами непреходящего напряжения, принимать относительно здравые и, во всяком случае, спасительные решения.
Теперь, наконец, заткнись, вдохновитель, и работай один и вообще сильное преобладание страха над остальными чувствами у гуманоидов еще может вернуть часть собратьев к полноценной жизни. Сейчас храбрость, беспричинно охватившая недоделанных лириков, будет отступать и начнет возвращаться здоровый страх, а я вовсе не единственный и не самый храбрый из нас, так что, надеюсь, часть коллег все же выздоровеет, а не перелетит в полной бессознанке в губительный мрак панического ужаса.
Однако, до фабулы еще очень далеко и представлены, да и то не полностью, всего три фундаментно-образующих персонажа-элемента.
Тэк-с! Теперь наскоро оглядимся назад на, усеянную словами, пачку листов рукописи, опухшую от лихорадочного перенапряжения, затерзавшего ее крахмальную в прошлом белизну главного вдохновителя и лучшего друга всякого своего читателя!
Осмотрели архив?! Ну, и как тебе, вася?
Тяжелый-тяжелый вздох в ответ не на шутку встревожено-взволнованному внутреннему голосу. И, через долгую, мучительную для беспокойного автора паузу (фамильярно и без улыбки):
– Сойдет, не менжуйся.
Славно для первого раза! Можно, стало быть, ваше сиятельство, пылить себе дальше с чистой совестью по воображаемому холодку и фатальному бездорожью.
Г л а в а П о В с е й В и д и м о с т и Ч е т в е р т а я.
Неужели? Неужели добрался не позволяющий себе утомляться, далеко, между прочим, не молодой автор до четвертого участника неуклюже, как старый автобус на узкой дачной дороге, разворачивающихся грандиозных событий? Нежно сообщаем всем нашим доброжелателям, что это будет участница. Еще одна. Да, уважаемые, женщина! У нас тут тебе не «Великолепная семерка» все же, при всей ее тематической американо-крутизне, а русская, надеемся, литература, традиционно и заслуженно славящаяся глубокими образами разнообразных представительниц прекрасно-слабого пола.
Стоп! Опять навязчивая измена, будто выпала ценная мелочь из влекомого нами по ухабистым колдобинам кузова любимой работы, не сильно упруго еще набитого ценностями и оттого опасно в нем не закрепленными общей притертостью. Да, нет – все на месте. Все равно стоп. Лучше сейчас, пока на берегу, договориться о точном количестве участников автопробега. Мы уже, заметим, давно не на берегу, да и никаких ни берегов, ни краев здесь не видно, однако, предлагаем для сохранения традиции и поддержания ясности остановиться на привычной уху и глазу цифре «семь». Она и сама по себе цифра хорошая, счастливая и вообще красивая, а уж для количества участников вовсе идеальная в своей драматургической ассиметричности. Столько подобрал доводов, а никто и не возражает, все молчат и ждут продолжения.
Она всегда была взрослой. Не подумайте чего плохого, типа, будто она уроженка почернелого кривого барака в Марьиной Роще, под завязку набитого отпетыми скользкими уголовниками и их равнодушными и жестокими к детям хриплыми марухами. Ничего даже близко подобного.
Семья жила в чудесно-надежном сталинском доме на улице (ну, какая разница?) на хорошей улице, в просторной и по-гайдаровски неизменно светлой квартире.
Папа считался каким-то высокопоставленным военным, но они с сестрой никогда не видели его в форме. Она, красивая, благородно-мышинная и нарядно-толстая всегда висела на собственном месте в лакированном дубовом шкафу с громадным, высоким и английски-глубоким зеркалом в центральной створке. Форма покидала шкаф только раз в году, когда переезжали в начале лета на дачу и возвращалась обратно на свое место, когда папа перевозил маму и девочек домой к близкому уже Первому сентября. Форму возили с собой на всякий случай, наверное, а может, так было положено по уставу, женская половина, точнее треть четвертых, семьи этим не интересовалась, а саму форму уважительно любила за ее объемную важность, внушительную респектабельную стабильность и некичливо-спокойное аристократическое превосходство перед всей многочисленной гражданской одеждой.
Папа являлся этаким почетным генерал-лейтенантом, просто оттого, что преподавал в Академии (может Бронетанковой или ей подобной) будущим полководцам какую-то редкую дисциплино-науку и приходился чуть ли ни единственным на всю Европу специалистом по ней, чем вызывал одинаково сильное уважение и у званных курсантов, и у высшего партийного руководства, да и у всей военной Европы, скорее всего, потому что представители всяких, приезжавших в Москву делегаций, часто приходили к ним в гости в своих и по-своему внушительных чужой незнакомой важностью формах.
Девочки не любили долго сидеть с этими чопорными, прямыми, как доски, и с, не по-русски зализанными, прическами, гостями и почти сразу убегали в одну из своих комнат, и уже оттуда отдаленно слышали, как папа спокойно и ровно разговаривает с гостями на всех их языках, и, иногда, негромко и нераскатисто, но искренне, заразительно, долго и необидно смеется вопросам заграничных генералов, почему-то поголовно, несмотря на разные мундиры, похожих на гвоздей без шляпок.
Папа и сам часто куда-нибудь ездил и привозил девочкам из поездок до того волшебно-красивые, невиданные, драгоценные игрушки, что сестры не сразу могли поверить в их реальную взаправдошность, потом не могли поверить в неизмеримое счастье обладания такими чудесами, а дальше не сразу играть с ними свободно, неестественно не по-детски оберегая сокровища от маломальской царапины. Но проходило время, новые игрушки обретали собственные места, к ним привыкали, они становились родными, но зато теряли восхитительно-волнительные, приводящие глазастых сестренок в сладостную дрожь, свойства бархатно-шелково мерцающей тайны. Однако, папа опять скоро куда-нибудь ехал и привозил новые игрушки еще лучше, в сто раз красивее и такого, никогда не виданного у нас цвета, от высшей-превысшей заграничности которого невозможно было отвести взгляд, а беленькие головы девочек, одинаково заплетенные в косички, сами по себе синхронно покачивались вправо-влево от завихряющихся в них потоков воздушно-легкого кружения.
Папины игрушки восторгали не только его дочерей, но и их, так же необиженных судьбой, подружек из соседних квартир и подъездов.
Маме генерал-штучной-выделки-лейтенант привозил из регулярных поездок ювелирно-драгоценные сувениры антисоветско-изящно уложенные в квадратные, продолговатые, круглые, звездообразные и всякие такие единично-своей формы футлярчики, обшито-обклееные изнутри и снаружи толсто-густыми бархатами всегда разного, но неизменно неподдельно-глубокого цвета, только, кажется, и способного водиться в самых потайных и недоступных местах экзотических океанов. Мама, хоть и никогда не могла, увидев подарки, удержаться от легких критическо-иронических замечаний, порицающих слоновье-мужскую неточность супруга при выборе, на самом деле вовсе и не пыталась скрывать загорающийся внутри глаз, не обесцветившийся и не потерявший жгучей яркости от непрестанной устойчивости привычки, огонек удовольствия. Уголек этого огонька, впрочем, всегда тлел в каждом мамином глазу, готовый во всякое мгновение разгораться от любых подтверждений стабильной незыблемости постоянства вечного счастья.
Мама, кажется, никогда и никем в жизни не работала и такое, украшающее женщину, обстоятельство, сохраняло ей цветущий облик, всегда ровно-доброжелательное настроение общения и силы, силы для дома, мужа и дочерей. Дочери были почти одногодки – родились друг за другом и вторая, та, что понадобится нам в дальнейшем рассказе, была младшей по сути лишь номинально.
Всегда представлялось автору (и, ему казалось, большинству из тех, с кем он когда-нибудь говорил о братьях и сестрах), что старшие, пусть и не намного, дети получают первый безжалостный свинцовый заряд антидетско-взрослой информации с рождением младшего, и их детство, в зависимости от возраста осознанно или неосознанно, с этого момента начинает таять, может быть иногда и не быстро, но все легче и явственнее различимо меняются и уменьшаются еще вчера туго и навечно взбитые беспечно-горячим воздухом клубы разноцветного крема и оползают по краям, теперь уже или скоро сосчитываемых по пальцам, вот только что еще бессчетных слоев торта жизни и их сладостная пропитка начинает сохнуть и испаряться.
Мы говорили про наше и наших знакомых общепринятое прошлое мнение, а после автор видел примеры, опровергающие его или совсем не имеющие отношения к только что описанной трактовке темы.
Короче, всего-то и хотели сказать, что старшие дети взрослеют быстрее младших и вообще менее веселы и беспечны, а младшие долго-предолго наслаждаются безответственностью, бесконтрольностью, безыдейностью и прочей приятной эксклюзивностью маленького, оставив большому сомнительную радость чести несения ранних обязанностей.
В генеральской семье с детьми ничего подобного описанному в предыдущем абзаце не происходило, как не происходило и ничего противоположного. У них все вышло по-своему. Девочки по взрослению и возрастанию просто влились в женскую составляющую дома, сложившиеся-устойчиво укомплектованную мамой и домработницей.
Папа, несмотря на множество подчиненных адъютантов, курсантов, шоферов, преподавателей и секретарей, никогда не стремился к чьему-нибудь из перечисленных возле себя постоянству. В отличие от мамы, заведшей себе навсегда одну верную наперсницу-домработницу, органически вросшую в дом и сросшуюся всеми корнями и ветками с семьей до гробовой неразрывности, папа неуклонно избегал предпочтений личностям подчиненных, пользуясь их, положенными по статусу, рабочими и бытовыми услугами исключительно как необходимыми функциями, при первом проблеске личного твердо и скоро меняя самих их человеконосителей. Элитарное положение в обществе и ответственный труд не позволяли ему обойтись без многофункциональной обслуги, но незапятнанная этика советского человека не допускала никакого неравенства, невзирая на любые исключения самых объективных предпосылок.
Феодальное приобретение мамой постоянной прислуги папой при всем том никак не комментировалось ни вслух, ни про себя. Он вообще не вникал в дела женщин по обустройству дома, хозяйства и тысяч еще бытовых (и вне) мелочей и крупностей. Не вникал не в силу наплевательской брутальности – мы уже говорили о его выставочной военной сущности, а от мужней тактичности и высокоцивилизованной понятливости к тонкостям сбережения хрупкостей драгоценной семейной атмосферы. Благодаря тем же высоким понятиям папы о правильном бытие, не было во всю жизнь у него никаких связей на стороне, ни тайных, ни тем более явных и никогда не оказывалась семья на грани раскола. Оттого и сам он, и все его женские домочадцы жили в миру и гармонии внутренней и внешней, и девочки до своего повзросления оставались надежно защищены от самой тени вредных впечатлений, способных и в микроскопических проявлениях оставлять рубцы, памятные впоследствии и пагубно искажающие восприятие и толкование образующих человеко-душу познаний.
Старшая сестра тоже всегда смотрелась взрослой. Обе, несмотря на папины аристократично-советские и высоко-демократичные манеры, привычки и поведение, с измальского малолетства хорошо осознавали свое в обществе особое положение. Сначала инстинктивно, видя, что они с мамой много лучше большинства одеты, да у них есть тетя Тоня, да и тетя Тоня тоже вполне прилично выглядит, одевается, ведет себя и разговаривает. Годы роста ступенчато добавляли к инстинктам осознание. Первым делом, высоко-дисциплинированные и внешне, и внутренне сестренки осознали ответственность. Только у каждой составились антиподно-отдельные свои: представление, взгляд, поведение и выбор. В целом, полярные, но по логике не наигранной, а полно-подлинной полярности они одинаково представляли себе цель той ответственности, но направления так разнились, что случались несколько-недельные максималистские недоразумения, вплоть до того, что они не разговаривали, но все же они были родные и единого воспитания и мирились.
Старшая классически защитила диплом и еще в процессе учебы встретила соответствующего ее семье и нравящегося ей жениха, вышла за него замуж и работала сейчас по желанию раз-другой в неделю-третью, рожала чудесных детей и в каком-то своем виде копировала в организации жизни маму и поживала к ней ближе в реальности, и чаще общалась, и не представляла себе более чем трех-четырехчасовое состояние взаимного несозванивания и обоюдного с мамой отчета обо всех мелочах их высокоорганизованного быта.
Только хоть и приходилась старшая сестра маме ближе и родней и как бы иногда они вместе в неодобрительной тональности ни говорили об отклонениях младшей от генерально-семейной линии, оказалась младшая маме как-то острее-дороже и видела она в старшей родную, милую, но все же обычность, а в младшей присутствовали: сила, единственность и то, что выше всяких таланто-способностей, а именно нутряная, полная, естественная и бесстрашная цельность, притягательная высоко-животной бесстыдно-обезоруживающей приятностью. Их, таких приятных, мало – мама знала и гордилась своей дочкой, и не все до конца в ней понимала, кроме того, что старшая сестра ей вровень, а вот младшая выше. Все, кажется, дети любят командовать, некоторым взрослым это нравится, некоторым нет, наиболее понятливые стараются по возможности беспрекословно слушаться или хотя бы делать вид о том, пусть оно и бывает под час несколько тяжеловато и раздражительно, а наименее понятливые стремятся не просто взять верх власти над безобидным в своих постоянных важных распоряжениях маленьким, а еще и не устают декларативно заявлять ему на постоянной основе об его истинном незначительном пока в жизни положении.
В генеральской семье подобных идиотов, конечно, не водилось, но стремление младшей командовать как-то заметно выходило за тривиальные детские рамки и, хотя, никто ее не одергивал, да и не собирался никогда этого делать, обеспокоенные родители не совсем обычной девочки не раз обсуждали такую тревожащую их странную аномальность дочери и надеялись со временем найти все же безболезненное и не травмирующее ребенка решение для преодоления вполне легкого, а, может, вообще всего лишь просто возрастного недуга.
Время, однако, показало, что они ошиблись.
Читатель! Если ты до сих пор не бросил просматривать наши беспорядочные записки, то, наверное, страшно приустал от затянувшегося до безобразия занудливо-добросовестного представления семерых основных персонажей, кои должны составить будущий каркасный рисунок сюжета, тем более, что никто и не гарантирует его безусловной для тебя занимательности. Однако взятые нами перед нами же обязательства подробной скрупулезности, не дают нам рвануть галопом в фабульную ширь, пахнущую степным разнотравьем, средне-полосным русским лесом, пампасами и льяносами, необъятными просторами континентов, аквамариново-зеленой глубиной океано-морских вод, чистым или хмурым небом и кирпично-асфальтными, бензиново-выхлопными, стекло-бетонными, зато, пронизанными миллионами электрически-энергетических игл воздуха серьезности в абсолютном многообразии, городами, где никакая, самая ничтожная жизнь не проходит даром-зря и всегда доставляет своему обладателю полноценные, в своем ужасе, эйфории или в трудно-добываемой и балансировочно-удерживаемой золотой середине счастья, эмоции.
Друг читатель! А ты никому ничем не обязан, тем более автору, использующему тебя в лично-корыстных громоотводных целях. Хочешь перелистни затяжные страницы представлений и сразу ныряй во всю глубину изощренного сюжета, а хочешь, захлопни, досадно-бесполезно отнимающую время, отвлекающую от (чего у тебя там?) и раздражающую остатки потрепанной нервной системы, книжку.
Автор же, верный литературным клятвам, остается на, не дающем ему соскучиться, передвижном блокпосту и не собирается ни при каких обстоятельствах пренебречь своими обязанностями до окончательной точки над последним и. Он лишь может пообещать стараться в общих интересах сократить до телеграфно-пунктирной сестры таланта описания оставшихся двух мужских и одного женского действующих лиц, чтобы побыстрее перейти к общепринятой форме беллетристики.
Г л а в а П я т а я.
Незадолго до предполагаемых к описанию событий, пятому исполнилось тридцать три года. Сровнялось. Виделись ему в, не одним им любимой и фиксируемой, сдвоенности цифр графически-числительные образы этапных обозначений пройденных или предстоящих периодов. Так он о себе и думал – не оставшихся там позади или прожитых, а пройденных им. Он твердо, без рефлексирующих сомнений, уверенно знал, что вышел выше и лучше большинства человечества и умом, и знаниями, и красотой, и ростом, и физической силой, и самим происхождением, счастливо и объемно сложившимся.
Простите, уважаемые, за «вышел выше», но это небольшая иллюстрация к ценимому номером пятым стиля письма и выражений и вообще чего-то в общем не простого-обычного, а изощренного, вдумчивого, что несколько приоткрывает слабую искушенность пятого в гуманитарных пластах и наслоениях, о чем он даже не собирался догадываться.
Нынешние его товарищи, нужные в, затеянном им уже два года как, предприятии, много более обтесанные в тонкостях тех наслоений, обычно приходили в междусобойно-отдельных обсуждениях «номера пятого» к выводу о полной того неискушенности. Междусобойно не по низменной скрытности, а по обстоятельствам и интересам в свое время и в своем месте буде нами, е.б.ж., описанными. Свои самые крайние мнения и выводы эти товарищи запросто могли в столь же радикальных формах высказывать в лицо и ему, и друг другу, благо у всех троих головы были набиты не только бессистемно набранными ценностями, а еще и стогами соломы и сена и горами мусора, в которых вязли самые ядовито-смертельно-острые оскорбления самодеятельной полемики. Все трое намного больше любили спорить, орать, бегать и жестикулировать, чем трудиться и думать. В любых, легко бросаемых друг другу страшных обвинениях и в нехороших выражениях пришиваемых определениях ничего не находили они кроме повода для попыток проявления достойной словесной находчивости. Удачные попытки искренне приветствовались всеми усиленно-диспутирующими интеллектуалами, а неудачные, если не оказывались смешными, не брались ни в какой расчет с полно-беспечным наплевательством и сразу бесследно таяли в хаосе нагромождения разговоров, да и внимание троицы переключалось с предмета на предмет с такой бездумно-парадоксальной скоростью, что самые поводы к острым репликам сами себя в других опровергали. В целом, каждый из них был доволен собой и остальными и вся компания сама себя любила и находила большое удовольствие и веселье в собственном составе. Друзьями они себя принципиально-расчетливо не считали, чтобы никто никому ничем не был обязан, да и любой из троих по разным предпосылкам знал о себе, что он, такой выдающийся, на всем белом свете один и не чета остальным двум, получившим всего лишь временный билет на право входа в закрытый клуб спутников по сегодняшнему, не определенному пока в длине и широте отрезку, для по мере возможного избегновения на нем одуряюще-безпейзажной пустоты, депрессивно-неотшелушивающейся скуки, а то и уныло-гибельно-внятной в безбрежной безудержности тоски, справедливо-диалектически присущей иногда не в меру нервно-развитым и непроизвольно-перефилософствовавшим натурам в сизифовых поисках, подобающего им по способностям, места и, соответствующего амбициям, жизненного положения.
Впрочем, нам с вами, читатель, вообще не нужна эта компания, заранее жестоко-обреченная стройной логикой поступательных развитий и законами возвратных отдач на непреодолимо-косвенное всего только участие в пунктах толстеющего людьми и событиями сценария длительных феерий многоцветного праздника, разворачивающейся во всю гладь и высь обширной нашей повести. Слегка задержались мы в подробностях описания ее особо окрашенных отдельно-банальностей по уже не раз дружно порицаемой выше нами и вами дурной привычке к подробно-честной скрупулезности и старомодно-прилипчивой тяге к никому уже, как и нам давно, не нужной обще-вникновенности, но вынужденно-присутствующей хотя бы лишь для подтверждения цеховых прав и ремесленной порядочности литературного работника.
В небольшое оправдание нашего малопрактичного почтения к атавизмо-обычаячм отечественной (да и не только) письменности заметим все же не полную лишнесть легкой обрисовки элементов сферо-ауры проживания нужного нам номера пятого в нужном нам пространственном времени, объективно заданном для совместных наших с вами невиданных доселе многоступенчатых опытов в специально ограниченном анклаве-вакууме.
Эй, отцы-полководцы, соберись с мыслями! Где мы там позабыли полноправного нашего пятого? В дебрях путанных оправданий, коллеги, да в непролазных болотах лирических, лингвистических, фразеологических и прочих отступлений от правил. Между тем, речь у нас тогда зашла о «вышел выше» и безобидное созвучие своротило с единственно-верной дороги все наши колонно-стройные кадровые порядки и раскидало их как попало, неорганизованно-разночисленными группами, по ненадежным анархистским тропам авосьной партизанщины.
Стало быть, пятый наш твердо знал, что вышел выше и лучше большинства человечества. Умом, знаниями, красотой, ростом, обаянием, физической силой и самим, счастливо и объемно сложившимся происхождением. Счастливо сложившимся не означало в его случае идиллической безоблачности, а совсем наоборот, на едва начавшую осознавать себя личность почти младенца и его до эфемерности тонкослойную психику обрушились недопустимо-тяжеловесные в отчаянной откровенности сведения и опыты, неожиданно вспыхнувшей и мгновенно неугасимо-широко разгоревшейся под свирепыми ветрами непримиримых противоречий, семейной войны.
Подробности тех давних, только внешне не кровопролитных, событий пусть живут лишь в мемуарной памяти извлекших из них уроки пользы и практические выгоды участников и их, оставшихся безъимущественными инвалидами, неудачливых оппонентов. Взорвавшаяся гражданской войной семья являла собой до катастрофы многочисленный, но очень молодой, не успевший окрепнуть клан, совсем недавно, в первом, втором только поколении рожденный из случайного слияния двух полярно противоположных представлениями и понятиями ветвей: кадрово-наследственной номенклатуры и врожденно-потомственной торговой династии.
Торговая династия издавна инстинктивно и копимо-прибавляемо по крупицам в поколениях обладала в каждой своей особи умением, обратившимся уже в мастерство, невыкорчевываемо-крепко стоять на земле, не брать чужого за гранью опасно обидного, не разбазаривать, а помалу, но неуклонно приумножать свое, а если и отдавать или делиться кровным, то лишь по разумному, неизбежному компромиссу выживательного инстинкта, лишь с равными или более сильными, чтобы избежать чреватых непоправимым уроном столкновений. Слабым же не давать крепнуть, не давать им объединяться без всяких, ложно-совестливых и опасно-враждебных жизнеобразующему делу, человеколюбивых уступок. Вовремя разгадывать их коварные замыслы, и безжалостно, вплоть до уничтожения, разрушать ухитрившиеся объединиться скрытые альянсы, последовательно не выпуская за площади системных ударов ни одного, пусть самого жалкого и хилого противника, пока в нем остается хоть бледный намек на мизерную опасность.
Другая породнившаяся ветвь, из высокопоставленных государственных управленцев, являлась в подлинной сути рыцарским родом, где, невзирая на преобладающе-красный цвет, большевистский антураж зарождения и развития и декорации рабоче-крестьянского государства, фундаментально-каркасные, крепящие и несущие узлы и опоры ничем не отличались от основополагающих ранне-средневековых составляющих дворянской фамилии-обладательницы личного, овеянного славой и обильно-честно смоченного благородной кровью, символического герба.
Сколько точно ему было лет, когда они остались жить вдвоем с матерью, за истечением срока давности не имеет для нас принципиального значения. Почти сразу после столбовой этой эпохальной вехи, во всяком случае, в прилегающие к ней год-два, он начал заниматься водным поло, серьезным, тяжелым спортом, требующим от спортсмена полной отдачи, больших и продолжительных тренировочных нагрузок, концентрированного и практически постоянного физического и морального волевого напряжения. Утомительный, по-настоящему тяжкий спорт, наделяющий в дальнем последствии своих приверженцев в награду за трудовую верность, навсегда железной волей, стальными мышцами, неубывающей силой, каменно-прочным и вечным здоровьем и в придачу бонусом, естественно сложившимся благодаря перечисленным приобретениям, а именно: неизбывной твердой уверенностью в себе, своей полноценности и органично развитой личности, обладающей неиссякаемым запасом всесторонних ресурсов для преодоления любых по степени сложностей и достижения всякой, заданной себе, высокотрудной цели.
Он начинал ходить на тренировки, не придавая им большого значения, по мальчишьей инерции с одноклассниками и дворовыми друзьями. Однако все они по мере возраставшей серьезности и постепенного появления других интересов покидали команду и из всех, когда-то вместе сюда пришедших, он остался один, из чего тут же автоматически составился у него в сознании символический, лестный о себе вывод. Привычка к таким фиксирующим выводам-формулам, неизменно поддерживающая культивируемый им, так называемый комплекс полноценности, появилась у него то ли незадолго до этого случая, то ли сразу после. Особенно нравилось ему и тоже приплюсовано занесено в реестр, что он не прилагает усилий к поисковому обдумыванию данных формул, а просто безотказно и бесшумно срабатывает программа, самостоятельно в нем и сложившаяся, и выдает вечно занятому хозяину только готовый результат, а потом так же корректно убирает его в, нелезущие на глаза, хранилища. Счастливая эта особенность его мозга сохраняла в нетронутом виде его нервы и позволяла практически всегда пребывать в бездумном, беззаботном и веселом расположении духа, включаясь в проблемы, предлагаемые иногда действительностью, лишь по сущей необходимости и на ровно нужное время. Он не любил и не желал ни на что, кроме водного поло, до поры до времени заморачиваться. При этом мозг его не дремал и регулярно хватко цеплял и обрабатывал потоки нужной и ненужной информации с помощью уникально-волшебной программы.
Развод матери с отцом никак не лишил пятого общения с последним, с годами, по мере взросления, становившимся все более для мальчишки, а затем и подростка, выгоднее. Папа стабильно покупал ему редкую одежду, привозил подарки из-за границы, давал, не торгуясь и никогда не выясняя на что, деньги. На четырнадцатый день рождения папа подарил ему роскошный и необыкновенно-красивый желто-зеленый японский мотоцикл «кавасаки» и он ощутил себя просто счастливым сказочным принцем, тем более, вокруг него были постоянные тому многочисленные подтверждения. Среди мальчиков, например, либо молчаливая, но не могущая остаться тайной, зависть, либо открытое соперничество, украшенное грубыми мужскими обоюдными шутками. Но где же им стало возможным бы с ним тягаться! В одежде и обладании бесчисленными заграничными мелочами его и не пытались догнать, а в лучшем случае самый из всех оборотистый мог раздобыть с помощью целой серии хитроумных комбинаций бэушный мотоцикл, да и то с ним приходилось регулярно возиться, скручивая, откручивая и снова прикручивая, прогоркло пахнущие не новой техникой и пачкающие руки маслом, солидолом и еще чем-то серым, детали. А «кавасаки» никогда не ломался, даже по мелочам, и всегда сохранял свою нарядную респектабельность, несмотря на самые дикие приключения юного хозяина и вопреки его крайне неделикатному отношению к своему двухколесному имуществу. Пятый любил ездить, но любил не мотоцикл, а то обстоятельство, что он у него имелся. Он не собирался заморачиваться из-за, пусть дорогого и красивого, но всего лишь куска железа. Молчаливые мальчики, не умеющие радоваться счастью товарища, только скрытно скрипели зубами от бессилия перед полным его превосходством, дополнявшемся безотказной постоянной возможностью для всех желающих кататься на «кавасаки» сколько и куда вздумается, что все равно никак не влияло на внешний вид и ездовые качества чудо-машины. Сам он катался все реже, только если просили покатать, не скрывавшие восхищения, девочки. Скоро мотоцикл и вовсе ему надоел, и сильно захотелось машину. Он оказался не байкер, и лично-уникальная программа зафиксировала это отдельным пунктом. Правда, приобретенные виртуозные навыки езды он не терял и, если случались неизбежные соревновательные случаи, где нельзя было уступать, соперничать с ним получалось бесполезно. Он вообще-то не любил ни в чем проигрывать и никогда практически не проигрывал, наделенный щедрой природой помимо остальных блестящих достоинств еще и удачливостью, но если бы вдруг и проиграл, не заморочился бы ни на секунду. Так он от рождения оказался счастливо устроен.
И с отцом и с матерью у него сложились ровные, бесконфликтные отношения, да и собственно он не доставлял им ни беспокойств, ни неприятностей, никогда не напивался на подростковых вечеринках, не попадал в некрасивые истории с девочками и не держалось у него от родителей тайн, и курить он начал открыто, впрочем, совсем немного и редко. Он даже сумел, не прилагая никаких усилий, помирить между собой своих родителей и они, после стольких лет холода, стали общаться, простили и позабыли давние обиды и крепко по-человечески подружились, а безотказная программа зафиксировала еще один, необычайный для других, но не для него случай.
Несмотря на отсутствие поводов для родительских нареканий, он совсем не оставался домашним ребенком и с удовольствием изобретательно-действенно участвовал в многочисленных дворовых, в том числе и полукриминальных, приключениях и развлечениях, да и вообще любил проводить время со своей компанией просто бесцельно посиживая во дворе и никто никогда не увидел от него даже тени намека на значительное социальное неравенство. Он умел дружить, а благополучие сделало его щедрым.
Как-то во двор заехал его респектабельный папа и, выйдя из машины, демократично сам подошел к бездельничающей компании и даже поздоровался с ближайше-сидящими за руку. Перекинувшись парой незначительных фраз со знакомыми пацанами, которых встречал в доме сына, папа спросил где «кавасаки». Сын спокойно ответил, что продал его, потому что срочно понадобились деньги, у мамы не нашлось, а папа оказался в этот критический момент в очередной командировке. Папа спросил на что потребовались деньги. Оказалось на какую-то помпезную и дорогую вечеринку, практически всю оплаченную его сыном-подростком. Папа задал еще один вопрос о сумме, вырученной за мотоцикл, и, получив ответ, по настоящему вдруг сам себе удивился. Ну, ладно он не сердился, но не возникло в нем и никакой досады и глубоко оказалось наплевать на «кавасаки», хоть он и пытался сказать себе, что это непедагогично, но о какой педагогике могла идти речь, когда перед ним сидел со своими друзьями и даже не всегда смотрел в его сторону совершенно самостоятельный и очень, до гордости, нравящийся ему красавец-сын. «Кавасаки» остался сразу забыт навсегда и неслабохарактерный папа вместо хотя бы формального порицания подросткового своеволия, да еще оплаты сомнительной и слишком роскошной для подростков вечеринки, в тот же день принялся обсуждать с сыном детали скорейшей посадки того за руль собственной машины, чем привел парня в восторг, а себя в умилительно-расстроганное состояние счастливого члена именно этой семьи, где его любили и не за подарки, хоть и неподдельно им всегда радовались, а просто все они трое удались одной и той же, крепкой, здоровой и цепкой породы и их, укоренившееся вдруг с годами родство оказалось естественным и до чего же приятно они, забыв о времени, втроем бесцельно посиживали и не то чтобы беседовали, но и не молчали, и все выражало установившуюся, наконец, нерушимо гармонию, принадлежавшего всем им общего счастья. Изредка все же ответственного папу слегка укалывала каким-то образом застрявшая мысль о непедагогичности, но он неуклонно отгонял ее, назойливую и неуместную, и вскоре она исчезла и с тех пор уже никогда не вернулась за ненадобностью.
Наш пятый к моменту этих знаменательных посиделок уже оставил навсегда водное поло, здраво рассудив, что они со спортом в расчете, а становиться профессиональным ватерполистом он не желал, справедливо и на фактах размышляя, что подлинного успеха добиваются единицы, кладя на жертвенник достижений живот, безо всякого переносного смысла. Основная же масса вяло телепается в середнячках всю свою спортивную жизнь и, как правило, при уходе из спорта, и те, и другие остаются без здоровья и денег, без семьи и друзей и лишь самые счастливчики ухитряются получить тренерскую работу, тоже не слишком обычно благодарную.
Не желая себе такой обреченно-унылой судьбы и с легким сердцем оставив спорт, он вдруг сделался непривычно свободен и не сразу привык к новому вольному режиму без жестких рамок часов и минут, зато, привыкнув, с таким полным удовольствием оценил всю его прелесть, что теперь и под расстрелом не заставил бы себя вернуться к постылому расписанию.
Вскоре папа купил ему машину, совсем простую пока, пояснительно оговорившись, что это на год для учебы и привыкания. Пятый не впадал в претензии, сразу полюбил и такую, просто за то, что она своя и весь последний школьный год уже проездил на ней, получив через папиных знакомых юношеские права. Неказистая машина нравилась ему в сто раз больше роскошного мотоцикла. В нее набивались, как в гости, друзья и подружки, там играла музыка и не шел дождь, а развлекать себя экстремальной ездой и захватывающими водительскими фокусами в машине получалось ничуть не менее увлекательно, чем на мощном «кавасаки». Машина, никак для того не предназначенная, носилась на немыслимых скоростях по не слишком ровным полям, скатывалась с лестниц и так же безотказно закатывалась на них, прыгала с метровых парапетов, без комплексов соревновалась на трассах с любыми иностранными многоглазыми монстрами, а пару раз вообще героически уходила от погони разъяренных гаишников, не решившихся, однако, вихляться по кривым переулкам на предложенной скорости и не скидывать газ на виражах поворотов в немыслимо узкие арки, в которые и на тихой-то скорости желательно всем въезжать осторожно. Никаким боком не соприкасаясь родством со своим японским предшественником, машина унаследовала главное его качество переносить любые потрясения без последствий, что и с «кавасаки»-то при некоторых особых случаях вызывало изумление, а уж с этой машиной было просто чудом, но счастливый ее владелец не сильно удивлялся, он же знал, что везунчик. Ее наш пятый уже не давал беспечно всем подряд кататься не оттого, что испортился характер, а оттого, что это была настоящая машина, а не легкомысленный мотоцикл. И любил он ее соответственно больше и никогда бы не продал за треть цены ради какой-то сомнительной вечеринки. Впрочем, он, по своему обыкновению ни на чем этом не заморачивался, а так себе фиксировал и, в целом, машина представлялась ему таким же куском железа, как мотоцикл.
Между тем, школа подходила к концу, а к осени ему исполнялось восемнадцать, но он никак не мог выбрать институт, испытывая ко всем возможным вариантам одинаковое отвращение. Он заглянул, просто чтобы присмотреться, в несколько творческих и технических институтов, заезжал в МГУ и МГИМО и вдруг, наверное, впервые в жизни почувствовал себя абсолютно несчастным от мрачной неизбежной перспективы идти в любой из них; все они без разницы показались для него убого-одинаковыми, и ни один не стоил сомнительного удовольствия ежедневного посещения, тем более он даже туманно не представлял себе, кем бы ему захотелось стать. Пробивалась, правда, одна, все время ускользающая мысль, до того абстрактная, что он даже не мог ухватить ее за кончик, чтобы выволочь на свет и рассмотреть как следует. Ему чудился какой-то гибрид, но вот именно только его он и хотел себе в профессию и ради этого сюрреалистического по тем временам чудища даже ходил бы, наверное, в какой-нибудь неведомый институт.
Для себя он называл порождение своей фантазии – творческий бизнесмен, но дальше того его всегда изощренная мыслительная система соображать отказывалась, а он и примерно не представлял круг профессиональных действий своего тяни-толкая и есть ли что-нибудь на него похожее в предлагаемо-обозримой и доступной сети многочисленных и все более ненавистных ВУЗов, ВТУЗов и прочих, бессмысленных и жалких, заведений.
Однако неумолимо приближалось крайнее время выбора, необходимо становилось на что-нибудь решаться, альтернативой отказа от поступления могла стать только армия, к которой он испытывал еще большее отвращение, прямо содрогание, чем к унылым институтам с их погаными обшарпанными аудиториями, линолеумным полом кишкообразных коридоров, зачетками и прочей не вдохновляющей атрибутикой.
От непривычного количества переживаний у него началась почти депрессия, дни скакали с бешеным мельканием ускоренной перемотки, а ему одновременно отказали и здравый смысл, и железная воля, и присутствие духа и он бессмысленно катался по улицам, ни с кем не общался, не мог сосредоточиться ни на одной мысли, и, по сути, просто ожидал самой неприемлемой развязки и даже стал слегка пришептывать, сам не зная чего, вроде молился, но не был точно уверен, о чудесном спасении от навалившихся на него бесконечных ужасов.
Первый компромиссный вариант выхода нашел папа. Он велел ему немедленно подавать документы в первый попавшийся ВТУЗ, ВУЗ, что угодно и никогда туда более не заглядывать, а пока получить отсрочку от армии, отдышаться, осмотреться и после на досуге спокойно посоображать, что можно будет предпринять в дальнейшем будущем.
Папа, к счастью, давно уже подвизался в комсомольской, а не в партийной номенклатуре, в чьих семьях неухождение ребенка в армию приравнивалось чуть ли ни к аналогу позорного несчастья или соответствовавшей ему худой болезни и, в любом случае, не попавший в вооруженные ряды юноша вызывал с тех пор стойко-брезгливое подозрение в неполноценности. Ну, а уж хлопоты по избавлению ребенка от воинской повинности приравнивались в партийной среде почти к предательству Родины и вообще не приветствовались чистоплюйские взгляды на армию, как на нечто чуждое и отдельное от партии. Наоборот навечно закрепленным оставался взгляд на армию как на один из самых родственных, почетных и полезных для подрастающего человека партийных филиалов. Конечно, далеко не все в той среде проживали такими упертыми без страха и упрека бескорыстными рыцарями Ордена Боевого Красного Знамени, но у них там, по неписанным принципам партийной жизни, кроме непростых служебных отношений, со многими, никогда бы не понятыми посторонними, обязательными условностями, еще, по издавно сложившимся обычаям практически боевой организации и правилам партийной этики, существовали обязательные к исполнению особенности ну не быта, конечно, но общественного поведения семьи, а наравне и строго не рекомендуемые деяния. Да еще большинство родителей желало детям по наследству преемственности карьеры, а для нее тоже считалось серьезнейшим минусом непрохождение действительной военной службы.
Комсомол находился на много-много порядков ближе продвинут к обще-гуманистическим ценностям человечества и человечности, чем его суровая и косная старшая сестра – Партия. Среди комсомольцев царили свобода, веселье, цинизм, бодрость и молодость и никто не стеснялся своих подлинных взглядов и устремлений. Не публично, конечно, а среди своих. Своими приходились, правда, почти все поголовно, а перед партийными друг у друга понаучились и поналовчились так тонко мимикрировать и, с особым шикарным удовольствием, аранжировать бессовестные спектакли актерским куражом, что, потерявшие всякий нюх, суровые, но доверчивые старички в скромных костюмах, способны могли бы прослезиться от счастья за страну, что не иссякла могучая на таких лихих, до печенок родных, смелых и бескорыстных молодцев.
Старички-коммунисты, сообщи их типичному представителю какой-нибудь доброжелатель разницу в цене его, прослужившего и провоевавшего всю жизнь большевика-идеалиста, костюма и костюма образцово-показательного юнца-агитатора, горланящего на докладе тут у него в кабинете прописные истины и энергично помогающего себе ударами кулака по воздуху – жестом подсмотренным в кино, для начала бы хохотнули антибуржуазной шутке, но когда постепенно жуткий правдивый смысл дошел бы до их сознания, то верных ленинцев, не умерших на месте от несочетаемости с изменившимся миром, охватило бы нечто такое, по сравнению с чем истерика нашего, не желающего нигде учиться, героя, показалась тогда безмятежно-счастливым бабочкино-колибриевым порханием. А так и не видно, не научившемуся за всю свою длинную серо-бурлящую жизнь различать костюмы, древнему хрычу ничего особенного. Видит он – пиджак и брюки не мятые, рубашка свежая, ботинки чищены – аккуратный молодой человек, приятно посмотреть. И тому приятно. Так и расстаются донельзя довольные друг другом.
Допотопно-иссохший дедушка все больше и глубже впадает в старческую медитацию непоследовательных воспоминаний и иногда только, опомнившись, махнет головой, отгоняя, как Одиссей мечом от ямы с кровью, тени, обступивших его, давно покойных товарищей, но тут же забудется и уже другие, не менее покойные товарищи роятся, роятся вокруг головы старца и не знает он, что с ними со всеми делать. Даже мемуары уже лет пять как написаны и изданы, а в этом кабинете он только штаны протирает, инструктируя итак все знающих аккуратных молодых комсомольских начальников. Здравые мысли ненадолго отвлекают живую мумию от созерцания личной галереи. Много у него всегда имелось товарищей и все это оказывались верные, спокойные и надежные люди. Ни один из них не разбирался в костюмах, зная лишь куда его (свой единственный) обязательно надо надевать. В крайнем только случае, если попадал кто на дипломатическую или ей подобную работу, то дисциплинированно учился разбираться досконально в чем угодно – в костюмах и столовых приборах, этикете и винах, языках и коммерции – лишь бы выполнять свои партийные обязанности добросовестно, споро и качественно. А вообще товарищи его отлично, до самых мелких тонкостей, разбирались во всяком оружии да боеприпасах, да картах боевых действий, да ведении этих действий, да запчастях, да тракторах, да турбинах, да механизмах, да еще в чем они только досконально не разбирались, он сейчас и не упомнит, и не желает ничего больше припоминать, а желает теперь лишь решить самый важный последний вопрос, что же делать с этими толпами мертвых ему одному живому? И вдруг находит не пугающий его и вообще не вызывающий эмоций, до того старик уже изжил сам себя, ответ. Это ему надо к ним туда, вот и будет правильно, и они, и он успокоятся.
Не все там, в партии, конечно, такие наивные, как отживший свое дедушка. Попадаются бывает ой какие проницательные и современные, неестественным при том образом, сохраняющие дедовские принципиальности и бессеребренничество. Такие не любят новых аккуратных молодых людей и не верят им и не дадут вывернуться, если за что ухватятся.
Бывают скандалы, вернее бывали. Комсомольцы теперь ученые, бросили дурные купеческие замашки опасных публичных гулянок и бахвальства несоциалистическими достижениями, оставив себе в подмечаемой посторонними части жизни только костюмы, просто они в других уже ну никак ходить не могут – отвыкли и все тут. И вообще, костюм не «мерседес» – к нему особо не придерешься, а глазом пусть косит молодой коммунист, сам же и окосеет. Свободное время комсомольцы тоже проводят не в пример ранешнему более культурно, но не менее весело, да и то сказать, ранее они вроде как вульгарно так воровали, а теперь все стали бизнесмены настоящие, просто не афишируют это перед всякими, застрявшими в прошлом, проницательными. А на их любовь-нелюбовь бизнесменам глубоко наплевать с высокой колокольни, вот лишь не понимают толком этих мрачных филинов, да и то мельком о таком подумают, дернут плечами, скорчат гримасу и забудут. Некогда теперь не по делу думать.
Так что молодой человек в роскошно-дорогом костюме, вернувшись к себе на работу, не идет, как еще бы совсем недавно сделал, развлекать приятелей, пересказывая в лицах аудиенцию у иссохшего дедушки. Он о нем уже забыл. Теперь у всех дела и у него не меньше, чем у других, а посмеяться найдут себе еще в другое время поводы. Жизнь впереди длинная.
Отец нашего пятого номера не уступал молодым людям ни в цинизме, ни в бодрости, зато оказался их постарше и оттого не в пример полезно-опытнее и дела у него вертелись куда посерьезнее, и связи всякие намного размашистее распространялись. Да многие из этих проходимцев, его нынешних коллег-юнцов, быстро забывших, что вчера еще босиком по помойкам бегали, являлись всего лишь энергичными выскочками, попавшими сюда благодаря невероятной пронырливости и благоприятному стечению обстоятельств, а он происходил из потомственного и знаменитого рода, созданного первыми большевиками и перешел сюда работать по впитанному с детства наитию, без которого бы его предки не сумели провести столько успешных эксов и финансировать победную революцию, а их потомки не выжили бы и не сохранили в целости семью в годы чисток и перетряхиваний, да еще удержались у власти и передали ее по наследству. Так и папа давно уже интуитивно чувствовал по разным внятным признакам, что грядет нечто неладное, но он никогда не делал шагов, могущих вдруг перекрыть возможность многоходового, в том числе и заднего, маневра. Нет, таких необдуманно-непросчитанных шагов, способных стать последними, он никогда не делал, не такое у него было воспитание. Он решил ни в коем случае еще тогда не оставаться на партийной работе, но вроде и не уходить из нее, и комсомол получался самым идеальным местом для тонкого и подстрахованного на любые случаи решения и, как подтвердило, быстро, как цунами, накатившее и намного страшнее самых смелых предположений оказавшееся, будущее, выбор в тот раз он сделал верный и своевременный.
Теперь отправив сына подавать документы, папа включился в серьезные размышления о возможных и только и признаваемых им способах универсального решения болезненного затруднения. Да, не придал он ему должного значения – ошибся, но ему никак не могло прийти на ум, что сын с одинаковой неприязнью среагирует на все разнообразные варианты и чуть не загремит в совсем теперь ненужную армию. Партия только внешне сохраняла прежнюю гранитную мощь, а он уже видел, что доживает она последнее, отпущенное ей исчисляемое неполными месяцами времечко и не собирался запихивать в нее на погибель своего наследника. Ну и на кой хер теперь армия? Теперь, то есть уже скоро понадобятся молодым людям для карьеры совсем другие факты биографии. И папа, вынув из рабочего стола внушительный блокнот, присел к телефону и методично принялся обзванивать многочисленных знакомых для сбора информации и точного установления подробной картины устремлений серьезно готовящейся к будущему молодежи. Интуиция и здесь не подвела его, и уже с третьего звонка он нашел превосходный, изумительный, просто волшебный, идеальный вариант и сразу поехал искать своего, избегнувшего ненужной шинели, сына.
Когда, еще не совсем оправившийся от диких переживаний, номер пятый услыхал папино предложение, он чуть не обалдел от непомерного счастья с тою же силой, как давеча от непомерного несчастья и никак не мог полностью осознать реальность чудесного варианта. А папа же, глядя на него, думал: «он же совсем еще маленький, восемнадцать лет, он детка и лицо у него круглое такое, по-детски бесформенное и ничего-то он толком не знает и не понимает, просто вымахал под два метра на своем водном поло, намахал там себе ручищи, а сам реагирует, что на огорчения, что на радости с такой искренней непосредственностью, будто ему не восемнадцать, а три года».
Даже как-то внутри у папы защемило от этих мыслей и от беззащитности этакого на вид богатыря, но он не подал виду и стал себя успокаивать тем, что и хорошо, и отлично, что ребенок, и спешить взрослеть нечего, уж это-то от него не уйдет, а пока пусть воспринимает мир таким вот непосредственным и открытым. Это же счастье! Счастье!
А еще папа подумал безо всякой грусти, что сам он, кажется, никогда не бывал вот таким, да и никаким непосредственным, и вырос в других условиях, и в армию пошел, зная, что для их семьи это обязательно, и как положено-рьяно служил там, осознавая, что он на виду, но и вне службы не мог позволить себе расслабиться в жестком мужском коллективе и остаться середнячком, его бы папа не прослезился от жалости, а искривился бы от презрения к трусости, и он никому не давал спуску и без сомнений вступал в рукопашную с любым соперником и лез так же как в формальные, так и в неформальные лидеры и понимал, что отец даже не похвалит его и вообще ничего не скажет, будто только так и могло быть, а сам останется доволен, что сын такой же, как он и как дедушка. А когда он вернулся из армии, то пошел без единого слова в тот институт, на который ему указала семья как на единственно возможный. Указали бы на другой, пошел бы в другой. Решили бы, что филфак, отправился бы на филфак, а на мехмат, так на мехмат, а лучше всего на юрфак, причем и там, и там, и там одинаково бы добросовестно учился, ну не на одни, может, пятерки, это оказалось бы уже слишком, но родители спокойно могли не сомневаться, что у него нет ни хвостов, ни троек. Да, он воспитывался настоящим партийным ребенком и знал, что такое дисциплина и осознавал ее одной из главных семейных ценностей.
И вот подрос его сын, а он не хочет, чтобы он шел в армию, чтобы там колготился в грубом и примитивном обществе, чтобы бился в кровь чуть не каждый день, защищаясь от постоянных посягновений то на свою честь, то на свое имущество, а то и от с виду беспричинной, но отчего-то лютой агрессии, москвичей в армии, да и нигде не любят, или просто морда уж больно на их взгляд интеллигентная. Тьфу! Ну и зачем ему эти опыты? Может писателем станет, будет ему колоритный материал, набитый под завязку народной фактурой. Да таких книг миллион и еще столько же напишут, пусть лучше у других читает.
Папа вдруг остановил поток антиармейских аргументов и понял, что они с сыном давно уже сидят молча, и размышляют каждый о своем, и оба себя неестественно не чувствуют, а могут так и часами продолжать сидеть вместе и молчать. Хорошо!
Вариант, интуитивно изысканный непотопляемым отцом впавшего в болезнетворное уныние обаятельного недоросля, состоял в предложении тому самым незамедлительным образом собирать накопленные стараниями родителя драгоценные манатки и расколотые стрессом первого столкновения с беспощадной отечественной действительностью нерво-силы, и выезжать на три года в Соединенные Штаты для всеобъемлющего изучения курса английского языка в естественной среде непосредственного обитания природных носителей. Полувысше-образовательные семестры знаменитого университета предусматривали в программе и другие дисциплины,но на усмотрение курсанта, оставляя его в праве и полного отказа от учебы всех прочих предметов за исключением языка.
Сказочное превращение мрачно-безнадежного положения в полярно-противоположное восхитительно-всеустраивающее, и, обещавшее еще к себе приятно-волнительное оформление коллекциями безграничных впечатлений, целебно возродило юношу, чудодейно вернуло прежнюю самоуверенность и цельность и заново раздуло чуть было не погасший огонь честолюбивых мечтаний о неясно-туманно желаемой деятельности творческого бизнесмена. Несомненно-необходимые первые шаги к будущей профессии естественно проходили по полю полноценного англо-языкового овладения, и номер пятый без сожаления доживал сладкие остатки детства на гулко-гранитной, монотонно-серой с выцветающей красной искрой, то пресно-суровой, то истерично-возвышенной, но всегда наивно-однобокой в угловатом идеализме, густо засыпаемой угарными пеплами нескончаемо-начинающихся перемен, покидаемой Родине, нетерпеливо-возбужденно подгоняя медленно сокращавшееся время до лелеемого дня восхитительного переезда в чарующую страну янки.