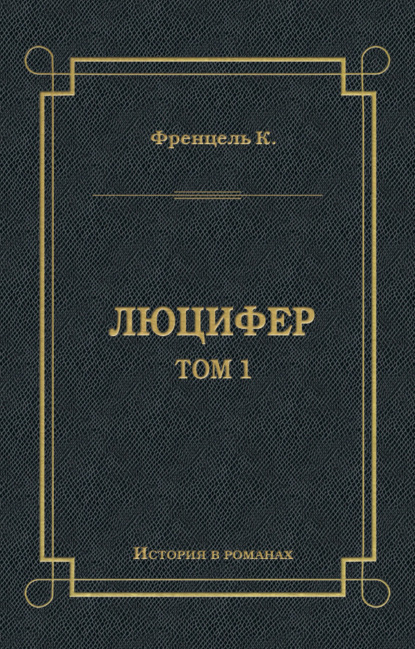скачать книгу бесплатно
Остальное общество не обращало никакого внимания на одинокую пару; одни пили, другие весело болтали с молодыми людьми, подоспевшими вовремя, чтобы разогнать скуку, которую уже начали ощущать собравшиеся гости после многих часов, проведенных вместе.
– Кто на земле может назвать себя счастливым, – сказал Цамбелли грустным тоном, обращаясь к своей собеседнице, – и, наконец, что такое счастье? Если оно обусловливается спокойствием и довольством, то разве оно достижимо для людей? Разве страсть бывает спокойна, и может ли человек удовлетвориться тем, что он имеет, даже если он достиг цели всех своих стремлений? Я бы не говорил с такою уверенностью, если бы люди, достигшие богатства и могущества, научились умерять свои требования. Мне кажется, что из всех в этой зале только один человек близок к счастью.
– Кто же это?
– Ваш дядя, графиня. Помимо его личных достоинств, ума, завидного положения и богатства, он еще пользуется редким преимуществом – желать возможного. Быть может, меня обманывает его внешнее спокойствие и он требует от судьбы больше, нежели она дает ему; но этого не видно. Его жизнь полна гармонии; по сравнению с ним все остальные люди кажутся мне какими-то надорванными, жалкими и несчастными.
– Между тем действительность прямо противоречит вашим словам, – сказала Антуанетта. – Посмотрите на этих людей, как они веселы и как приятно проводят время и вдобавок спят таким непробудным сном, которому можно позавидовать.
– Масса, – возразил Цамбелли, – всегда напоминает мне тех насекомых, которые родятся и умирают в один и тот же день; разве ей доступно счастье, глубина горя, слава, бессмертие?.. Если тупость ума и нечувствительность сердца составляют счастье… то кто же может желать подобного существования! На противоположных полюсах человечества стоят немногие избранные, которые ясно понимают цель своих стремлений и неуклонно идут к ней: на одном полюсе баловни судьбы, достигшие своей цели, с челом, увенчанным лаврами, на другом – несчастные, сгорающие на собственном огне неудовлетворенных желаний; между ними бушует темное и безымянное человеческое море, существующее только для этих немногих избранных. Если бы оно могло чувствовать и сознавать свою участь, то она сделалась бы невыносимой для него. Людей можно разделить на три разряда: одни сделаны из воска, другие – из стали, а третьи – из кожи. Воск тает от солнца, сталь разлетается под ударами молотка, но кожу не берет ни молоток, ни солнце.
– Все это очень остроумно, шевалье. Но я не понимаю, какое вы имеете основание издеваться над обществом и смотреть свысока на все человечество?
– Какое я имею основание! И вы говорите мне это, графиня; вы, единственная, от которой я ожидал, что она поймет меня, потому что знает муку неудовлетворенных желаний и потому что ее душа слишком возвышенна и горда для этих людей…
Видя, что молодая девушка робко отступила на балкон, смущенная его словами, итальянец решился продолжать:
– Нет, я не ошибся, графиня Антуанетта. Вы принадлежите к тем прекрасным, но несчастным натурам, которые не довольствуются обыденной жизнью. Разве может удовлетворить вас однообразная жизнь в одиноком замке, где вы должны довольствоваться исполнением дочерних обязанностей и выслушивать день за днем любовные объяснения добросердечных деревенских юношей, быть королевой среди крестьян; разве эта участь достойна вас! Конечно, она совпадает с понятием о предназначении женщин, которое составилось у вашего дяди и у здешних господ, требующих от женщины рабского подчинения мужчине. Такой взгляд должен возмущать вас, и вы должны рано или поздно разорвать свои оковы.
– У вас богатая фантазия, шевалье, – холодно заметила Антуанетта, – и я не понимаю, как могли вы истолковать таким образом то грустное настроение, в котором вы видели меня иногда и которое было непосредственно вызвано тяжелыми обстоятельствами моего семейства. А если я однажды в вашем присутствии пожелала иметь крылья, чтобы улететь на какую-то звезду, то это такое ребячество, о котором говорить не стоит.
– Если можно назвать ребячеством стремление к лучшей жизни и предпочтение высот перед низменностями. Но вы несправедливы к себе, графиня. Выражение вашего лица противоречит вашим словам. Разве мысль о свободе не улыбалась вам за минуту перед тем, когда глаза ваши следили за облаками… и как будто искали в них решения мучивших вас вопросов? Не думайте, что я претендую на ваше доверие – я далек от такой смелости и помню разницу нашего общественного положения. Только ночные мотыльки летят на огонь и обжигают себе крылья. Но мне не хотелось остаться непонятым. Несмотря на то, что я постоянно окружен людьми, я чувствую себя одиноким, так как у меня нет ни родных, ни друзей. Мне казалось, что в вас я найду отголосок моим страданиям, и я осмелился заговорить с вами о том, в чем вы боитесь сознаться даже перед собою. Если это преступление, то простите меня…
– Мне нечего прощать вас, – сказала Антуанетта. – Каждый из нас убежден, что может читать в душе другого.
– И свое собственное настроение приписывает другим, – добавил Цамбелли. – Недовольному кажется, что весь свет чувствует то же, что и он. Но так как я уже отчасти начал свою исповедь, то позвольте закончить ее. Ваш дядя упрекает меня в непомерном честолюбии и еще в одном пороке, о котором умалчивает из вежливости, – в крайней бедности. Последнее побуждает меня завидовать богатым, между тем как всем кажется, что я только насмехаюсь над ними. Меня постоянно мучит беспокойное желание возвыситься над толпой. Это желание нельзя назвать ни преступным, ни безумным. Действительность превосходит подчас самые невероятные мечты. Кто мог ожидать, что разрушится старый свет? Разве не поучителен пример Наполеона Первого, его жены, сестер, братьев, маршалов, которые еще так недавно вышли из ничтожества, а теперь занимают чуть ли не самые старые престолы Европы? Ввиду этого у каждого честолюбивого человека может появиться естественное желание принять деятельное участие в этой грандиозной и дикой охоте за счастьем, которую революция открыла для всех с одинаковыми шансами поймать добычу.
– Или погибнуть, – возразила Антуанетта.
– Конечно, не все могут быть победителями. Но лучше умереть в борьбе, чем оставаться в ленивом бездействии; лучше погибнуть от землетрясения, чем спокойно умереть в постели от старости и болезни.
– Значит, вы предполагаете во мне ту же потребность борьбы и волнений? – с живостью спросила Антуанетта.
Цамбелли собирался ответить, но в этот момент маркиза Гондревилль позвала свою дочь.
Эгберт, стоявший около маркизы, увидел идущую через залу прекрасную, стройную фигуру молодой девушки в белом легком платье. Ее изящные, обнаженные руки, тень неудовольствия и раздумий на лице, грустный и почти мрачный взгляд, который она бросила на него, – все это вместе произвело на Эгберта неизгладимое впечатление. Он никогда не видел такой женщины, и она показалась ему видением, которое должно исчезнуть так же внезапно, как оно появилось. Он не понял, что сказала маркиза своей дочери, видел только, как та протянула ему руку и сказала что-то своим звучным, приятным голосом. Машинально и как будто во сне он прикоснулся к ее руке; затем ему казалось, что они говорили о чем-то между собою, но это были для него слова без содержания, которые совершенно изгладились из его памяти. В пылу восторга он забыл, где он. По счастью, никто не мешал ему предаваться своим размышлениям, так как в этот момент все забыли о его существовании. Было уже около полуночи, и гости поднялись со своих мест. Граф и сестра его, переходя от одной группы к другой, уговаривали их остаться по крайней мере до двенадцати часов. Пухгейм раньше всех заявил о своем согласии.
– Наш хозяин прав, как всегда, – сказал он своим громким голосом, – не мешает выпить на прощанье еще стаканчик вина. На земле все дело одной минуты; кто знает, может быть, мы завтра же разойдемся в разные стороны, как Наполеон с Александром Первым?
Заявление это встретило общее одобрение, и тотчас же по распоряжению хозяина появились слуги с налитыми стаканами вина на серебряных подносах. Молодые девушки и дамы окружили Антуанетту, чтобы договориться с нею о предстоящей прогулке.
Эгберт удалился с середины залы в одну из глубоких стенных ниш, чтобы насладиться лицезрением Антуанетты. Он невольно сравнивал ее с окружавшими ее подругами, и она казалась ему неизмеримо лучше и прекраснее всех их. При одной мысли, что он опять увидит ее на следующий день, им овладела такая радость, какую он не испытывал в жизни; его мечты в эту минуту не простирались далее этого.
В это время к Антуанетте подошел Цамбелли, и ее образ тотчас же затмился для Эгберта при виде его мрачной фигуры с темными волосами и бронзовым цветом лица. Влюбленный юноша чувствовал, как судорожно сжалось его сердце, когда он заметил, что в этот момент яркая краска покрыла щеки молодой девушки.
– Что вы так удалились от нас, Эгберт? – сказал граф, проходя мимо него. – Вы, верно, устали от сегодняшнего дня, но я надеюсь, что вы отдохнете в моем доме.
– Кто этот господин, который разговаривает с графиней? – спросил с живостью Эгберт. – У него такая наружность, которая невольно обращает на себя внимание.
– Не правда ли? Это, несомненно, самый выдающийся из моих гостей. Его зовут Витторио Цамбелли. Он родом из итальянского Тироля, младший сын одной дворянской фамилии. Хотите, я познакомлю вас с ним?
– Нет, граф, я не желаю этого.
В эту минуту кто-то из гостей позвал графа, и Эгберт остался один.
На другой стороне залы ненавистный для него человек, имя которого он только что узнал, разговаривал с молодой графиней о каком-то важном и тайном деле. Эгберт заключил это из того, что подруги Антуанетты отошли от нее и она осталась одна с итальянцем. Она отвечала ему односложно, но слушала его очень внимательно. У Эгберта появилось сильное желание помешать их разговору, и он уже сделал несколько шагов, чтобы подойти к ним, однако светские обычаи и привычки оказались сильнее ревности. Но то, что он увидел теперь, превзошло все его ожидания. Цамбелли наклонился к руке Антуанетты и прижал ее к своим губам. Эгберт ждал, что девушка с негодованием вырвет у него руку и не потерпит такого осквернения. Но правая ее рука оставалась в его руке… При виде этого вся кровь прилила к сердцу Эгберта, и он, не помня себя, подошел к ним быстрыми шагами.
Оживленная беседа графини с итальянцем, по-видимому, рассердила еще одного человека, который не счел нужным скрывать своего неудовольствия и имел на это больше прав, чем Эгберт. Это был молодой Ауерсперг, который подошел к Цамбелли с таким вызывающим видом, что тот поспешно отпустил руку Антуанетты и простился с нею с почтительным поклоном. Но, избегая ссоры со своим вспыльчивым противником, Цамбелли так быстро отвернулся от него, что столкнулся с Эгбертом.
– Извините меня, милостивый государь, – сказал Цамбелли, взглянув в лицо юноши.
Он не обратил никакого внимания на волнение Эгберта, потому что ему и в голову не приходило, чтобы тот мог чувствовать к нему ненависть, не обменявшись с ним ни единым словом. Но его живо интересовала личность молодого бюргера, с которым граф обходился как со старым знакомым и которому маркиза, эта гордая аристократка, помешанная на тщеславии, выказывала чуть ли не материнскую нежность. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания Цамбелли, несмотря на его философские рассуждения с Антуанеттой о свете и человеческой судьбе.
«Если тут скрывается какая-нибудь тайна, – подумал он, – то нетрудно будет раскрыть ее, потому что этот белокурый юноша кажется мне олицетворением откровенности».
– Извините меня еще раз, – продолжал Цамбелли своим изысканно вежливым тоном. – Если я не ошибаюсь, то видел вас сегодня, милостивый государь, в Ламбахе?
– Это невозможно, потому что я не был в Ламбахе, – коротко ответил Эгберт.
– Неужели я ошибся? – сказал Цамбелли в надежде вызвать юношу на откровенность. – Это было на большой дороге; я ехал верхом из Гмундена, вы шли с севера.
Дерзкая навязчивость итальянца вывела из терпения Эгберта, и он решил отплатить ему той же монетой.
– Какое странное совпадение! – сказал он, стараясь сохранить хладнокровие. – А я так положительно убежден, что видел вас у мельницы Рабен.
Эгберт назвал первое попавшееся место, которое пришло ему в голову, но Цамбелли сильно смутился и отступил назад с видом человека, перед которым открывается пропасть.
– Значит, это была игра моей фантазии, – сказал Цамбелли, – если только вы не имеете двойника. В будущем этого не случится, потому что лицо ваше никогда не изгладится из моей памяти.
– Я также не забуду вас, – ответил Эгберт тем же тоном.
В этот момент мимо него прошла Антуанетта, провожавшая своих подруг. Ее гордый и спокойный вид отрезвил Эгберта. Что за безумная мечта овладела им! Какое ему дело до молодой графини и до того, кто нравится ей? Разве он может играть какую-нибудь роль в этом обществе, в которое он попал только благодаря случаю и помимо своей воли!
Печальные размышления Эгберта были прерваны хозяином дома, который, подойдя к нему, положил руку на его плечо.
– Вы отлично держали себя, Эгберт, – сказал он. – Первый шаг сделан, а это самое трудное! К обществу вовсе не так трудно привыкнуть, как это кажется с первого взгляда.
– Я не понимаю вас, граф. Но мне кажется, что тот мир, о котором вы говорите, навсегда останется мне чужим и никогда не будет мне по душе.
– Может быть, я ошибся, но мне показалось, что вы имели неприятный разговор с итальянцем и уже, вероятно, считаете его своим врагом. Но верьте мне, что неприязненные отношения иногда бывают полезнее дружбы. Однако мне нужно провожать моих гостей. Желаю вам спокойной ночи. Антон позаботится о вас и вашем приятеле.
Кругом слышались отрывочные восклицания:
– Счастливого пути!
– До свидания.
– Дня через три, если погода не испортится, устроим прогулку по озеру.
– Да, непременно!
– Какая отличная охота была у нас сегодня!
Среди всех этих отрывочных разговоров, приветствий и пожимания рук то тут, то там слышались изъяснения в дружбе и братские поцелуи, которым немало способствовало вино хозяина. Но всех дольше и нежнее прощались молодые девушки с Антуанеттой. Слуги ждали господ со шляпами и шинелями в руках; во дворе, фантастически освещенном горящими факелами, стояли запряженные экипажи, фыркали лошади и нетерпеливо били копытами о землю.
Эгберт и Гуго, усталые и отчасти ошеломленные непривычным блеском и роскошью, вышли незаметно из залы и последовали за управляющим, который со свечой в руках проводил их в приготовленную для них комнату в верхнем этаже замка.
Глава III
Желание графа не исполнилось. Эгберту не спалось всю ночь; воображение рисовало ему то светлые, то страшные картины, которые не давали ему ни минуты покоя. Переход от смерти Бурдона к блестящему празднику в замке, разговор с графиней, затем с итальянцем оставили слишком глубокий след в его впечатлительной душе, и у него несколько раз появлялось желание разбудить своего приятеля и рассказать о своих ощущениях. Но он стыдился собственного малодушия и решил терпеливо ждать наступления утра.
Наклонность к мечтательности проявилась у Эгберта с раннего детства; она была отчасти унаследована им от матери и частью привита воспитанием. Он был единственным сыном вполне достойных родителей, но совершенно не подходящих друг другу ни по летам, ни по взглядам и чувствам. Отец его, человек образованный, добродушный и одаренный сильной волей, был лучшим учеником знаменитого доктора Гергарда Свитена в Вене, между тем как его мать, готовившая себя в певицы, вследствие домашних обстоятельств должна была отказаться от мечты и выйти замуж за человека, гораздо старше ее, к которому она ничего не чувствовала, кроме уважения. Разница лет и чувств не могла не привести к душевному разладу между супругами, хотя ни один из них не мог пожаловаться на другого, и люди завидовали их счастью. Если в сердце госпожи Геймвальд были неудовлетворенные стремления, то она старательно скрывала их и относилась к мужу с такой нежной заботливостью и уважением, что при его утомительных ежедневных занятиях он едва замечал недостаток более полной гармонии в его супружеской жизни. Рождение ребенка сблизило до известной степени их, и они как будто старались превзойти друг друга в своей любви к нему. Отец взял на себя его физическое и умственное развитие и, находя много недостатков в школьном образовании, решил воспитывать его дома. Трудно было найти более способного и физически развитого мальчика, чем Эгберт; но отсутствие товарищей должно было гибельно отразиться на его характере и развить в нем фантазию в ущерб других способностей. Так как свет ограничивался для него родительским домом и садом, то он стал тяготиться детьми, изредка посещавшими их дом, и сам не любил бывать у них. Он охотнее слушал сказки матери и разыгрывал их потом в своем кукольном театре. Отец был слишком занят, чтобы отдать себе ясный отчет в этом, а с другой стороны, мечтая сделать из своего сына знаменитого ученого или исследователя, он не прочь был оградить его от впечатлений внешнего мира и вредных влияний. «Одиночество никому не вредит, – говаривал он, – и возвышает мудреца, ограждая его от всяких пятен».
Благодаря такому воспитанию Эгберт почувствовал себя совершенно беспомощным после смерти отца. Горькие опыты и разочарования не замедлили встретить увлекающегося юношу при первом его вступлении в свет и побудили его искать успокоения у своего домашнего очага. Здесь все соответствовало его вкусам и желаниям, ничто не мешало предаваться любимым мечтам в ущерб серьезным занятиям, которые также пошли совсем иначе после смерти отца. Старик Геймвальд намеревался послать своего сына в Берлин для завершения его медицинского образования, и мать Эгберта, вероятно, подчинилась бы воле мужа при его жизни; но теперь подобная жертва была слишком тяжела для нее. Эгберт, со своей стороны, не настаивал и все глубже и глубже пускал корни в родной почве, встречая в этом поддержку со стороны своих друзей и опекунов, так как по их понятиям Вена имела таких же, если еще не лучших, врачей и преподавателей, как и северная столица. Эгберт сначала горячо принялся за занятия, но скоро охладел к ним; профессора и их лекции не удовлетворили мечтательного юношу; ему казалось, что их воззрения на науки слишком узки сравнительно с широким и возвышенным пониманием его отца. На вопросы, которые он задавал своим преподавателям относительно связи тела с духом, причин возникновения мысли и т. п., ему отвечали холодно и с усмешкой, так как подобные вопросы в глазах ученых представителей тогдашнего медицинского мира казались не более как детскими бреднями и поэтическими новомодными фантазиями, неприличными для врача.
Таким образом, Эгберт и здесь встретил полный разлад действительности с тем идеалом, к которому стремился по желанию отца и по собственному убеждению. Хотя он и продолжал изучать медицину, но занимался один и без всякой последовательности, так что постепенно и незаметно для него самого его занятия свелись к простому дилетантизму. К этому прибавились еще неизбежные хлопоты и дела по наследству, которое оказалось довольно значительным. Помимо дома в Вене, старик Геймвальд оставил сыну еще довольно большую земельную собственность поблизости Шенбрунна. Хотя имение было передано в руки верного арендатора, но потребовались улучшения и поправки, в которых молодой наследник должен был волей-неволей принять участие. Эгберт с удивлением увидел, как много людей поставлено в зависимость от него; со всех сторон стали обращаться к нему с различными просьбами, одни в надежде эксплуатировать его, другие – рассчитывая на его желание добра и юношескую потребность деятельности. Эгберт охотно отказался бы от всех дел, так как чувствовал сильное стремление к ленивой и созерцательной жизни, которое увеличивалось прирожденной беспечностью и воспитанием в богатом доме. Может быть, он и последовал бы этому стремлению, если бы его не удерживало воспоминание о вечно деятельном отце и матери, которая из чувства семейного долга пожертвовала своими надеждами на более блестящую будущность и вышла замуж за нелюбимого человека.
Наконец мало-помалу Эгберт стал привыкать к сельской жизни; его заняли постройки, охота, верховая езда, и он стал так же сильно увлекаться природой, как прежде наукой и отвлеченными размышлениями. Его поэтическая натура требовала выхода; он чувствовал в себе запас сил и не знал, как употребить их. Отдавая себе отчет в своей деятельности, он находил ее ничтожной и почти бесцельной; о достижении идеала не могло быть и речи, потому что возможность совершать великие и добрые дела дается не всем и только при известных условиях. Из людей, окружавших Эгберта, весьма немногие могли сравниться с ним образованием, и ни один не удовлетворял его с нравственной стороны. Эгберт чувствовал себя глубоко несчастным. Он был уверен, что призван к чему-то необыкновенному, и тем сильнее сознавал свое ничтожество. Он не был ни ученым, ни художником, ни даже простым дельцом. Общее политическое движение, охватившее тогда всю Германию, не интересовало его. Хотя он считал себя хорошим австрийцем и патриотом, но ему и в голову не приходило, что и на нем лежит обязанность защищать свою родину, народность и язык от иноземного господства. По его мнению, это было дело коронованных особ, дворянства и солдат, а его долг относительно государства заключается только в том, чтобы исправно платить налоги, вносить свою лепту на разные благотворительные дела и исполнять законы. Многие из великих, уважаемых им поэтов точно так же смотрели на свои гражданские обязанности и, убегая от мрачной действительности, искали спасения в безмятежной области искусства и блаженных мечтаний. Здесь было полное примирение и гармония, между тем как на земле шла дикая стихийная борьба. То же отчуждение от политики встречал Эгберт и в той среде, в которой вращался. В кружках венского бюргерства политический разговор был тогда редкостью. Все жалели о проигрыше Аустерлицкой битвы, но утешали себя мыслью, что такое же поражение потерпели ненавистные пруссаки при Иене. Победоносные лавры Наполеона I внушали почтенным бюргерам больше удивления, нежели ненависти. Более смелые из них поговаривали, что революция имела свои хорошие стороны и что в Австрии со времени последнего поражения произошло немало перемен относительно народных прав. Но все эти разговоры давно перестали занимать Эгберта, так как были слишком известны ему.
Граф Ульрих был единственным человеком, которому удалось заинтересовать Эгберта своей беседой и произвести на него глубокое впечатление. Это было четыре года тому назад, когда граф впервые явился к ним в дом, чтобы повидаться с его матерью. У них, по-видимому, шли переговоры о каком-то важном и тайном деле, потому что в это время они всегда удаляли Эгберта. Граф в подобных случаях старался быть вдвойне предупредительным с Эгбертом, и их разговоры с графом, сначала мимолетные и короткие, становились все продолжительнее и оживленнее. Юноша нравился графу своей сердечностью, впечатлительной и увлекающейся натурой; граф старался развить его, не задаваясь никакими властолюбивыми целями, и потому влияние его было тем сильнее и безграничнее. Что же касается Эгберта, то он безусловно восхищался личностью графа, так как никогда еще не встречал человека с такой сильной волей, разносторонним умом и образованием и с такими прекрасными манерами. В вопросах, относящихся к области искусств, житейской мудрости и особенно политики, Эгберт удивлялся ясности и глубине суждений графа Ульриха, хотя они нередко противоречили его собственным воззрениям. Он молча слушал его и только изредка решался прервать его каким-нибудь замечанием. Перед ним открылся новый, неведомый мир; впервые в голове его зародилась мысль, что идея государства представляет собою нечто законченное, как всякое произведение искусства, и полна глубокого значения и смысла. Но до сих пор все разговоры Эгберта с графом Ульрихом имели чисто теоретический характер; граф не решался посвящать юношу в тайну своих политических замыслов и вообще избегал всяких откровенных разговоров. После смерти матери Эгберта их отношения на время прекратились. Теперь судьба опять свела их, и граф в первый раз пригласил Эгберта к себе в дом. Этот знак доверия глубоко тронул впечатлительного юношу и мало-помалу после долгой бессонной ночи чувство благодарности взяло верх над всеми другими ощущениями. К утру он уже стал горько упрекать себя за сомнения, возникшие в его душе.
– Можно ли сомневаться в прекрасном, – воскликнул он вслух, – и уничтожать величие святыни, отыскивая в ней пятна!
– Сомнения приводят к истине, – ответил Гуго, открывая глаза и потягиваясь с удовольствием на мягком тюфяке. – Я не знаю, что ты находишь великого и святого в этой молодой графине и старой маркизе. Держу пари, что их недаром показали нам.
– Как ты странно выражаешься.
– Извини, пожалуйста, я не точно выразился, потому что ты один у достоился чести быть представленным этим дамам. Но зато мне подали отличный кусок паштета с дичью, и я влил в себя несколько стаканов дорогого вина.
– Неужели на тебя не произвели никакого впечатления все это великолепие и блеск? – спросил Эгберт.
– Мне, собственно, понравился один долговязый барон Пухгейм; все же остальные – нули, которые сами по себе не имеют никакого значения.
– Мне всегда досадно слушать, когда ты так отзываешься о людях.
– Ну а что касается всей обстановки, то наши студенческие вечеринки в Галле сравнительно с тем, что я видел вчера, были банкетами Платона. Если бы я рассказал тебе… Жаль только, что у нас в Галле не было Аспазии или Диотимы.
– Или Антуанетты! – невольно воскликнул Эгберт.
Гуго не слышал этого восклицания или сделал вид, что не слышит, и стал припоминать свою студенческую жизнь, которая окончилась так неожиданно, вслед за битвой при Иене, когда французы вошли в город и Наполеон приказал запереть профессорские аудитории.
Эгберт не прерывал своего приятеля и молча заканчивал свой туалет.
Наконец и Гуго счел нужным подняться с постели, но в противоположность Эгберту поднял такой шум и суету, что слуга, ожидавший их пробуждения в коридоре, несмотря на ранний час, постучался в дверь и учтиво предложил свои услуги, которые были охотно приняты, так как Гуго совсем вошел в роль знатного барина. Затем тот же слуга подал им легкий завтрак, и Гуго не мог воздержаться, чтобы не сделать ему несколько вопросов относительно вчерашних гостей, и даже полюбопытствовал узнать – встал ли граф и где он?
– Его сиятельство уже вернулся с утренней прогулки, – ответил слуга.
– Ну, а теперь мы отправимся на прогулку! – воскликнул Гуго, взяв под руку Эгберта.
Приятели отправились в сад, примыкавший к замку, и вошли на террасу, с которой открывался превосходный вид на озеро, окрестные местечки и деревни и величественный Траунштейн. Утренний туман не окончательно рассеялся, но солнце сияло во всем блеске, а с озера дул прохладный ветерок. Деревья уже были окрашены пестрыми красками осени и только кое-где виднелись темно-зеленые тисы, образуя то сплошную стену, то красивую нишу. Сад был устроен по всем правилам французского садоводства. Тут были и обстриженные деревья, искусственные лабиринты, мраморные фигуры во вкусе рококо – сатиры, похищающие нимф, Геркулес с палицей, вооруженная Минерва и выходящая из воды Венера. Многие из этих статуй попортились от времени и непогоды, но зато луга, куртины с последними осенними цветами, дорожки и тенистые аллеи содержались в порядке и были чисто выметены.
Сад производил почти чарующее впечатление при торжественной утренней тишине и постепенно исчезающем тумане. Чем-то сказочным веяло от закрытых ставен и окон погруженного в сон и как будто заколдованного замка. Даже болтливый Гуго умолк на несколько минут и задумчиво ходил взад и вперед по террасе вместе с Эгбертом, любуясь голубоватыми горами, которые все яснее и яснее выступали на далеком горизонте.
Приятели спустились с террасы и дошли до середины сада, где была большая площадка, от которой расходились лучеобразно восемь дорожек. Одна из них особенно понравилась Эгберту своей мрачной красотой; она тянулась на несколько сот шагов среди гигантских пихт и вела к месту погребения, где за красивой железной решеткой покоились бренные остатки родителей графа Ульриха. Два сфинкса из черного базальта лежали сторожами у входа; напротив них под тенью пихты стояла скамейка. Плакучие ивы склонялись над обеими гробницами, а среди них на высокой колонне возвышался Гений Надежды, широко раскрывший свои крылья.
Молодые люди сели на скамейку.
– Меня разбирает любопытство, – сказал Гуго после минутного молчания, – приготовит ли граф такую великолепную могилу Жану Бурдону, этому вернейшему из людей, как он сам назвал его, когда мы выходили из дому лесного сторожа?
– Почему тебе пришло это в голову?
– Из зависти. Я не завидую богатым и знатным людям, пока они живы; у них также есть свои заботы, как у меня, и, наверно, больше неприятностей и болезней. Счастливее всех нищий, который философски относится к своему ремеслу и спокойно занимается им. Но когда умирает богач, тогда обнаруживается то преимущество, которое он имеет перед простым земляным червяком.
– Мне всегда казалось, что смерть сглаживает неравенство состояний.
– Ты называешь это сглаживанием неравенства! – воскликнул Гуго, пожимая плечами. – Между тем ничто так не возбуждает мою зависть, как красивый надгробный памятник. Вот это был человек! – говорят люди при виде такого памятника с золотой надписью. Важно не то, как ты жил, а какую речь скажут над твоим гробом. От таких речей жиреет пастор, говаривал мой отец, почтенный священник в Вустергаузене, и он был совершенно прав. Умение красиво говорить о смерти может составить славу оратору. Знаменитый профессор Вольф в Галле никогда не достигал такого пафоса, как в тот момент, когда он читал с кафедры стихи Гомера о непрочности земной жизни.
– Из тебя, вероятно, вышел бы отличный пастор, – сказал, улыбаясь, Эгберт.
– Весьма возможно, я даже поступил в Галльский университет, чтобы стать священником, а вместо этого из меня вышел актер. Так распорядилась судьба. Если бы ты видел, как у нас превосходно исполняли трагедии Шиллера, то, верно, кончил бы тем же.
– Может быть, только я не решился бы на это так легко, как ты, – сказал Эгберт. – Я не мог бы так скоро отказаться от моего прошлого.
– Все оттого, что ты, Эгберт, только мечтаешь о свободе, но у тебя нет силы добиться ее. Не смотри на меня так мрачно и не огорчайся этим. Зато у тебя золотое сердце. Вот уж скоро три недели, как ты платишь за меня гульден за гульденом и ни разу даже не намекнул мне об этом.
– Ты забыл то обещание, которое дал мне на мосту в Праге – никогда не говорить об этом и считать себя моим гостем до нашего возвращения в Вену.
– Ну, изволь, больше не буду. Поговорим о чем-нибудь другом. Знаешь ли, что сегодня ночью на меня нашло вдохновение и я нашел ключ к храму?..
– К какому храму?
– К храму искусства, который теперь откроется для меня, а ключ в сапоге Бурдона. Ты ведь никогда не замечаешь мелочей, но мы с графом видели это, и наши взгляды встретились. Теперь смело буду просить его, чтобы он дал мне место актера в императорской труппе. Если бы не сапог Жана Бурдона, то он ответил бы мне высокомерным отказом; ну, а теперь он этого побоится, и я буду играть роль датского принца Гамлета.
– Ты уже начинаешь дурачиться, воображая себя Гамлетом.
– Скажи слово, и я исчезну, а ты оставайся в этом заколдованном саду и преследуй убегающую нимфу. Но я должен из дружбы предупредить тебя, что мы приглашены сюда не из одной любезности. Неужели ты не соображаешь, что этот Жан Бурдон был для графа нужным человеком и его смерть порвала петлю искусно сплетенной сети. В его руках был важный секрет – половина его украдена, а остальное в сапоге Бурдона.
Эгберт задумался. Подозрения приятеля показались ему вполне правдоподобными, когда он стал припоминать все обстоятельства убийства и смерти Бурдона.
– Может быть, ты и прав, – сказал Эгберт, – но в чем бы ни состояла тайна Бурдона, мы должны быть крайне осторожны в этом отношении.
– Еще бы, – сказал Гуго, – но, во всяком случае, благодаря этому мы сделались важными людьми в глазах графа Вольфсегга и как бы членами его семейства. Ему трудно будет отказать нам в какой-нибудь просьбе, и если бы ты не был так неповоротлив, Эгберт, и не задавался бы при всяком удобном случае неразрешимыми вопросами, ты бы мог легко добиться одной цели. Молодая графиня…
– Пожалуйста, не говори мне об этом, – прервал его Эгберт, между тем как яркая краска разлилась по его лицу. – Какое отношение может иметь эта светлая и чистая личность с какими бы то ни было темными тайнами? Но как могло это прийти тебе в голову? Разве звезды на небе так же доступны, как и полевые цветы? Я был бы совершенно счастлив, если бы мог хоть издали любоваться ей.
– Какое у тебя идеальное представление о женщинах, – заметил с усмешкой Гуго.
– Разве ты уже стал иначе относиться к женщинам?