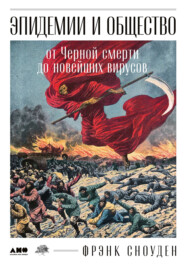скачать книгу бесплатно
Эпидемии и общество: от Черной смерти до новейших вирусов
Фрэнк Сноуден
Это захватывающая история о том, как эпидемические заболевания повлияли на развитие нашей цивилизации, общественное устройство, ход истории, а также на наши представления о прекрасном и отвратительном, о жизни и смерти, о собственных возможностях и их пределах.
Я ни в коем случае не пытаюсь доказать, что историю творят болезни, и не намереваюсь утвердить диктатуру микробов. Моя мысль гораздо проще: некоторые заболевания действительно способны менять общество, и чума как раз из их числа.
В это непросто поверить, но сегодня основным языком общения в Северной Америке вполне мог бы быть французский, а не английский, если бы когда-то в дело не вмешался вирус желтой лихорадки. Современные города выглядели бы совсем иначе, если бы непосредственное участие в их переустройстве не принимал холерный вибрион, а оформлением интерьеров не заведовала туберкулезная палочка. И вероятно, в мире сегодня было бы гораздо больше народов, языков и культур, если бы не корь и свинка, отчалившие от берегов Европы вместе с первооткрывателями эпохи Нового времени. Но главное – прямо сейчас где-то формируются патогены, способные изменить образ будущего, который мы рисуем себе, до неузнаваемости.
Выходит, что Русская кампания сыграла не последнюю роль в крушении французского господства в Европе и в мире. А решающим фактором такого исхода оказалась болезнь.
Фрэнк Сноуден предлагает читателям взглянуть на обширное наследие, оставленное нам инфекционными заболеваниями, и трезво оценить меру ответственности нашего общества за прошлые и грядущие эпидемические катастрофы.
На самом деле между человечеством и микробами идет дарвиновская борьба за существование, и перевес на стороне микробов.
Для кого
Прежде всего книга будет интересна тем, чьи профессиональные интересы лежат в сфере медицины и охраны общественного здоровья, а также урбанистики.
Тем, кто интересуется культурологией, историей и социологией.
Тем, кто заинтересовался вопросами эпидемиологии и реакцией общества на подобные события в связи с пандемией COVID-19.
Фрэнк Сноуден
Эпидемии и общество: от Черной смерти до новейших вирусов
Переводчики Мария Багоцкая, канд. биол. наук; Павел Купцов, канд. биол. наук
Научный редактор Станислав Мереминский, канд. ист. наук
Редактор Анна Шкуридина
Издатель П. Подкосов
Руководитель проекта И. Серёгина
Ассистент редакции М. Короченская
Корректоры О. Петрова, Е. Сметанникова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайн обложки и макет Ю. Буга
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Frank M. Snowden, 2019
Originally published by Yale University Press
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2023
* * *
Клэр и Джессике
Предисловие ко второму изданию
Уже после того, как вышло первое издание книги «Эпидемии и общество», началась пандемия коронавирусной инфекции, вызывающей тяжелое острое респираторное заболевание. Хотя болезнь COVID-19 пока еще слишком нова и плохо изучена, чтобы можно было оценить ее последствия, в общих чертах уже многое ясно, и некоторые особенности заболевания тесно связаны с темами, нашедшими отражение в этой книге.
Пандемия COVID-19, как и любая другая, не была случайной или неожиданной. Человеческие общества страдают от эпидемий из-за повышенной уязвимости, которую люди создали сами своим отношением к окружающей среде, другим видам и друг к другу. Пандемии вызывают микроорганизмы, эволюционно приспособившиеся заполнять те экологические ниши, которые мы им обеспечили. Вспышка и распространение COVID-19 произошли потому, что этому вирусу подходит выстроенное нами общество. Мир, где почти 8 млрд человек, большинство из которых живут в густонаселенных городах, доступных благодаря быстрым авиаперелетам, создает бесчисленные возможности для распространения легочных вирусов. В то же время из-за демографического роста и бурной урбанизации мы вторгаемся в среду обитания животных и разоряем ее, при этом изменяются взаимоотношения между людьми и природой. Особое значение имеет умножение числа контактов с рукокрылыми, которые являются естественным резервуаром для множества вирусов, способных преодолеть видовой барьер и проникнуть к людям.
Такие переходы происходят все чаще, но обычно без дальнейшего широкого распространения. Однако некоторые непредвиденные обстоятельства могут благоприятствовать переносу вируса от первого заразившегося человека к другим, как произошло с вирусом Эбола в декабре 2013 г. Тогда все началось в Гвинее, с ребенка, решившего поиграть в дупле дерева, стоящего близ семейного сада, неподалеку от дома. Из-за безудержных вырубок в таких деревьях тысячами скрывались крыланы, изгнанные из уничтоженного полога близлежащего леса. Этому четырехлетнему мальчику не повезло: он вдохнул вирусы из испражнений переселившихся крыланов. Все последующие жертвы Эболы во время западноафриканской эпидемии 2014–2016 гг. составляли непрерывную цепочку передачи от этого исходного, или нулевого, пациента.
Вероятно, такая же последовательность событий, только уже в городских условиях, повторилась в декабре 2019 г. в китайском Ухане на так называемом мокром рынке, где торгуют мясом диких животных. Там узкий лабиринт тесно расположенных прилавков без холодильников превратился в гигантскую чашку Петри. Главными факторами, способствовавшими межвидовому переносу инфекции, были плотное расположение клеток с разными видами домашних и диких животных, в том числе с летучими мышами, смешение их фекалий и крови после разделки тушек, загрязнение продуктов и скопление покупателей. В этих условиях нулевым пациентом стал, скорее всего, обычный покупатель, который заразился новым коронавирусом и передал его тем, с кем контактировал. Вирус начал быстро распространяться среди населения, поскольку у людей нет коллективного иммунитета к только что появившемуся возбудителю. Иначе говоря, у нас отсутствовала защита, которая возникает, когда у достаточного количества населения есть иммунитет (например, в результате вакцинации) и инфекция не может передаваться по цепочке.
Среди всех вопросов, которые поднял COVID-19, самый важный – вопрос нашей подготовленности к подобным эпидемическим событиям. Согласно известному утверждению нобелевского лауреата Джошуа Ледерберга, в борьбе с микробами люди могут рассчитывать только на свою смекалку – это наша единственная защита. К смекалке, упомянутой Ледербергом, можно добавить нашу способность к сотрудничеству, если мы этого захотим. К сожалению, когда появилось заболевание COVID-19, мир оказался не готов к этому давно предсказанному испытанию. Со времен Второй мировой войны мы жили в эпоху все увеличивающегося числа новых заболеваний. Уже в 2008 г. исследователи выявили 335 заболеваний человека, появившихся в период с 1960 по 2004 г., большинство из них перешли к нам от животных. Их названия сейчас охватывают все буквы английского алфавита от A до Z, начиная от птичьего гриппа (Avian flu) и заканчивая лихорадкой Зика (Zika), и ученые предупреждают, что потенциально опасных патогенов существует гораздо больше, чем описано сейчас. В частности, медицинское сообщество постоянно бьет тревогу после вспышки гриппа H5N1 в 1997 г. Ученые говорят, что будущие вспышки неизбежны, особенно вспышки вирусных легочных заболеваний, перед которыми наше общество очень уязвимо. Нет сомнения, что они будут происходить, вопрос только – когда. Как сказал вирусолог Брайан Бёрд, «сейчас мы живем в эпоху хронической чрезвычайной ситуации». Кроме того, вирусологи уверяют, что есть все основания уже в ближайшем будущем ожидать чудовищную пандемию, сопоставимую со вспышкой гриппа «испанки» в 1918 г. Анализируя научную литературу в 2012 г., Дэвид Куаммен в своей книге «Зараза» (Spillover)[1 - Куаммен Д. Зараза. – М.: АСТ, 2016.] спрогнозировал следующую пандемию, которая должна обрушиться на человечество.
Как и было предсказано, вспышки периодически возникали. Их можно рассматривать как генеральные репетиции, во время которых нам срочно требовалось использовать свою смекалку для организации и финансирования адекватного ответа. В период с 2003 по 2016 г. имели место вспышки птичьего гриппа, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS), лихорадок Марбург и Эбола.
К сожалению, вспышки заболеваний неизбежно заканчивались социальной амнезией. После каждого испытания инфекцией следовал период лихорадочной активности на всех уровнях, международных и национальных, но затем он завершался провалом в забвение. Показателен промежуток между кризисом, вызванным SARS в 2003 г., и эпидемией Эболы. Сразу же после истории с SARS Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила «Глобальный план по подготовке к борьбе с гриппом» (2005), утвердив рекомендуемые меры для разных стран, пересмотрела «Международные медико-санитарные правила», обязав уведомлять о появлении новых заболеваний, оценила собственные возможности быстрого реагирования. В том же году правительство США опубликовало «Государственную стратегию борьбы с пандемией гриппа» и выделило финансирование на эти цели. Аналогичные планы были разработаны Министерством обороны США, администрацией по делам ветеранов, пятьюдесятью штатами и рядом крупных частных компаний.
Но, когда чрезвычайная ситуация закончилась и страх поутих, граждане и правительство вернулись к обычным делам. Было сокращено обещанное финансирование, предназначенное для реагирования на чрезвычайные ситуации через посредничество ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) в США, а также через родственные зарубежные организации, департаменты здравоохранения, правительства и частные лаборатории. Учреждения, отвечающие за координацию ответных мер на международном, федеральном и местном уровнях, были расформированы, а их руководители уволены.
Как и следовало ожидать, эта картина вновь повторилась после вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке. В 2018 г., в тот самый день, когда в Демократической Республике Конго началась новая вспышка лихорадки Эбола, президент Трамп уволил руководителя отдела здравоохранения Совета национальной безопасности США и распустил его сотрудников. Как отметил генеральный директор ВОЗ, в борьбе с эпидемиями в мире бывают богатые и бедные времена, и остается надеяться, что заявления о благих намерениях и периодические порывы к поспешным импровизациям помогут нам одержать победу. В этой сфере деятельность ВОЗ особенно важна, поскольку именно эта организация должна координировать международную реакцию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. В 2018 г. ВОЗ сформировала комиссию, чтобы оценить глобальную готовность к следующей инфекционной угрозе на фоне ослабления мер, которые предпринимались после вспышки SARS. В докладе «Мир в опасности» (A World at Risk), опубликованном в 2019 г., признавалось, что отдельные страны и мир в целом совершенно не готовы к этой давно предсказанной проблеме.
Когда COVID-19 начал распространяться по земному шару, он преуспел в этом отчасти потому, что часовые покинули свои посты, а мировая бдительность была усыплена. Здесь позиция США имеет принципиальное значение: сегодня это сверхдержава и экономический гигант, важнейший источник финансирования ВОЗ, а ЦКЗ США – организация, подающая пример международного реагирования. Важнейшей причиной нынешней ситуации стала позиция американского президента, который, несмотря на неоднократные предупреждения, звучавшие с 1997 г., был удивлен, когда заболевание вышло из-под контроля на трех континентах: «Кто бы мог подумать»? Более уместен вопрос, вернется ли мир к прежней беспечности, когда COVID-19 затихнет, или займется непрерывной долгосрочной оценкой возможных проблем и организацией путей для их решения. Научные исследования, усовершенствованная инфраструктура здравоохранения, тесное международное сотрудничество, санитарное просвещение, защита биоразнообразия и достаточное финансирование – все это необходимо развернуть по всему миру, если мы хотим обеспечить безопасность нашей цивилизации.
Предисловие
Эта книга начиналась как курс лекций для студентов бакалавриата Йельского университета. Первоначально курс создавался, чтобы обсудить те опасения, которые тогда возникали в связи с появлением новых заболеваний, таких как тяжелый острый респираторный синдром (SARS), птичий грипп и лихорадка Эбола, не упоминавшихся в рамках традиционных курсов для бакалавров в Йеле. На спецкурсах для магистров, планирующих заниматься наукой, и для студентов-медиков из Медицинской школы эти заболевания, разумеется, рассматривались, но с точки зрения науки и здравоохранения. Однако там не преследовали цель рассмотреть эпидемии с точки зрения их социального контекста и связи с политикой, искусством и историческими изменениями. Дальше стало очевидно, что изучение истории и влияния эпидемий в целом недостаточно разработанная тема в учебном плане бакалавриата в университетах США. Я создал свой курс, поскольку имелась, на мой взгляд, существенная потребность обсудить, используя междисциплинарный подход, какое влияние оказывают инфекционные заболевания на формирование человеческого общества и какую угрозу для его выживания они представляют.
Готовя эту книгу, многое из первоначального курса я сохранил и предполагаю, что аудитория будет сходной, но станет шире. Другими словами, цель состоит не в том, чтобы привлечь специалистов из соответствующих областей, а в том, чтобы стимулировать дискуссию среди широкого круга читателей и студентов, интересующихся историей эпидемий и беспокоящихся о готовности общества к встрече с новыми инфекционными проблемами.
Способ планирования и написания книги соответствовали ее цели. Как и в исходных лекциях, я старался сохранить доступность материала для читателя, не рассчитывая на наличие предварительных знаний по истории и эпидемиологии. Я попытался обеспечить возможность самостоятельного обсуждения темы для всех, кто интересуется вопросами, рассматриваемыми в книге. Книгу можно использовать как материал для чтения студентам колледжа, интересующимся пересечением гуманитарных и естественных наук. Поэтому я объяснил соответствующую научную терминологию, предоставил дополнительный список литературы для тех, кто заинтересуется или захочет изучить источники высказанных мнений, а в примечаниях указал источники только прямых цитат. Моя главная цель состоит не в том, чтобы внести свой оригинальный вклад в этот предмет, а в том, чтобы поместить уже существующие знания в широкий контекст для осмысления.
С другой стороны, эта книга не учебник. Я не пытаюсь дать исчерпывающее обобщение этой области знаний, а лишь выборочно обращаю внимание на основные проблемы и те эпидемии, которые оказали наиболее глубокое и длительное воздействие на общество. Кроме того, в отличие от учебника, в этой книге есть главы, основанные преимущественно на оригинальных исходных материалах, особенно там, где я чувствовал, что моя точка зрения отличается от общепринятой, или мне казалось полезным заполнить пробелы в существующей литературе. В таких главах передаются личные представления ученого, занимающегося исследованиями в этой области, которому посчастливилось учиться на комментариях и вопросах заинтересованной и вдумчивой аудитории студентов Йельского университета.
Глава 1
Введение
В основу книги лег курс лекций, подготовленный для студентов Йельского университета после серии чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения: события начала XXI в. – сперва атипичная пневмония (SARS), затем птичий грипп и лихорадка Эбола – неожиданно выявили, насколько беззащитно современное общество перед внезапными вспышками инфекционных заболеваний. Стремясь разобраться в проблеме нашей уязвимости для болезней и пандемий, я подошел к подготовке курса лекций с точки зрения историка, обратившись к собственным познаниям в истории медицины и личному опыту исследований малярии и холеры. Цель моя состояла в том, чтобы вместе со студентами осмыслить и исследовать тему им незнакомую и практически не представленную в программе бакалавриата, но неожиданно вызвавшую их интерес.
Книга «Эпидемии и общество» сложилась из окончательной версии моего курса лекций, который я ежегодно обновлял с учетом студенческих отзывов и семинарских обсуждений. Это не монография, адресованная историкам медицины или практикующим врачам. Некоторые главы в значительной степени основаны на моих собственных исследованиях первоисточников, но это скорее исключение. Моя главная задача состоит не в презентации новых сведений, а в том, чтобы поместить в контекст уже известные, сделать общие выводы и представить тему широкому кругу читателей. Поскольку лекционные курсы Йельского университета доступны и онлайн, в книге нашли отражение многочисленные отзывы интернет-слушателей, которые делились со мной своими наблюдениями и предложениями. И хотя я не знаком с этими людьми лично, я благодарен им за комментарии, так же как и студентам, посещавшим мои занятия очно.
В книге «Эпидемии и общество» несколько общих тем, и среди них – гипотеза, которую предстоит проверить на множестве очень непохожих заболеваний, в разные времена поражавших разные общества. Согласно этой гипотезе, эпидемии не какой-то особый подраздел знаний, интересный лишь специалистам, а важнейшая часть общей картины исторической динамики и развития общества. Иными словами, для понимания социальных процессов инфекционные заболевания так же важны, как экономические кризисы, войны, революции и демографические изменения. Чтобы проверить свою гипотезу, я рассмотрю влияние эпидемий не только на жизни отдельных людей, но и на религию, искусство, становление современной медицины и общественного здравоохранения, а также на историю идей.
Я рассмотрю лишь самые опасные инфекционные заболевания, которые поражали страны Западной Европы и Северной Америки или несли им серьезную угрозу. Я не буду рассматривать такие хронические заболевания, как рак, болезни сердца, диабет, астма и ожирение. Я также не коснусь заболеваний из числа профессиональных: отравление свинцом, легочные болезни шахтеров, асбестоз и силикоз; не буду рассматривать такие генетические болезни, как гемофилия, серповидноклеточная анемия и муковисцидоз. Не вошел в книгу и целый ряд тропических болезней, не оказавших существенного влияния на индустриальный Запад: сонная болезнь (трипаносомоз), болезнь Шагаса и дракункулез. Все эти группы заболеваний имеют огромное значение, и каждая заслуживает внимания, но рассматривать их вместе – значило бы пытаться объять необъятное в ущерб целостности и логичности. Поэтому в этой книге я сосредоточился на эпидемических заболеваниях.
На то есть три причины. Во-первых, эпидемические заболевания в принципе целесообразно рассматривать как отдельную категорию. Протекают они иначе, чем хронические, порождая особые страхи и тревоги. Тяжелый порок сердца может быть страшным и даже смертельным диагнозом, но воспринимается принципиально иначе, чем диагноз ВИЧ/СПИД, заражение оспой, полиомиелитом или холерой. В свою очередь, распространенные хронические заболевания, например онкологические, оказывают разрушительное влияние на системы здравоохранения, экономику и жизни миллионов людей. Но, в отличие от некоторых эпидемических заболеваний, инфаркты и рак не провоцируют поиски виноватых, массовые истерии, религиозные психозы и не находят широкого отражения в литературе и искусстве. Другим словами, болезни нельзя оценивать по одному только соотношению заражений и смертности. Эпидемические заболевания оставляют особый след. Чем и заслуживают внимания.
Вторая причина моего интереса к эпидемическим болезням – историческая. Поскольку объект нашего исследования – история, важно подчеркнуть, что на всем протяжении существования человечества, вплоть до XX в., инфекционные заболевания уносили гораздо больше жизней, чем любые другие категории болезней. В масштабах земного шара инфекции до сих пор остаются главной причиной страданий и гибели людей. Цель книги «Эпидемии и общество» в том числе – рассказать об этой исторической особенности человеческих недугов.
И последняя, пожалуй, самая убедительная причина, по которой эпидемические заболевания заслуживают отдельного внимания, заключается в том, что их история далека от завершения. Новые инфекции, такие как SARS, вирусы Эбола и Зика, напоминают, что опасность никуда не делась. Мы сжились с разрушительными последствиями ВИЧ/СПИДа и с тем, что старые заболевания, например лихорадка денге, малярия и туберкулез, которые, как считалось раньше, можно искоренить, вновь представляют серьезную угрозу. В зоне риска даже индустриальный Запад, и изменения климата повышают вероятность будущих катастроф. Инфекционная угроза вполне реальна. Насколько она серьезна? Насколько мы защищены? Какие факторы усугубляют нашу уязвимость? Готовы ли мы противостоять опасности? От ответов мирового сообщества на эти вопросы может зависеть выживание нашего общества, а возможно и нашего вида.
Географически книга сфокусирована в основном на индустриальных странах Европы и Северной Америки. Главным образом из практических соображений. Если бы я взялся основательно осветить тему в мировом масштабе, книга вышла бы в несколько раз больше и включала бы в себя обширную группу заболеваний, которые стали бедствием в первую очередь для тропических стран. С другой стороны, на рубеже XX–XXI вв. произошло немало событий, упоминание которых требует расширить заданные границы. Было бы странно рассуждать, например, о ВИЧ, о кампании по ликвидации полиомиелита, о третьей пандемии бубонной чумы, о современной холере или о лихорадке Эбола, не упоминая регионы происхождения их возбудителей, эпицентры заражений и страны, где эти болезни до сих пор приносят много горя и бед. Мы неотъемлемая часть большого мира, а патогены и переносящие их насекомые не признают политических границ, и нам необходимо считаться с этим. Поэтому несколько глав я посвятил ЮАР, Западной Африке, Индии, Гаити и Перу.
Следуя хронологическому принципу, я начну рассказ с эпидемии, которая, бесспорно, развивалась по наихудшему сценарию из возможных, то есть с бубонной чумы, поразившей Европу в XIV столетии, а закончу недавней вспышкой лихорадки Эбола. Проводя параллели между событиями прошлого и сегодняшними новостями, пытаясь взглянуть на происходящее вокруг в свете исторического опыта, я надеюсь вооружить своих читателей знаниями, которые помогут более здраво и компетентно оценивать все то, что творится в сфере общественного здравоохранения.
По каким критериям я отбирал болезни для книги? Вот четыре основных. Во-первых, меня интересовали эпидемии, которые вызвали наибольший социальный, научный и культурный резонанс. Поэтому, например, я не мог пройти мимо туберкулеза, но краткости ради пренебрег брюшным тифом.
Во-вторых, я выбирал заболевания, борьба с которыми стимулировала развитие основных стратегий охраны здоровья населения. Ведь задача книги «Эпидемии и общество» не только в том, чтобы поведать об эпидемиях, но и в том, чтобы рассказать о методах, которые общества разных эпох применяли для борьбы с эпидемическими заболеваниями, для их предотвращения, лечения и даже искоренения. Поэтому особое место в книге занимают болезни, научившие нас противодействовать эпидемиям организованно и сообща. Эти попытки противодействия далеко не всегда были удачными, но уже тогда в их основе лежали те же принципы, что и в стандартах современного общественного здравоохранения.
В-третьих, мне было очень важно подчеркнуть биологическое разнообразие. Причина одних эпидемических заболеваний – бактерии, других – вирусы или паразитические простейшие. Отличаются болезни и способом передачи: заражения происходят воздушно-капельным путем, половым, через грязную воду и необработанную пищу, через экскременты или посредством переносчиков – комаров, вшей и блох. Я приведу примеры из всех перечисленных категорий.
И наконец, в-четвертых, несмотря на то что реакция общественности на инфекционные заболевания далеко не всегда соразмерна обусловленной ими смертности, я решил, что крайне важно поименно назвать главных серийных убийц каждого рассмотренного в книге столетия. Очевидно, что, не поговорив о бубонной чуме, мы не сможем понять, как люди, жившие в эпоху раннего Нового времени, воспринимали смерть; и так же очевидно, что в любом исследовании, посвященном болезням XX и XXI вв., центральное место будет отведено теме ВИЧ/СПИДа.
С учетом всего вышесказанного самого пристального внимания удостоятся чума, холера, оспа, туберкулез, полиомиелит, сыпной тиф, дизентерия, желтая лихорадка, ВИЧ/СПИД и лихорадка Эбола. Этот список нельзя считать ни каноническим, ни исчерпывающим. В него вполне заслуженно можно было бы включить, например, брюшной тиф, грипп и сифилис. Моя выборка просто репрезентативна и не претендует на универсальность. Однако хочу отметить, что для вышеназванных регионов и эпох мой перечень болезней – это минимум того, что должен знать историк, и, вероятно, максимум того, что можно уместить в один том.
«Эпидемии и общество» – это книга по истории, а не по биологии. С другой стороны, эпидемии, безусловно, явления биологического характера. А значит, читателям нужно иметь некоторое представление о соответствующих болезнях: откуда они взялись, какова их этиология, как эти заболевания передаются и какое воздействие оказывают на человеческий организм. Без минимальных медико-биологических знаний понять что-то о болезнях невозможно. Тем более что нам предстоит разобраться в очень важном и сложном вопросе: почему масштабные эпидемии зачастую влекли за собой и значительные изменения в философии медицины. Но все же биология останется на втором плане: главное – выяснить, какое влияние заразные болезни оказывают на общество, историю и культуру.
Я не намерен ограничиться описанием череды ужасных биологических бедствий. Мне интересно разобраться, какое воздействие они оказали на развитие общества в долгосрочной перспективе. Вот наиболее важные аспекты:
? Стратегии общественного здравоохранения. Они включают в себя вакцинацию, карантин и санитарные кордоны, городскую санитарию, изоляторы и такие «чудодейственные средства», как хинин, ртуть, пенициллин и стрептомицин. Сюда же относится политика умалчивания, то есть отрицание факта заболевания. К ней прибегло руководство Китая, когда началась вспышка SARS, и этой же политике не раз отдавали предпочтение многие национальные правительства и муниципалитеты.
? История идей. Эпидемические болезни сыграли важнейшую роль в формировании современной биомедицинской парадигмы, становлении тропической медицины, развитии микробной теории. К этому нужно добавить, что достижения медицины часто находили поддержку не только по причине научной целесообразности, но и потому, что были выгодны определенным сообществам или способствовали усилению власти конкретных государств, а заодно и конкретных элит.
? Спонтанные реакции общества. При определенных обстоятельствах распространение эпидемического заболевания среди населения вызывало крупномасштабные и весьма характерные реакции у людей, оказавшихся в опасности. Среди них стигматизация, поиски козла отпущения, бегство и массовая истерия, бунты и резкий подъем религиозности. Подобные события позволяют взглянуть на затронутое болезнью общество и его устройство под другим углом: человеческие взаимоотношения, моральные приоритеты светских и религиозных властей, отношение людей к естественной и антропогенной среде, абсолютно неприемлемые условия жизни, на которые не обращают внимания в более спокойные времена.
? Война и болезнь. Эра «тотальной войны», начавшаяся с массового призыва во времена Французской революции и правления Наполеона Бонапарта, превратила вооруженный конфликт в столкновение грандиозных военных сил и даже целых народов. Масштабные боевые действия обеспечили благоприятные условия для развития таких эпидемических заболеваний, как сыпной и брюшной тиф, дизентерия, малярия и сифилис. Зачастую страдали от этой заразы не только военные, но и гражданское население, далекое от зоны боевых действий. Причем нередко массовые заболевания оказывали решающее влияние на ход военных кампаний, а значит, и на международную политику, и на судьбы политических режимов.
Чтобы проиллюстрировать связь войн и эпидемий, я рассмотрю два вооруженных конфликта наполеоновской эпохи, которые разворачивались в разных полушариях Земли. В первом случае речь пойдет о многочисленной армии, оправленной Бонапартом в 1802–1803 гг. в колонию Сан-Доминго на Гаити с целью восстановления рабства и французского господства. Свирепая эпидемия желтой лихорадки уничтожила наполеоновскую армию и привела к череде событий, в ходе которых гаитяне обрели независимость, а США купили французские колонии в Северной Америке.
Второй пример – военная кампания 1812 года, когда французский император вторгся в Россию с самой многочисленной армией своей эпохи. Этот колоссальный конфликт в Восточной Европе дает нам возможность поговорить о двух классических военных эпидемиях: дизентерии и сыпном тифе. Объединившись, два этих недуга уничтожили Великую армию, поспособствовали тем самым отречению императора и значительно повлияли на баланс геополитических сил.
Оценка воздействия эпидемий прошлого на социум позволит нам ответить на вопросы, поставленные широкой общественностью в связи с недавними вспышками SARS, птичьего гриппа и лихорадки Эбола. Чему мы как народ научились за четыре века непрестанных смертоносных эпидемий? В 1969 г. главный санитарный врач США, воодушевленный успехами науки и здравоохранения на ниве борьбы с патогенами, поспешил объявить конец эры инфекционных заболеваний. На дворе стояла эпоха буйной самонадеянности: представители международных здравоохранительных организаций заявляли, что к концу XX в. планируют одолеть львиную долю инфекций, начиная с малярии и оспы. На волне триумфальных настроений медицинские школы, в частности Йельская и Гарвардская, упразднили кафедры инфекционных болезней. Царило мнение, что человеческие сообщества, особенно развитых стран, вот-вот станут неуязвимы для новых эпидемий.
К сожалению, ожидания не оправдались. Даже сейчас, в XXI в., единственной успешно искорененной болезнью остается оспа. По сей день во всем мире инфекционные заболевания – основная причина смертности и одно из главных препятствий на пути экономического роста и политической стабильности. Новые заболевания – инфекции Эбола и Ласса, вирус лихорадки Западного Нила, птичий грипп, лихорадка Зика и денге – несут новые проблемы, а старые знакомые – туберкулез и малярия – продолжают навещать нас, и часто в более опасных лекарственно-устойчивых формах. Государственные органы здравоохранения всерьез обеспокоены угрозой повторения катастрофической пандемии гриппа наподобие «испанки», которая охватила мир в 1918–1919 гг.
У современного глобального общества действительно немало специфических черт, которые делают его очень уязвимым для пандемий. Недавние эпидемии SARS и лихорадки Эбола – две важнейшие «генеральные репетиции» нового столетия – послужили отрезвляющим напоминанием того, что в наших системах охраны здоровья населения полно брешей, как и в биомедицинских технологиях защиты от инфекционных заболеваний. Специфические особенности нашей эпохи – это постоянный прирост населения, изменение климата, интенсивное развитие транспорта, расширение мегаполисов, неразумная организация городских инфраструктур, военные конфликты, хроническая бедность и все большее социальное неравенство. Эти факторы существенно повышают риск бедствий. И к сожалению, судя по всему, в ближайшем будущем ни один из них не ослабнет.
Последняя большая тема, которую я намереваюсь раскрыть в этой книге, заключена в утверждении, что эпидемии не случайные события, они не поражают людей просто так, без каких-либо предпосылок. Совсем наоборот – само общество формирует обстоятельства, которые и обуславливают его уязвимость для каких-то явлений. Чтобы понять, как это происходит, нужно изучить структуру конкретного социума, уровень жизни в нем, его политические приоритеты. В каком-то смысле эпидемии – это своеобразный символ, и задача историков медицины – правильно расшифровать послание, которое он несет.
Книга состоит из глав двух типов, отчасти пересекающихся: одни главы раскрывают проблематику заданных тем, другие – рассказывают о конкретных эпидемических заболеваниях. Каждая глава вполне самостоятельна, поэтому книга не требует сквозного чтения, но нужно понимать, что тематические главы описывают контекст, в котором происходили эпидемии тех или иных заболеваний. Возьмем, к примеру, бубонную чуму. Чтобы понять, как европейцы воспринимали эту болезнь в XVII в., полезно ознакомиться с господствующей в тот период медицинской доктриной, в основе которой лежала гуморальная теория – наследие Гиппократа и Галена. Эта теория стала первым воплощением того, что сегодня мы называем научной медициной. Поскольку гуморальная теория была доминирующим учением, именно в рамках ее парадигмы объясняли вспышки бубонной чумы и врачи, и правители, и просвещенные миряне.
Поэтому я и посвятил вторую главу книги наследию двух самых влиятельных фигур в истории медицины. Оба они были греками: Гиппократ жил в V в. до н. э., а Гален – во II в. н. э. Только ознакомившись с их философскими взглядами и представлениями о медицине, можно понять, какое чудовищное психологическое потрясение пережили очевидцы эпидемии. Чумные годы принесли не только смерть и страдания, но и кризис мировоззрения. Бубонная чума подорвала все представления о болезнях, известных в те времена, и привела людей в смятение и ужас. То есть чума стала биологическим прецедентом, разрушительные последствия которого отразились на интеллектуальной и духовной жизни людей.
После знакомства с гуморальной теорией первое заболевание, которое подвергнется нашему пристальному вниманию, – бубонная чума (главы 3–5). Потому что, скорее всего, любой из нас согласится: сложно вообразить что-то хуже чумного мора. Само слово «чума» стало практически синонимом слова «ужас». Она убивала быстро и жестоко, лишая своих жертв человеческого облика. К тому же в отсутствие эффективного лечения подавляющее большинство заболевших неизбежно умирали, так что современники эпидемии небезосновательно опасались гибели всего населения таких больших городов, как Лондон и Париж. Отсюда и ужасающий неизбывный образ: живых осталось так мало, что некому хоронить мертвых.
Разговор и о чуме, и об остальных болезнях, которым посвящена эта книга, я начину с описания воздействия патогена на организм зараженного человека, а затем рассмотрю влияние болезни на общество в целом. Клинические проявления заболеваний объясняют общественную реакцию на происходящее: в частности, на чумной мор граждане отвечали бегством, охотой на ведьм, культом святых и насилием.
Но в то же время бубонная чума стимулировала появление первых стратегий здравоохранения, направленных на борьбу с эпидемическими бедствиями. Суровость принимаемых мер напрямую зависела от масштабов предполагаемой угрозы. Учреждались санитарные комитеты с практически безграничными полномочиями на время чрезвычайных ситуаций, вводился обязательный карантин, принудительная обсервация заболевших, организовывались военные блокады на суше и на море, так называемые санитарные кордоны, назначение которых состояло в изоляции целых городов и даже стран, строились чумные бараки, куда свозили больных и умирающих.
Все заболевания, упомянутые в этой книге, я буду описывать по той же схеме: сначала – мировоззренческий контекст, на фоне которого начиналась эпидемия конкретного заболевания, затем – его этиология и клинические проявления, следом – социальные и культурные последствия, а после – санитарные и здравоохранительные меры по борьбе с этим недугом. Я хочу показать читателям, как по-разному воспринимали эпидемии отдельные индивиды и целые сообщества и как значительно менялись представления об инфекционных заболеваниях с медицинской, социальной и философской точек зрения.
Глава 2
Гуморальная медицина
Наследие Гиппократа и Галена
Одна из немаловажных задач этой книги – исследовать понятие «научная медицина» во всем его многообразии. Начнем с эпохи Античности, когда рациональная медицина впервые обрела воплощение, в котором и продержалась в качестве главенствующей (но не единственной) медицинской парадигмы по меньшей мере с V в. до н. э. до конца XVIII в. н. э. Она сложилась в Греции, и связывают ее с именем Гиппократа (ок. 460 г. до н. э. – ок. 377 г. до н. э.), окрещенного отцом медицины. Сборник трактатов «Гиппократов корпус», состоящий из примерно 60 сочинений, написанных почти наверняка разными авторами, провозглашал радикально новую концепцию медицины.
Некоторые из трактатов широко известны, например «Клятва», «О священной болезни», «О природе человека», «Эпидемии» и «О воздухах, водах и местностях»[2 - Названия работ Гиппократа, а также цитаты из них здесь и далее даны в переводе В. И. Руднева. – Прим. пер.]. Сразу бросается в глаза разножанровость сборника: «Корпус» включает в себя собрание афоризмов, описания клинических случаев, тезисы речей, заметки и трактаты по всем медицинским вопросам, актуальным для той эпохи, в частности о хирургии, акушерстве, диетологии, окружающей среде и лечебно-профилактических средствах. Но главная мысль всех Гиппократовых сочинений состоит в том, что болезнь – абсолютно естественное явление, безо всякой религиозной подоплеки, и лечение требует исключительно рационального подхода. Философия медицины, которую исповедовал Гиппократ, категорична: и макрокосмос Вселенной, и микрокосмос тела подчинены лишь законам природы.
Гиппократ отвергал альтернативную концепцию заболеваний, возникшую до него, существовавшую в его эпоху и сохранившуюся до наших дней. Речь о сверхъестественном истолковании причин болезни, которое принимает в основном две формы: божественную и демоническую.
Концепция божественного происхождения болезней
Божественная теория утверждает, что недуг – это кара, посланная рассерженным божеством за непокорность или прегрешения. Четыре примера божественного истолкования недуга, взятые из четырех разных эпох, наглядно проиллюстрируют, сколь велико влияние этой концепции на западную культуру.
Библия
Книга Бытия повествует о первых людях – Адаме и Еве, которые были бессмертными, жили в саду, не знали ни болезней, ни страданий, а также не испытывали необходимости трудиться. Все изменилось, когда они поддались уговорам змея-искусителя. Ослушавшись Божьего наказа, они вкусили запретное яблоко с древа познания добра и зла. Этот проступок ознаменовал грехопадение человека, утрату благодати и невинности. Разгневанный непослушанием Бог навсегда изгнал Адама и Еву из Эдемского сада и в наказание обрек болеть, тяжело трудиться, рожать детей в муках и в конечном итоге умирать. То есть болезни стали возмездием за грех.
Непосредственно по вопросу эпидемических заболеваний Книга Исход дает то же истолкование, что и Книга Бытия. Много позже грехопадения богоизбранный израильский народ пребывал в рабстве у египтян. Посредством пророков Моисея и Аарона Бог велел фараону освободить евреев, но фараон отказался. В ответ Бог наслал на Египет череду страшных бедствий. То есть эти несчастья были Божьей карой за неповиновение воле Всевышнего.
Рис. 2.1. В Книге Бытия Бог изгоняет Адама и Еву из Эдема и объявляет, что отныне они будут страдать от болезней в наказание за то, что вкусили запретный плод.
Микеланджело. Грехопадение и изгнание из Рая (1509–1510). Сикстинская капелла, Ватикан
Еще один важный пример такого библейского взгляда на эпидемические заболевания представляет собой 90-й псалом, где вновь утверждается мысль, что мор – это наказание, посланное людям разгневанным божеством. У этого псалма особое историческое значение, потому что именно он стал главным чумным текстом, который звучал с кафедр христианских церквей по всей Европе, когда наступали эпидемии. Он объяснял происходящую катастрофу и одновременно внушал надежду:
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих[3 - Пс. 90:5–11. Синодальный перевод.].
Послание кристально ясное: зарекись от греха, уповай на Господа – и можешь не бояться заразы, которая поражает только нечестивых.
«Илиада» Гомера
Еще один образчик божественного истолкования болезни в западной культуре представляет собой первая песнь эпической поэмы Гомера «Илиада», посвященной апогею Троянской войны. Поэма начинается с описания разгневанного Ахилла, величайшего греческого воина. Его наложницу присвоил греческий царь Агамемнон. Взбешенный Ахилл отказывается от дальнейшего участия в боях и уходит дуться к себе в шатер. Этому предшествовал визит жреца Аполлона, который умолял Агамемнона вернуть ему похищенную дочь. Но Агамемнон отказал жрецу, унизил его и прогнал, пригрозив напоследок. Дальше следует ужасающая картина мора. Уже в самом начале поэмы нам сообщают, что жрец, покинув греческого полководца, идет молить Аполлона о мести:
«Слух преклони, сребролукий, о ты, что стоишь на защите