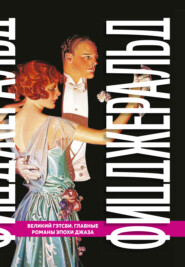скачать книгу бесплатно
– Пожимать друг другу руки они не будут? – спросил француз.
– Они уже знакомы, – ответил Эйб. И сказал Мак-Киско: – Пошли, пора возвращаться.
Они повернулись к машине Эйба, и Мак-Киско, внезапно возликовав, схватил его за руку.
– Минуту! – спохватился Эйб. – Нужно вернуть пистолет Томми. Вдруг он ему снова понадобится.
Мак-Киско протянул Эйбу пистолет и грубо сказал:
– Черт с ним. Скажите ему, что он может…
– Сказать, что вы хотите продолжить дуэль?
– Нет уж, хватит, – выкрикнул Мак-Киско. – Я и так хорошо себя показал, верно? Не струсил.
– Вы были здорово пьяны, – напрямик сказал Эйб.
– Ничего подобного.
– Ну, ничего так ничего.
– Да и какая разница – был, не был?
Самоуверенности в нем все прибавлялось, и на Эйба он смотрел уже возмущенно.
– Какая разница? – повторил он.
– Если вы ее не видите, не о чем и говорить.
– Вы разве не знаете, что во время войны вообще никто не просыхал?
– Ладно, оставим это.
Однако эпизод еще не завершился. Услышав нагоняющие их поспешные шаги, они обернулись и увидели врача.
– Pardon, Messieurs, – отдуваясь, произнес он. – Voulez-vous rеgler mes honorairies? Naturellement c’est pour soins mеdicaux seulement. M. Barban n’a qu’un billet de mille et ne peut pas les rеgler et l’autre a laissе son porte-monnaie chez lui[31 - Прошу прощения, господа. Не могу ли я получить мой гонорар? Натурально, лишь за медицинскую помощь. Господин Барбан рассчитаться не может, у него с собой только купюра в тысячу франков, а другой господин оставил бумажник дома (фр.).].
– Вот в чем на француза всегда можно положиться, – сказал Эйб и затем доктору: – Combien?[32 - Сколько? (фр.)]
– Давайте я заплачу, – предложил Мак-Киско.
– Нет-нет, я при деньгах. А опасности мы все подвергались одинаковой.
Эйб расплатился с врачом, а Мак-Киско тем временем метнулся в кусты, и там его вырвало. После чего он, побледневший еще пуще прежнего, засеменил сквозь розовеющий утренний воздух вслед за Эйбом к машине.
Кэмпион, отдуваясь, лежал навзничь в зарослях – единственная жертва дуэли, – а Розмари, на которую вдруг напал истерический смех, пинала и пинала его обутой в эспадрилью ступней. Она не остановилась, пока Кэмпион не поднялся на ноги, – сейчас для нее было важным только одно: пройдет несколько часов, и она увидит на пляже человека, которого все еще называла про себя «Дайверами».
XII
Ожидая Николь, они сидели вшестером в «Вуазене»: Розмари, Норты, Дик Дайвер и двое молодых французских музыкантов. Сидели и вглядывались в других посетителей ресторана, пытаясь определить, владеют ли те умением непринужденно вести себя на людях. Дик заявил, что ни одному американцу, кроме него, таковое не присуще, вот они и искали пример, опровергающий это утверждение. Пока что положение их казалось безнадежным – никто из входивших в ресторан не выдерживал и десяти минут без того, чтобы не поднять руку к лицу.
– Не стоило нам отказываться от навощенных усов, – сказал Эйб. – Конечно, Дик не единственный раскованный человек…
– Разумеется, единственный.
– …но, возможно, он единственный, кто бывает таким в трезвом виде.
Вошел хорошо одетый американец с двумя женщинами, – мигом усевшись за столик, они непринужденно и естественно заозирались по сторонам. Американец же внезапно заметил, что за ним наблюдают, и рука его судорожно дернулась вверх, дабы разгладить несуществующую складку на галстуке. В другой компании, стоявшей в ожидании столика, присутствовал мужчина, непрерывно похлопывавший себя ладонью по гладко выбритой щеке, а его собеседник то и дело машинально поднимал ко рту и опускал наполовину выкуренную, погасшую сигару. Одни, более удачливые, поправляли очки или теребили свою лицевую растительность, другие же, лишенные и тех и другой, проводили пальцами по своим безусым губам, а то и безнадежно подергивали себя за мочки ушей.
Появился прославленный генерал, и Эйб, положившись на первый год, проведенный стариком в Вест-Пойнте, – год, до истечения которого ни один кадет не вправе подать в отставку и от которого никто из них никогда не оправляется, – предложил Дику пари на пять долларов.
Генерал стоял, ожидая, когда для него отыщут место, руки его свободно свисали по сторонам тела. Неожиданно он отвел их назад, словно собираясь спрыгнуть в воду, и Дик сказал: «Ага!», полагая, что генерал утратил самообладание, однако тот мигом пришел в себя, и все снова затаили дыхание – впрочем, мучения их подходили к концу, гарсон уже отодвигал для генерала кресло…
И тут старого воина что-то прогневало, и правая рука его взлетела вверх, чтобы проехаться по безупречно подстриженной седой голове.
– Вот видите, – самодовольно произнес Дик. – Я – единственный.
Собственно говоря, Розмари в этом и не сомневалась. Дик, понимавший, что лучшей аудитории у него никогда не было, так веселил их компанию, что Розмари проникалась нетерпеливым неуважением ко всем, кто не сидел за их столиком. Они провели в Париже два дня, но мысленно так и остались под пляжным зонтом. Когда, как прошлой ночью, на балу в Пажеском корпусе, происходившее вокруг начинало пугать Розмари, которой только еще предстояло побывать на голливудском «Мэйферовском приеме», Дик приводил ее в чувство, начиная здороваться с окружающими, – не без разбора, ибо круг знакомых был у Дайверов, по всему судя, обширный. Неизменно оказывалось, что человек, к которому Дик обращался, не видел их невесть какое долгое время и встреча с ними его бесконечно радовала: «Бог ты мой, где же вы прятались?» – после чего Дайвер возвращался, восстанавливая ее единство, к своей компании, мягко, но навсегда отваживая каким-нибудь ироническим coup de gr?ce[33 - Смертельный, решающий удар (фр.).] пытавшихся пролезть в нее чужаков. И Розмари начинало казаться, что она знала этих чужаков в каком-то достойном сожаления прошлом, но, сойдясь с ними поближе, отвергла их, сбросила со счетов.
Компания была поразительно американской, а временами и вовсе не американской. Дик возвращал тем, кто входил в нее, их самих, прежних, еще не замаранных многолетними компромиссами.
Николь появилась в темном, дымном, пропахшем расставленной по буфетной стойке жирной сырой едой ресторане, похожая в ее небесно-голубом костюме на заблудившийся кусочек стоявшей снаружи погоды. Поняв по глазам ожидавших ее, что она прекрасна, Николь поблагодарила их лучезарной улыбкой признательности. Поначалу они были очень милы, обходительны и все такое. Затем это их утомило, и они стали забавно язвительными, а устав и от этого, принялись строить планы, множество планов. Они смеялись над чем-то (и не могли потом точно вспомнить, над чем) – смеялись долго, мужчины успели прикончить три бутылки вина. Троица сидевших за столом женщин представляла великие и вечные изменения американской жизни. Николь приходилась внучкой и поднявшемуся из низов американскому капиталисту, и графу из рода Липпе-Вайссенфельд. Мэри Норт была дочерью мастера-обойщика, но среди ее предков числился и президент Тайлер. Розмари, происходившую из самой середки среднего класса, забросила на никем пока не исследованные вершины Голливуда ее мать. Их сходство друг с дружкой и отличие от столь многих женщин Америки состояло в том, что они были счастливы жить в мире, созданном мужчинами, – каждая сберегала свою индивидуальность с помощью мужчины, а не в противоборстве с ними. Каждая могла стать и прекрасной куртизанкой, и прекрасной женой – и не по случайности рождения, а по случайности еще большей: вследствие встречи или невстречи – со своим мужчиной.
Итак, Розмари находила приятным и это общество, и этот завтрак, тем более что людей за столом было семеро, а это – почти предельный размер хорошей компании. Возможно, и то, что она была человеком в их мире новым, действовало на них как катализатор, помогавший отбросить давние сомнения, питаемые ими насчет друг друга. Когда все поднялись из-за стола, гарсон направил Розмари в темное нутро, имеющееся у каждого французского ресторана; там она полистала под тусклой оранжевой лампочкой телефонную книгу и позвонила в компанию «Франко-американские фильмы». Да, конечно, у них имеется копия «Папенькиной дочки» – сейчас она на руках, но под конец недели они смогут устроить для нее просмотр на улице Святых Ангелов, дом 341, – ей нужно будет спросить мистера Краудера.
Накрывавший телефон колпак висел, собственно говоря, на тыльной стене гардероба, и, повесив трубку, Розмари услышала футах в пяти от себя, за рядом плащей на плечиках, два негромких голоса.
– …так ты любишь меня?
– О да!
Это была Николь. Розмари замерла под колпаком, не решаясь выйти, – и тут прозвучал голос Дика:
– Я так хочу тебя – поедем сейчас в отель.
Николь тихо, прерывисто вздохнула. Смысл этих слов дошел до Розмари не сразу, но хватило и интонации, от бесконечной доверительности которой ее проняла дрожь.
– Хочу тебя.
– Я вернусь в отель к четырем.
Розмари стояла, не дыша, слушая удалявшиеся голоса. Поначалу она даже изумилась, ибо считала Дайверов – в том, что касалось их отношений друг с другом, – людьми, лишенными личных потребностей, может быть, даже холодными. Потом ее окатил мощный поток эмоций, сложных, но неуяснимых. Она не понимала, влекли ее произнесенные Диком слова или отталкивали, понимала лишь, что задели за живое, и сильно. Возвращаясь в зал ресторана, она ощущала страшное одиночество, и все же вернуться туда следовало, в голове ее словно звучало эхо страстной благодарности, с которой Николь произнесла: «О да!» Точный настрой разговора, свидетельницей которого она стала, ей только еще предстояло уразуметь, однако, сколь ни далека от него была Розмари, сама душа ее говорила, что ничего дурного в нем нет, – она не испытывала отвращения, нападавшего на нее, когда ей приходилось разыгрывать на съемках некоторые любовные сцены.
Далека или не далека, однако она стала участницей происходившего, и этого уже не отменишь, и переходя с Николь из магазина в магазин, Розмари думала о назначенном свидании куда больше, чем сама Николь. Теперь Розмари смотрела на нее другими глазами, оценивала ее прелести заново. Конечно, Николь была самой привлекательной женщиной, какую Розмари когда-либо знала, – с ее твердостью, преданностью и верностью, с некоторой уклончивостью, которую Розмари, унаследовавшая от матери представления среднего класса, связывала с отношением Николь к деньгам. Сама Розмари тратила деньги, которые заработала, – она и в Европе-то оказалась потому, что в тот январский день шесть раз бросалась в бассейн, пока температура ее ползала от утренних 99° до 103°, на которых мама прервала это занятие.
С помощью Николь она купила на эти деньги два платья, две шляпки и четыре пары туфелек. Николь производила покупки, заглядывая в длинный, занимавший два листа бумаги список – впрочем, она не отказывала себе и в том, что попадалось ей на глаза в витринах. Нравившиеся, но не нужные ей вещи она покупала в подарок кому-нибудь из друзей. Она купила цветные бусы, складные пляжные матрасики, искусственные цветы, мед, кровать для гостей, сумки, шарфы, попугаев-неразлучников, утварь для кукольного домика и три ярда новой ткани креветочного цвета. Купила дюжину купальных костюмов, каучукового аллигатора, дорожные шахматы из золота и слоновой кости, большие льняные носовые платки для Эйба, два замшевых жакета от «Эрме» – один синий, как зимородок, другой цвета неопалимой купины, – все это приобреталось отнюдь не так, как приобретает белье и драгоценности куртизанка высокого полета, для которой они суть профессиональная экипировка и страховка на будущее, но из соображений совершенно иных. Николь была продуктом высокой изобретательности и тяжкого труда. Это для нее поезда, выходя из Чикаго, прорезали округлое чрево континента, чтобы попасть в Калифорнию; дымили фабрики жевательной резинки, и все длиннее становились конвейеры; рабочие смешивали в чанах зубную пасту и разливали по медным бочкам зубной эликсир; девушки быстро раскладывали в августе помидоры по консервным банкам, а в канун Рождества переругивались с покупателями в дешевых магазинах; метисы надрывались на бразильских кофейных плантациях, а изобретатели, пробившись в патентные бюро, узнавали, что их придумки уже использованы в новых тракторах, – и это были лишь немногие из тех, кого Николь облагала оброком: вся система, продвигаясь, шатко и с грохотом, вперед, давала Николь возможность лихорадочно предаваться таким ее обыкновениям, как залихватские закупки, и лицо ее румянилось от прилива крови – совсем как у пожарника, не покидающего свой пост, хоть на него и наползает стена огня. Она была иллюстрацией очень простых принципов, в самой себе содержащей свою роковую судьбу, и иллюстрацией настолько точной, что в исполняемой ею процедуре ощущалась грация, и Розмари решила попробовать когда-нибудь повторить ее.
Было почти четыре. Николь стояла с попугайчиком на плече посреди магазина – на нее напала, что случалось не часто, говорливость.
– Ну, а что было бы, не ныряй вы тогда в бассейн? Я иногда размышляю о подобных вещах. Знаете, перед самой войной – и перед самой смертью мамы – мы приехали в Берлин, мне было тогда тринадцать. Сестра собиралась на бал при Дворе, в ее бальной книжечке значились имена трех наследных принцев, это ей гофмейстер устроил. За полчаса до поездки туда у нее сильно закололо в боку, подскочила температура. Доктор сказал, что это аппендицит, что ей нужна операция. Но у мамы были свои планы: Бэйби, так зовут мою сестру, привязали под вечернее платье пузырь со льдом, и она отправилась на бал, и протанцевала до двух. А в семь утра ее прооперировали.
Выходит, жестоким быть хорошо; все приятные люди жестоки к себе. Но уже пробило четыре, и Розмари все думала о Дике, ожидающем Николь в отеле. Она должна ехать туда, не должна заставлять его ждать. «Ну почему ты не едешь?» – думала Розмари, а затем вдруг: «Если тебе не хочется, давай я поеду». Однако Николь зашла еще в один магазин, чтобы купить им обоим по лифчику и отправить один Мэри Норт. И лишь выйдя оттуда на улицу, похоже, вспомнила – лицо ее приобрело отрешенное выражение, и она помахала рукой, призывая такси.
– До свидания, – сказала Николь. – Хорошо погуляли, правда?
– Замечательно, – ответила Розмари. Это далось ей труднее, чем она думала, все в ней протестовало, пока она смотрела, как уезжает Николь.
XIII
Дик обогнул поперечный траверс и пошел по дощатому настилу траншеи. Дойдя до перископа, на миг припал к окуляру, затем встал на стрелковую приступку и заглянул поверх бруствера. Перед ним простирался под тусклым небом Бомон-Амель, слева вставала страшная высота Типваль. Дик оглядел их через полевой бинокль, и горло его сжала печаль.
Пройдя до конца окопа, он присоединился к своим спутникам, ожидавшим его у следующего траверса. Дика переполняло волнение и желание поделиться им с другими, рассказать, что здесь происходило, даром что сам-то он в боях не участвовал – в отличие от Эйба Норта.
– В то лето каждый фут этой земли стоил жизни двадцати солдатам, – сказал он Розмари. Та послушно окинула взглядом голую равнину с невысокими шестилетними деревьями. Добавь Дик, что они находятся под артиллерийским обстрелом, она поверила бы ему. Любовь Розмари достигла той грани, за которой она наконец почувствовала, что несчастна, что ее одолевает отчаяние. И что ей теперь делать, не знала, – очень хотелось поговорить с матерью.
– С того времени умерли многие, да и мы скоро там будем, – сообщил всем в утешение Эйб.
Розмари с нетерпением ожидала ответа Дика.
– Видите тот ручеек? Мы могли бы дойти до него минуты за две. А британцы проделали этот путь за месяц, – вся империя медленно продвигалась вперед, передовые бойцы гибли, и на их место проталкивали сзади новых. А еще одна империя очень медленно отступала на несколько дюймов в день, оставляя убитых, обретших сходство с грудами окровавленных тряпок. Ни один европеец нашего поколения никогда больше не пойдет на это.
– Да они только что закончили с этим в Турции, – сказал Эйб. – А в Марокко…
– Там другое. Происходившее на Западном фронте повторить невозможно, во всяком случае, на долгое время. Молодые люди полагают, что у них это получится, – но нет. Они еще смогли бы сражаться в первой битве на Марне, но не в этой. Для этой требуется вера в Бога, долгие годы изобилия и огромной уверенности в будущем, строго определенные отношения между классами. Русские и итальянцы ничем на этом фронте не блеснули. Человеку требовалась тут благородная сентиментальная оснастка, корни которой уходили в незапамятные времена. Он должен был помнить празднования Рождества, почтовые открытки с изображением наследного принца и его нареченной, маленькие кафе Валанса и пивные под открытым небом на Унтер-ден-Линден, и обручения в мэрии, и поездки в Дерби, и бакенбарды своего дедушки.
– Сражения такого рода придумал еще генерал Грант – под Питерсбергом, в шестьдесят пятом.
– Нет, не он, Грант додумался всего лишь до массовой бойни. А такого рода сражения придумали Льюис Кэрролл, и Жюль Верн, и автор «Ундины», и игравшие в кегли сельские священники, и марсельские кумушки, и девушки, которых совращали в тихих проулках Вюртемберга и Вестфалии. Помилуйте, тут состоялась битва любви – средний класс оставил здесь столетие своей любви. И это была последняя такая битва.
– Вы норовите всучить командование здешним сражением Д. Г. Лоуренсу, – заметил Эйб.
– Весь мой прекрасный, любимый, надежный мир взлетел здесь на воздух при взрыве бризантной любви, – скорбно стоял на своем Дик. – Не правда ли, Розмари?
– Не знаю, – хмуро ответила она. – Это вы у нас все знаете.
Они немного отстали от остальных. Внезапно на головы их градом осыпались комья земли и камушки, а из следующего окопа донесся крик Эйба:
– Я снова проникся воинственным духом. Век любови штата Огайо стоит за моей спиной, и я намерен разбомбить ваш окоп.
Голова его высунулась из-за насыпи:
– Вы что, правил не знаете? Вы убиты, подорвались на гранате.
Розмари рассмеялась, Дик сгреб с земли ответную горсть камушков, но затем высыпал их из ладони.
– Я не могу шутить здесь, – сказал он почти извиняющимся тоном. – Порвалась серебряная цепочка, и у источника разбился золотой кувшин[34 - «…доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем» (Екклезиаст, 12:6).], и все такое, однако старый романтик вроде меня ничего с этим поделать не может.
– Я тоже романтик.
Они выбрались из старательно восстановленной траншеи и увидели перед собой мемориал Ньюфаундлендского полка. Прочитав надпись на нем, Розмари залилась слезами. Подобно большинству женщин, Розмари любила, когда ей объясняли, что она должна чувствовать, любила, чтобы Дик указывал ей, что смешно, а что печально. Но сильнее всего ей хотелось, чтобы он понял, как она любит его, – понял сейчас, когда само существование этой любви лишало ее душевного равновесия, когда она шла, словно в берущем за сердце сне, по полю боя.
Дойдя до машины, все уселись в нее и поехали обратно в Амьен. Скудный теплый дождик сеялся на молодые низкорослые деревца, на подрост между ними, за окнами проплывали огромные погребальные костры, сложенные из неразорвавшихся снарядов, мин, бомб, гранат и амуниции – касок, штыков, винтовочных прикладов, кожи, шесть лет гнившей в земле. Неожиданно за поворотом показались белые верхушки бескрайнего моря могил. Дик попросил шофера остановиться.
– Гляньте, все та же девушка – и все еще с венком.
Они смотрели, как Дик вылезает из машины, подходит к девушке, растерянно стоявшей с венком в руках у ворот кладбища. Ее ждало такси. С этой рыженькой уроженкой Теннесси они познакомились утром в поезде, она приехала из Ноксвилла, чтобы положить венок на могилу брата. Теперь по ее лицу бежали слезы досады.
– Похоже, Военное министерство дало мне неправильный номер, – тоненько пожаловалась она. – На том надгробье другое имя стоит. Я с двух часов искала, искала, но тут столько могил.
– Я бы на вашем месте просто положил венок на любую могилу, а на имя и смотреть не стал, – посоветовал ей Дик.
– Считаете, мне так поступить следует?
– Думаю, ваш брат это одобрил бы.
Уже темнело, дождь усиливался. Девушка опустила венок на первую же за воротами могилу и приняла предложение Дика отпустить такси и вернуться в Амьен с ними.
Розмари, услышав о ее злоключении, расплакалась снова – вообще, день получился каким-то мокроватым, и все же она чувствовала, что узнала нечто важное, хоть и не смогла бы сказать что. Впоследствии все послеполуденные часы вспоминались ею как счастливые, как один из тех, не отмеченных никакими событиями промежутков времени, что кажутся, пока их проживаешь, лишь связующим звеном между прошлым и будущим счастьем, а позже понимаешь: как раз они-то счастьем и были.
Амьен еще оставался в ту пору городком лиловатым и гулким, по-прежнему опечаленным войной, – какими были и некоторые железнодорожные вокзалы: парижский Gare du Nord[35 - Северный вокзал (фр.).], лондонский Ватерлоо. В дневное время подобные города с их маленькими, прослужившими два десятка лет трамваями, пересекавшими огромные, мощенные серым камнем площади перед кафедральными соборами, как-то придавливали человека, сама погода казалась в них состарившейся и выцветшей, точно давние фотографии. Однако при наступлении темноты картина пополнялась возвратом всего, чем может порадовать французская жизнь, – бойкими уличными девицами, мужчинами, о чем-то спорившими в кафе, пересыпая свою речь сотнями «Voil?»[36 - Ну вот! Вот так! (фр.)], парочками, медленно уходившими, щека к щеке, в недорогое никуда. Ожидая поезда, вся компания сидела в большом пассаже, достаточно высоком, чтобы утягивать вверх табачный дым, болтовню и музыку, и оркестрик услужливо исполнил «Да, бананов у нас нет», и они поаплодировали – уж больно довольным собой выглядел дирижер. Теннессийка забыла о своих печалях и от души радовалась жизни, она даже принялась флиртовать с Эйбом и Диком, страстно округляя глаза, похлопывая то одного, то другого по плечам. А они ласково поддразнивали ее.
Потом они погрузились в парижский поезд, оставив бесконечно малые частицы вюртембергцев, прусских гвардейцев, альпийских стрелков, манчестерских пролетариев и старых итонцев продолжать их вечный неторопливый распад под теплыми струями дождя. Они жевали купленные в вокзальном ресторане бутерброды с сыром «Бель паэзе» и болонской колбасой, пили «Божоле». Николь казалась рассеянной, беспокойно покусывала нижнюю губу, читала купленные Диком путеводители по полю сражения – собственно, он и сам успел быстро просмотреть эти брошюрки с начала и до конца, упрощая и упрощая прочитанное, пока оно не приобрело легкое сходство с одним из его званых обедов.
XIV
Когда они добрались до Парижа, выяснилось, что Николь слишком устала для запланированного ими осмотра ночной иллюминации Выставки декоративного искусства. Они довезли ее до отеля «Король Георг», и когда она исчезла за пересекающимися плоскостями, в которые освещение вестибюля обращало его стеклянные двери, подавленность Розмари как рукой сняло. Николь представляла собой силу – и в отличие от матери Розмари, далеко не благожелательную или предсказуемую, совсем наоборот. Розмари немного побаивалась ее.
В одиннадцать часов вечера она сидела с Диком и Нортами в кафе, недавно открывшемся на причаленной к набережной Сены барке. В воде мерцали огни мостов, покачивалась холодная луна. В пору их парижской жизни Розмари и ее мать иногда покупали по воскресеньям билеты на ходивший в Сюрен пароходик и плыли по Сене, обсуждая планы на будущее. Денег у них было мало, но миссис Спирс настолько верила в красоту Розмари, взлелеяла в ней такое честолюбие, что готова была поставить на «победу» дочери все, что имела; а Розмари в свой черед предстояло, как только у нее что-то начнет получаться, возместить все расходы матери…
Едва вернувшись в Париж, Эйб Норт стал словно бы окутываться винными парами; глаза его покраснели от солнца и спиртного. Розмари впервые сообразила, что он не упускает ни единой возможности зайти куда-нибудь и выпить, – интересно, думала она, как относится к этому Мэри Норт? Мэри была женщиной неразговорчивой, разве что смеялась часто, – столь неразговорчивой, что Розмари почти ничего в ней не поняла. Розмари нравились ее прямые темные волосы, зачесанные назад и спускавшиеся с макушки своего рода естественным каскадом, не доставляя ей особых забот, – лишь время от времени прядь их спадала, косо и щеголевато, на краешек лба Мэри, почти закрывая глаз, и тогда она встряхивала головой, возвращая эту прядь на место.
– Давай сегодня ляжем пораньше, Эйб, выпьем еще по бокалу, и будет, – тон Мэри был легким, но в нем ощущался оттенок тревоги. – Ты же не хочешь, чтобы тебя перекачивали в трюм парохода.
– Час уже поздний, – сказал Дик. – Пора расходиться.
Исполненное благородного достоинства лицо Эйба приняло упрямый вид, он решительно заявил:
– О нет. – Величавая пауза, затем: – Пока что нет. Выпьем еще одну бутылку шампанского.
– С меня довольно, – сказал Дик.
– Я о Розмари забочусь. Она прирожденная выпивоха, держит в ванной комнате бутылку джина и все такое, мне ее мать рассказывала.
Он вылил в бокал Розмари все, что оставалось в бутылке. В первый их парижский день она опилась лимонада, ее тошнило, и после этого она не пила ничего, однако теперь поднесла бокал к губам и пригубила шампанское.
– Это еще что такое? – удивился Дик. – Вы же говорили мне, что не пьете.
– Но не говорила, что и не буду никогда.