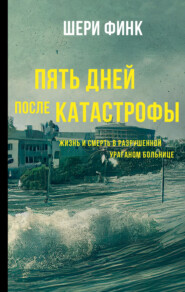скачать книгу бесплатно
Анне Поу устроили экскурсию по Мемориалу и познакомили ее с операционными медсестрами. «Доктор Пау?» – переспросила одна из них и извинилась, когда Анна ее поправила. Медсестра окинула недоверчивым взглядом миниатюрную фигурку Анны, катившей по коридору пластиковый чемодан на колесиках фирмы «Самсонайт». Она не могла поверить, что перед ней та самая женщина-хирург, о которой так много говорили. «Ты только посмотри на нее!» – шепнула она одной из коллег. Внешность Анны в самом деле никак не вязалась с ее способностью проводить тяжелейшие, изматывающие операции, длящиеся порой целый день. Она не выглядела как человек, обладающий необходимой для этого физической выносливостью.
Анне предстояло завоевывать авторитет и репутацию: ей далеко не всегда удавалось с ходу очаровать тех, с кем ее сводила судьба.
* * *
На тот момент, когда вся больница ждала удара урагана «Катрина», доктору Хорасу Бальцу было семьдесят девять лет. Он был одним из старожилов этого лечебного учреждения и в прошлом руководил всем его медицинским персоналом. Он лечил пациентов Мемориала, который в прежние времена назывался Баптистской больницей, более сорока лет и до сих пор, в отличие от большинства его коллег, делал общие анализы крови сам, не отправляя материал в лабораторию. На стене в его кабинете висела большая черно-белая фотография. На ней была запечатлена медсестра в белом чепце, подносящая чашку с водой к губам пожилого мужчины, который лежал на раскладной койке. Доктор и медсестра, изображенная на фото, работали вместе в 1965 году, помогая пациентам, которые лишились своих жилищ в результате удара урагана «Бетси».
Бальц был сыном киномеханика, самым младшим из пяти детей. И первым, кто прошел обучение в колледже. Он хорошо помнил те времена, когда, будучи еще учеником средней школы, подрабатывал доставкой лекарств из соседней аптеки. Ему нередко доводилось доставлять лекарства по рецептам, выписанным доктором Фредериком Поу, отцом Анны.
Гордящийся своим прошлым, шумный и громогласный, а также исключительно принципиальный, доктор Бальц любил вспоминать прежние времена, когда в вестибюлях и коридорах Баптистской больницы часто можно было встретить настоящих медицинских светил. За время своей врачебной карьеры он стал свидетелем двух серьезных изменений в практической медицине. Одним из них было появление высокотехнологичной аппаратуры жизнеобеспечения, предназначенной для пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями и находящихся в критическом состоянии. Похоже, Южная баптистская больница стала первым лечебным учреждением на всем юго-востоке страны, которое приобрело так называемую реанимационную тележку. Это было специальное оборудование, которое появлялось в палате в случае экстренной ситуации, когда пациент переставал дышать или его сердце останавливалось. На тележке были разложены и расставлены сильнодействующие препараты, респиратор для подачи кислорода в легкие больного, аспиратор для расчистки и продувки дыхательных путей, кардиомонитор для отслеживания частоты пульса и электрических сигналов сердца, кардиостимулятор для восстановления нормального ритма сердечных сокращений и дефибриллятор – для запуска работы миокарда, если сердце остановилось. Это было исключительно важное, судьбоносное приобретение, о котором в 1967 году раструбили в местной газете. В то же время Баптистская больница в целом заметно расширила и обогатила свою материальную базу, в частности, развернув в отделении интенсивной терапии кислородную установку, а также специальную систему контроля за состоянием больных с кардиологическими нарушениями. Эта система подавала звуковой сигнал, вызывая медперсонал в случаях, когда аппаратура фиксировала у пациента аритмию, или в других экстренных ситуациях.
«При аварии городской системы подачи электричества все подразделения больницы смогут продолжить работу, используя автономные вспомогательные источники энергии, так что отключений аппаратуры не будет», – написал администратор Баптистской больницы в июне 1967 года в бюллетене медучреждения.
Интенсивная терапия стала основной специализацией Мемориального медицинского центра, как и многих других лечебных учреждений страны. В связи с этим возникли новые этические проблемы. Начало меняться само понятие того, что в медицине принято было называть «экстренными мерами».
Когда искусственное поддержание жизнедеятельности могло считаться оправданным? Интенсивная терапия, трансплантология и другие новые методики и направления – все это стоило очень дорого. Вскоре после их появления произошло второе глобальное изменение в сфере медицины и здравоохранения. Во-первых, стали скрупулезно оцениваться расходы, связанные с той или иной методикой лечения, а во-вторых, начали быстро развиваться отрасли медицины, ориентированные на получение прибыли. К началу 80-х годов XX века здравоохранение стало отдельным сектором рынка. «Многим из нас сложно привыкнуть к тому, что в сфере медицины деловые мотивы начинают преобладать над этическими», – сказал доктор Бальц в беседе с корреспондентом бюллетеня Баптистской больницы в середине 1980-х. Правда, сама Баптистская больница продолжала работать в соответствии с прежними, привычными принципами, но медицина в целом все больше коммерциализировалась. Многие врачи в этой ситуации опасались, что в скором времени принимать решения о том, какие анализы брать и какие методики лечения использовать, будут не они, а бухгалтеры.
Поскольку врачи в своей работе все больше полагались на медицинскую аппаратуру и придавали все больше значания финансовой составляющей, доктор Бальц делал все возможное, чтобы его коллеги по Баптистской больнице помнили об этических основах их профессии. Как руководитель медицинского коллектива лечебного учреждения он убеждал сотрудников не забывать о сострадании и быть избирательными в применении новых технологий. Во многом благодаря Бальцу в больнице был создан комитет по этике, который принимал участие в обсуждении громких случаев, таких как история с пятидесятивосьмилетним безнадежно больным Кларенсом Гербертом, находившимся в коме. Лечивших его врачей судили в Лос-Анджелесе за убийство после того, как они отключили его от аппаратуры жизнеобеспечения и перестали ставить ему капельницы. Расследование было проведено после жалобы одной из медсестер. Этот случай стал свидетельством того, что ситуации, когда медикам приходится принимать весьма трудное решение об отключении больного от аппаратов, могут порождать разногласия между врачами и средним медицинским персоналом. Родственники Кларенса Герберта также заявили, что врачи якобы неверно проинформировали их о шансах больного на выздоровление, чтобы получить от них согласие на отключение аппаратуры. В конечном счете обвинения против медиков были сняты. «Способы и средства прекращения жизни должны быть тщательно продуманы» – так прокомментировал этот случай в больничном бюллетене доктор Бальц.
Бальц продолжал свой диалог с коллегами на протяжении многих лет. В 1997 году «Лайфкэр» арендовала седьмой этаж основного здания Мемориального медцентра и открыла там отделение неотложной помощи – больницу внутри больницы. Изменение финансовых условий участия в страховой программе «Медикэр» создало благоприятную почву для распространения этой инициативы на другие больницы по всей стране. Бальц за чашкой кофе принимал самое оживленное участие в дискуссиях с коллегами, многие из которых считали, что на пациентов, нуждающихся в неотложной помощи – как правило, пожилых людей с нестабильным состоянием здоровья, – тратятся слишком большие ресурсы. «Мы слишком много тратим на этих индюков, – заявил как-то один из докторов. – Нам следовало бы просто позволить им умереть».
«Вы не имеете права решать, кому жить, а кому умирать», – отвечал на такие заявления Бальц. В результате подобных бесед он понял, что многие врачи являются приверженцами концепции, которую сам доктор Бальц называл «философией губернатора Лэмма». В 1984 году, когда дефицит бюджета увеличился, а стоимость медицинского обслуживания росла как на дрожжах, губернатор штата Колорадо Ричард Лэмм обрушился с критикой на практику использования дорогой высокотехнологичной аппаратуры и препаратов для сохранения жизни безнадежным пациентам на протяжении неопределенно долгого времени, независимо от их возраста и медицинских прогнозов. На состоявшейся в Колорадо встрече Ассоциации медицинских юристов Лэмм подкрепил свою позицию, процитировав известного специалиста по биоэтике из Чикагского университета, доктора Леона Р. Касса. «Мы должны умирать, – сказал Лэмм, – несмотря на наличие сложной медицинской аппаратуры, искусственных сердец и прочего, вовремя освобождая дорогу новым поколениям людей, нашим детям, которые построят достойную жизнь».
Слова Лэмма были подхвачены въедливым репортером «Денвер пост» и вызвали волну негодования общенационального масштаба. С появлением в 60–70-х годах XX века реанимационных тележек и распространением новых методик интенсивной терапии медики научились существенно продлевать жизнь пациентам, находящимся в тяжелом состоянии. Страховая программа «Медикэр» покрывала расходы на применение новых технологий независимо от того, сколько это стоило. В результате к началу 1980-х годов некоторые представители политической элиты были обеспокоены прогнозами роста бюджетных расходов на медицину. Высказывания Лэмма привлекли внимание общества к проблеме и наглядно продемонстрировали, каким острым грозит быть зарождающийся конфликт между «сугубо коммерческим» и «гуманным» подходами к медицине и какими сложными могут стать ситуации, когда врачам придется решать, что правильнее – продлевать жизнь безнадежному больному или избавить его от страданий.
Рациональный подход Лэмма к этим проблемам по целому ряду причин вызывал неприятие и протест у многих людей. Ведь ограничение использования медицинских методик, продлевающих жизнь больному, противоречило бы естественному человеческому желанию спасать пациентов в экстренной ситуации, а попытки препятствовать разработке новых методов продления жизни означали бы отказ от извечных поисков эликсира бессмертия.
К тому же это было бы плохо для капитализма. В то время противостояние США и Советского Союза превратилось в соревнование новых технологий. Если мы сумели полететь на Луну, почему бы нам не попробовать научиться лечить рак или воскрешать мертвых?
К этому следует добавить сравнительно недавние неудачные опыты с евгеникой, а также нацистские эксперименты в медицине и фармакологии. Суть философии нацистов состояла в том, что в мире есть народы, которые якобы не имеют права на жизнь, а значит – если следовать извращенной нацистской логике, – необходимо избавить общество от некоторых его членов ради блага всего человечества. Пропаганда идеологами Третьего рейха подобных воззрений привела к тому, что в душах и умах американцев прочно поселилось неприятие подхода, согласно которому жизнь одного человека может иметь меньшее значение и быть менее ценной, чем жизнь другого.
С другой стороны, в ситуации, когда ученые постоянно раздумывали над тем, как «починить» или заменить тот или иной жизненно важный орган в случае, если он вдруг откажет, методики и технологии поддержания жизни стали заметно опережать методики и технологии облегчения боли – как физической, так и душевной, или экзистенциальной. При этом пациенты, оказывавшиеся в критическом состоянии и неспособные говорить, практически не имели права голоса в выборе лечения.
Имелись и еще более глубокие и сложные вопросы. Например, как в новых условиях определять смерть? В каких ситуациях было допустимо и даже правильно не подключать больного к аппаратуре жизнеобеспечения или – что, возможно, было еще более мучительным решением – отключать ее? Несколько недель после того, как репортер «Денвер пост» растиражировал слова Лэмма, рядовые американцы были вынуждены смотреть этим проблемам прямо в глаза.
Не выдержав, они вскоре отвели взгляд.
* * *
Доктор Бальц узнал о существовании Анны Поу вскоре после того, как она пришла на работу в Мемориал осенью 2004 года. У одного из его пациентов в пищеводе образовалась киста, которая мешала ему глотать и препятствовала попаданию пищи в желудок. Анна Поу в тот день вела прием в качестве отоларинголога, и доктор Бальц стал расспрашивать о ней медсестер. Кто она такая? Что она за человек? Медсестры в ответ лишь приподнимали брови. Поскольку они явно не желали обсуждать нового доктора, доктор Бальц предположил, что, по их мнению, Анна Поу человек непредсказуемый, которого лучше избегать.
Когда Анна пришла осмотреть пациента доктора Бальца, она не просто высказала свое мнение. Как показалось самому Бальцу, она принялась командовать и даже не сочла нужным обсудить с ним важные аспекты лечения больного с кистой пищевода. Анна показалась ему компетентной как специалист, но в то же время недостаточно деликатной. После этого случая доктор Бальц решил сделать Анне кое-какие замечания в духе конструктивной критики. Он уже давно привык добиваться того, чтобы его коллеги, работающие с ним бок о бок, совершенствовались, особенно когда речь шла о молодых врачах, занявших свои должности недавно. Казалось, Анна Поу прислушалась к его замечаниям.
Прожив и проработав в Галвестоне семь лет, любому врачу было бы нелегко приспособиться к особенностям, традициям и даже инструментам и аппаратуре другой больницы. Когда Поу была твердо убеждена в чем-то, независимо от того, права она была или нет, она всегда излагала свою позицию страстно и безапелляционно, словно ведущий ток-шоу, не знающий сомнений. Демонстрация собственной уверенности была чем-то вроде защиты, к которой нередко прибегают молодые медики во время практики, когда их более опытные коллеги муштруют их и нарочно задают им сложные вопросы в присутствии других врачей. Проблема, однако, состояла в том, что пациенты и их родственники хотели получать четкие и ясные ответы на вопросы, которые таких ответов заведомо не имели.
Однажды Анна Поу отозвала в сторонку медсестру, занимавшуюся выхаживанием прооперированного ею пациента. «Это недопустимо!» – заявила Анна, обращаясь к ней. Дело было в том, что накануне ночью с одним из пациентов Анны обошлись неподобающим образом. Медсестры застали его за попытками встать с кровати и отсоединить от шеи дыхательную трубку. Одна из медсестер по пейджеру вызвала дежурного ординатора и попросила его захватить с собой мягкие наручники с длинными ремнями. Сиделки надели наручники пациенту на запястья и привязали его ремнями к койке. Они решили, что, если ограничить его подвижность, это не позволит ему причинить самому себе ущерб и к тому же он быстрее успокоится. Когда утром Анна приехала в больницу и увидела своего пациента привязанным к кровати, она очень расстроилась. Подумав немного, она попросила дежурную медсестру связаться с инженером по технике безопасности и попросить его выделить рабочих, которые сидели бы у кровати пациента круглые сутки и следили за тем, чтобы он не навредил себе, но при этом без ремней и наручников. Это была необычная просьба. Благодаря ей Анна Поу завоевала уважение медсестры. С точки зрения последней, такой поступок свидетельствовал об искреннем сострадании, которое Поу испытывала к своим пациентам.
В отличие от многих хирургов, которые во время операций – зачастую ради самоутверждения – проявляли грубость и нетерпение по отношению к среднему медперсоналу, Анна Поу методично объясняла ординаторам и медсестрам все свои действия. При этом она говорила в манере, свойственной школьным учителям, отчетливо произнося каждый слог и сопровождая каждое свое слово энергичным кивком.
Но, пожалуй, самое сильное впечатление на окружающих произвело то, к каким именно пациентам Поу проявляла больше заботы и внимания. Это были не просто онкологические больные, а те, у которых недуг вызвал страшные деформации лица. Некоторые из них беспрерывно кашляли и брызгали слюной, с трудом говорили. Анна Поу работала сразу в нескольких лечебных учреждениях. В Благотворительной больнице она открыла клинику для пациентов с низкими доходами. В результате у многих людей с онкологическими заболеваниями шеи и головы появилась возможность получить лечение по самым передовым методикам, в том числе с использованием реконструктивной хирургии. Анне удалось убедить целую группу врачей и физиотерапевтов предоставлять в этой клинике услуги без дополнительной оплаты.
Пятнадцатого января 2005 года Анна Поу приехала в отель «Ритц-Карлтон» в Новом Орлеане, чтобы принять участие в ежегодном банкете в честь вступления в должность избранных руководителей персонала Мемориала. Празднество проходило в ярком свете хрустальных люстр. Музыкальная группа «Блэкенд блюз бэнд» одну за другой исполняла композиции в стиле рок, блюз и соул. Стол, украшенный букетами лилий и ирисов, ломился от гигантских подносов с устрицами и креветками. Десертные столы, украшенные бусами и масками с фестиваля Марди Гра, были уставлены блюдами с пирожными.
Анна Поу была одета в брюки и блузку с коротким рукавом и глубоким декольте. Шею ее украшала двойная нитка жемчуга, уши – жемчужные серьги. Ее волосы были коротко подстрижены – их кончики доходили до линии подбородка. Она провела весь вечер, общаясь с медиками и их женами, то и дело сверкая широкой белозубой улыбкой на радость фотографу, которого прислали освещать мероприятие.
Роскошь банкета для медицинских работников составляла контраст с положением материнской компании Мемориала, «Тенет хелскэр». Корпорация имела многомиллионные долги в виде выплат по искам о мошенничестве и проведении ненужных хирургических операций в других больницах. «Тенет» угрожали падение стоимости акций, многомиллиардные операционные убытки, федеральный иск о завышении счетов по программе «Медикэр» для увеличения прибыли, а также коллективный иск акционеров о введении инвесторов в заблуждение. Чтобы как-то отвлечь внимание от этих неприятных фактов, «Тенет» перенесла свою штаб-квартиру из Калифорнии в Даллас. Кроме того, компания занялась продажей двадцати семи больниц, которые никак не могли достичь требуемых финансовых результатов.
Врачи, работавшие в Мемориале, были в курсе этих новостей, тем не менее им было что праздновать. Всего через три года после начала работы нового хирургического центра представители администрации больницы перерезали ленточку на церемонии открытия нового Института онкологии рядом с медцентром, на другой стороне улицы. Его строительство обошлось в 18 миллионов долларов. Кроме того, была завершена реконструкция родильного отделения стоимостью 5 миллионов долларов. Мемориальный медицинский центр успешно прошел очередную промежуточную аккредитацию, и работа десятков больниц корпорации «Тенет», расположенных в разных штатах, получила самую высокую оценку федеральных чиновников. Словом, персоналу Мемориального медцентра 2005 год сулил только хорошее.
* * *
Когда стало известно о приближении урагана «Катрина», Анна Поу находилась на дежурстве. Это означало, что ей придется задержаться в больнице до окончания стихийного бедствия. Ей позвонил доктор Нусс из Университета штата Луизиана. «Думаю, все это очень серьезно», – сказал он. Никто из пациентов, прооперированых им или Анной и все еще находившихся в Мемориале или других больницах Нового Орлеана и прилегающих районов, к счастью, не находился в тяжелом состоянии. Нусс уговаривал Анну передать их другим докторам. Муж Анны поддержал это предложение. В те выходные вместе с Поу дежурили два врача-ординатора, но она отпустила их, чтобы они могли находиться рядом со своими близкими, и посоветовала им уехать из города. В четыре часа дня воскресенья Национальный центр по слежению за ураганами впервые предупредил, что мощные волны и наводнение, способное привести к подъему уровня воды на двадцать восемь футов выше нормы, могут размыть некоторые из защитных дамб. Анна Поу решила, что обязана остаться на своем рабочем месте на случай, если кому-то из жителей города потребуется специализированная медицинская помощь, которую могла им предоставить только она и еще несколько врачей – их можно было пересчитать по пальцам. Большинство операций, общее число которых составляло порядка тысячи в год, врачи отделения онкохирургии головы и шеи, открытого Поу в Благотворительной больнице, выполняли на базе Мемориального медцентра. Поэтому Анна решила, что ей следует остаться именно в Мемориале.
Когда врачи и средний медперсонал в воскресенье вечером собрались в больнице, помещение для эндоскопии, в котором они решили расположиться, стало похоже на место проведения «пижамной вечеринки». Многие медсестры были одного возраста с Анной Поу. Они, как и Анна, выросли в Новом Орлеане, тоже учились в частных католических школах, и теперь, когда им представилась возможность пообщаться, выяснилось, что у них много общих друзей и знакомых. Медсестры знали и первого настоящего бойфренда Анны, поскольку он в свое время работал анестезиологом в Мемориале. «Видели бы вы его сейчас!» – поддразнивали они Анну. Бывший приятель Анны, судя по фотографиям, превратился в крепкого мужчину с насмешливыми глазами, круглыми щеками и чуть кривоватой улыбкой. Теперь у него была семья, состоящая из жены и трех дочерей, а его волосы заметно поредели и поседели. Поу достала помаду и стала красить губы. «Что вы делаете? – спросила одна из медсестер. – Уже полночь! Зачем это вам?»
Анна ответила, что хочет выглядеть как можно лучше – на случай, если ей придется столкнуться с бывшим бойфрендом. Медсестры рассмеялись и заверили ее, что этого не произойдет, поскольку он недавно уволился.
На улице стояла жара, но в больнице было прохладно: технический персонал установил термостат на минимум, чтобы как можно больше охладить помещения, пока еще город снабжал лечебное учреждение электроэнергией. Если из-за урагана в больнице отключится электричество, о кондиционировании воздуха придется забыть: автономная система электроснабжения не была на это рассчитана. Из прошлого опыта медсестры знали, что в этом случае в палатах быстро станет очень жарко. Анна сделала несколько телефонных звонков своим родственникам и друзьям и как ни в чем не бывало сообщила им, что, если что-то случится, они смогут найти ее в больнице. «А что ты там делаешь? – спросил один ее приятель из Хьюстона, только что прослушавший угрожающий прогноз погоды. – Убирайся оттуда!» Но Анна Поу и не подумала менять свое решение. «Я останусь здесь», – твердо заявила она.
Ураган приближался. В больничном комплексе Мемориала находились 183 пациента, немного больше обычного (это было связано с тем, что несколько больных поступили в последний момент из-за пугающих прогнозов по поводу урагана), и примерно столько же животных, принадлежавших медперсоналу. Еще 55 человек располагались на седьмом этаже, в отделении неотложной помощи, – это были пациенты «Лайфкэр». Часть из них главная медсестра отделения Джина Избелл помогла перевезти из больницы в приходе Сент-Бернард.
Чтобы оказывать помощь больным и пострадавшим, в больницу прибыли примерно 600 медиков. Там же находилось еще примерно столько же членов их семей и друзей. Мемориал обслуживал самых разных пациентов с разным уровнем достатка. Он располагался на расстоянии нескольких минут езды от роскошных особняков на окраине и в пригороде Нового Орлеана – и одновременно всего в полумиле от кварталов, состоящих из многоквартирных муниципальных домов. Некоторые местные жители пришли в больницу, просто чтобы укрыться там на время урагана. Представители администрации подсчитали, что всего на территории Мемориального медицинского центра собралось от 1800 до 2000 человек.
Ночную темноту вспарывали вспышки молний. Капли дождя сыпались в свете фонарей на ночные улицы и, подхватываемые порывами ветра, барабанили в окна.
Поу занялась тем, что казалось ей вполне естественным, – она стала молиться. В течение последующих дней она делала это много раз.
День второй
Понедельник, 29 августа 2005 года
2:11, фрагмент передачи новоорлеанского радио:
«А теперь давайте послушаем Алана. Алан, вы находитесь на шестом этаже Баптистской больницы. Я готов поспорить, что окна здания сейчас трясутся, словно танцуют шимми. Это так?»
«Да, сэр. Я наблюдаю за происходящим с двенадцати сорока пяти, и должен сказать, зрелище еще то. […] За это время было три сильных шквала».
«Значит, стекла на шестом этаже уже вибрируют и дрожат, верно? Вы, вероятно, в курсе, что там, где вы находитесь, сила ветра намного сильнее, чем на земле?»
«Да. Все в больнице очень, очень хорошо это понимают. И должен сказать, что, э-э, большинство пациентов, находящихся в критическом состоянии и получающих экстренную помощь, переводят подальше от окон».
«Вы хотя бы примерно представляете, какой силы ветер способны выдержать стекла?»
«Нет, и мне бы не хотелось это узнать».
«Возможно, вам придется. И нам всем тоже».
В новостях сообщили, что три человека из тех, кого эвакуировали на автобусах из одного из новоорлеанских домов престарелых в церковь в Батон-Руж, не выдержали долгой дороги и умерли. У многих, кто доехал до места живым, было сильное обезвоживание. Другие подробности на тот момент отсутствовали.
Ураган «Катрина» израсходовал часть своей разрушительной мощи над Мексиканском заливом и немного отклонился к северу, а затем начал массированное наступление на побережье. Местные жители звонили на радио и телевидение и с тревогой спрашивали, чего им ждать в ближайшие часы. Ведущие теле- и радиопрограмм то и дело сами задавали риторический вопрос: ждет ли Новый Орлеан и прилегающие районы просто самый мощный ураган за всю историю наблюдений или же ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, включая сильное наводнение? По данным Национальной гвардии, более 25 тысяч человек, которые не смогли или не захотели эвакуироваться из Нового Орлеана, собрались на стадионе «Супердоум». Эти люди тоже ждали ответов на волновавшие всех вопросы.
4:30, четвертый этаж,
Мемориальный медицинский центр
Сьюзан Малдерик разбудил громкий треск. Вскочив, она тут же бросилась прочь от больших, от пола до потолка, окон. Схватив свои вещи, Сьюзан и члены ее семьи выбежали из кабинета в коридор. Ее мать, семидесятишестилетняя седая женщина в домашнем платье с пышными кружевами, уже очень давно не двигалась так быстро.
Сьюзан Малдерик с силой захлопнула дверь кабинета, чтобы, если окна разобьются, осколки стекла не попали в людей, которые могли случайно проходить мимо. Крепкое, солидной постройки здание тряслось, как в лихорадке. От свиста ветра, прорывавшегося внутрь сквозь невидимые зазоры и щели, завывая, словно взбесившееся привидение, становилось еще страшнее.
В коридоре она столкнулась с перепуганными сотрудниками службы ремонта и эксплуатации. «Стекла лопаются по всему зданию!» – закричали они. Поскольку Сьюзан на тот момент была главной, они хотели знать, что им делать.
Случилось так, что именно Сьюзан Малдерик, вышедшей на смену в качестве дежурного управляющего, пришлось взять на себя роль организатора работ по защите от стихийного бедствия и ликвидации его последствий. Она почувствовала, что в самом деле отвечает за всех пациентов, медиков и посетителей, оказавшихся в Мемориальном медицинском центре. А значит, ей следовало организовывать необходимые экстренные мероприятия, проводить оперативные совещания и вместе с руководством администрации принимать важные решения. Пятидесятичетырехлетняя главная медсестра больницы по своей квалификации полностью соответствовала своей должности. Дополнительный авторитет ей придавало то, что она проработала в Мемориале 32 года, то есть на три десятилетия дольше, чем главный администратор Рене Гу – «Тенет» назначила его на эту должность только в 2003 году. Малдерик имела опыт руководства коллективами медсестер шестнадцати отделений и уже более пятнадцати лет входила в состав комитета лечебного учреждения по экстренным ситуациям, а теперь еще и возглавляла его. Когда годом ранее на Новый Орлеан должен был обрушиться ураган «Айван», который в конечном счете обошел город стороной, она также руководила мероприятиями по подготовке к стихийному бедствию. И это притом, что в большинстве подобных случаев такая обязанность возлагалась на главного администратора.
У Малдерик также имелся опыт кризис-менеджмента иного рода – чисто семейный. Как и Анна Поу, Сьюзан воспитывалась в большой новоорлеанской семье и училась в католической школе. Но, несмотря то что она всегда была модно подстрижена и на Пасху выходила на прогулку в городской парк в идеально подходящих друг другу платье и шляпке, в доме с высокими потолками и хрустальными люстрами, в котором росла Сьюзан, не все было благополучно. Временами там царил хаос. Сьюзан была третьим ребенком из семи, и ей нередко приходилось заботиться о своих младших братьях и сестрах. Поэтому она еще в детские годы научилась быть сильной и спокойной, то есть выработала у себя те самые качества, которые необходимы в чрезвычайных обстоятельствах.
Свою карьеру медсестры Сьюзан Малдерик начала в отделении интенсивной терапии Баптистской больницы в 1973 году и с тех пор работала только в этом медицинском учреждении. Она воспитывала собственных детей и даже увлекалась живописью, которая стала ее хобби. Но при этом более трех десятилетий отдавала львиную долю своих сил и энергии больнице. Она почти не отдыхала, а когда однажды все же решилась взять отпуск, стихия едва ее не убила. В 1982 году, потратив пять лет на планирование поездки в Лас-Вегас вместе с коллегами из Южной баптистской больницы и других лечебных учреждений, Сьюзан столкнулась с жестокой реальностью. Ее и ее подруг в последнюю минуту высадили из самолета, на который из-за системы овербукинга было продано больше билетов, чем имелось мест в салоне. Их чемоданы так и остались на борту рейса 759 авиакомпании «Пан Американ». А через несколько минут 145 человек, находившихся на борту этого самолета, и еще восемь на земле погибли. Сильнейший порыв ветра, возникший неизвестно как и откуда, прижал «Боинг-727–200» к взлетно-посадочной полосе почти сразу после того, как лайнер от нее оторвался. Сьюзан Малдерик из окна самолета, в который она и ее подруги сели пятнадцать минут спустя, увидела, как из-за деревьев поднимаются клубы черного дыма. Но, верная своей хладнокровной натуре, она не сообщила об этом остальным, чтобы не заставлять подруг нервничать понапрасну.
Работа в больнице и семейная жизнь Сьюзан тесно переплелись. Один из ее братьев умер в Мемориале после неудачной операции на позвоночнике. Ее сестра, доставленная в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга, была спасена благодаря доктору Хорасу Бальцу. Еще одна сестра Сьюзан работала в больнице ассистентом, а соседка по дому – координатором сестринской службы. Малдерик занимала должность главной медсестры более десяти лет, за которые в работе Мемориала произошло много изменений. Из-за финансовых проблем Южная баптистская больница была вынуждена в начале 1990-х объединиться с «Мёрси» – новоорлеанской католической больницей. Затем в 1995 году оба лечебных учреждения были проданы гигантской коммерческой «Тенет хелскэр корпорейшн». Руководитель объединенной больницы не скрывал своего негативного отношения к этой сделке и пророчески заявил: «Из-за реформы здравоохранения, ставящей во главу угла развитие коммерческой медицины, дни общественных бесплатных больниц широкого профиля сочтены».
В Мемориале перестали проводиться ежегодные конкурсы рождественских украшений. Исчез с фасада висевший там несколько десятилетий лозунг «Наше дело – лечить людей». Ушло в прошлое, по крайней мере официально, старое название – Баптистская больница. Если ее и называли на прежний манер, то это воспринималось как выражение недовольства или даже что-то вроде мягкой формы бунта. В официальных пресс-релизах лечебного учреждения теперь постоянно восхвалялись «надежные партнеры» Мемориального медицинского центра и его «улучшающиеся финансовые показатели». Работой больницы все в большей степени руководили менеджеры, которым спускался ежемесячный бюджет и целевые нормативы коммерческой эффективности. Если им не удавалось выйти на требуемые показатели, они получали нагоняй. Наградой за успех становилось неуклонное сокращение бюджета. Сьюзан Малдерик умудрилась приспособиться ко всему этому и выжить.
Высокая, со светлой кожей и по-мальчишески коротко постриженными рыжими волосами, серьезная и строгая, она со всеми предпочитала говорить прямо и по делу. Многие сотрудники ее побаивались. У нее была репутация спокойного и хладнокровного, пожалуй, даже холодного человека, который не теряется в сложных ситуациях.
После того как прибежавшие ремонтники сообщили, что в здании под напором ветра лопаются оконные стекла, Сьюзан Малдерик связалась по телефону с Шери Ландри. Старшая медсестра отделения реанимации находилась в новом хирургическом корпусе, на другой стороне Магнолия-стрит, где расположились также Анна Поу и люди из ее команды. Малдерик приказала Ландри вывести всех оттуда, пока мост, соединяющий два строения, не рухнул сам или не разлетелись на мелкие кусочки его боковые стеклянные панели. Медикам и их родственникам пришлось пережить неприятные моменты, перебегая по раскачивающейся конструкции в соседнее здание.
Прежде чем совершить этот рискованный трюк, Анна Поу позвонила одной из своих сестер. «Переход вот-вот обрушится. Мне надо перебраться по нему на другую сторону, – сказала она. – Я решила узнать, все ли вы выбрались из города и находитесь в безопасности». Оказалось, что одна из сестер Поу, оператор аппарата диализа, не покинула Новый Орлеан и осталась в районе Лейквью, который находился вблизи озера Пончартрейн и в случае наводнения почти наверняка оказался бы в зоне затопления. Анна знала, что ее сестра – смелая женщина, но тем не менее помолилась за нее.
Сьюзан Малдерик решила сделать обход больницы вместе с бригадой ремонтников. Рабочие обозначили натянутыми веревками опасные зоны и вывели из них пациентов во внутренние коридоры. В реанимационном отделении, которое находилось на верхнем этаже больницы, Дженни Бёрджесс и еще десятка два пациентов лежали в небольших палатах, расположенных вдоль внешних стен лечебного учреждения. Многие из них были подключены к кислородным подушкам, капельницам и кардиомониторам, так что переместить их подальше от окон было сложно. Вместо этого впервые даже на памяти старожилов больницы ремонтники заколотили окна изнутри фанерой.
Несколько окон разлетелись вдребезги от попадания камней и предметов, сброшенных ветром с крыш близлежащих зданий. Реанимационное отделение наполнилось криками. Листы фанеры быстро намокли и покоробились. Дождевая вода, все же попадавшая в здание, растекалась по полу, создавая дополнительную проблему. Отец одной из дежурных медсестер, который решил укрыться от урагана в больнице, где работала его дочь, все время упрашивал ее не ходить в опасные зоны, хотя она должна была это делать, чтобы нормально выполнять свою работу. Один из врачей, закончив смену, отправился на нижние этажи больницы и заметил, что металлические оконные рамы скрипят и скрежещут под натиском стихии, словно корпус «Титаника». Помимо больных, медиков и их родственников, в Мемориале пережидали ураган и несколько полицейских. Сын одной пациентки привел копа наверх и стал настаивать, чтобы его мать из соображений безопасности перевели из палаты в коридор. «Если бы ее можно было куда-нибудь перевести, я бы это сделала, – с трудом сдерживаясь, заявила главная медсестра реанимационного отделения Карен Уинн. – Но ее поместили туда, где она находится, не просто так, а по клиническим показаниям. Такие решения не могут принимать ни родственники пациентов, ни полицейские. Да, мы должны обеспечить безопасность пациентов, но для каждого из них действуют определенные, клинически обоснованные предписания». Полицейский все понял, сын пациентки – нет. Он пришел в ярость, которая грозила превратить и без того царивший повсюду хаос в настоящее бедствие. «Если вы не прекратите создавать нам проблемы, вас удалят отсюда те же полицейские, которых вы сами привлекли», – жестко сказала Уинн. В самом деле, не хватало еще, чтобы недовольный родственник одного из больных спровоцировал конфликт – трудностей и без того хватало.
В 4:55 прекратилась подача в больницу электричества с городской подстанции. Экраны телевизоров в палатах погасли. Запасные генераторы Мемориала некоторое время назад уже запустили, хотя шум от их работы почти полностью тонул в реве и вое ветра. Однако они могли обеспечить лишь аварийное освещение и работу критически важного оборудования, а также нескольких розеток на каждом этаже. Система кондиционирования воздуха отключилась. Медсестры стали использовать переносные вентиляторы. Но на всех пациентов их не хватало.
На шестом этаже окна комнаты ожидания предродового и родильного отделений, уже давно страшно вибрировавшие, лопнули с таким звуком, какой издает самолет, преодолевая звуковой барьер. Потоки дождя хлынули на ковровое покрытие. Ветер, ворвавшийся в здание где-то в другом месте, где так же разлетелись оконные стекла, трепал жалюзи из узких алюминиевых полосок. Врачи бросились закрывать шторами еще целые панорамные окна в своих кабинетах и собирать с пола просочившуюся воду при помощи больничных халатов и простыней. Снаружи здания клубилась мгла, не предвещающая ничего хорошего.
Сразу после шести утра центр урагана «Катрина», которому к этому времени была присвоена уже третья категория опасности, оказался над сушей и двинулся на Новый Орлеан со стороны местечка Бурас, штат Луизиана, примерно в шестидесяти милях к юго-востоку от города. Когда рассвело, ветер еще больше усилился. Те обитатели Мемориала, которые осмеливались подойти поближе к окнам и выглянуть на улицу, не могли разглядеть ровным счетом ничего: все было затянуто плотным молочно-белым одеялом тумана. К 9:30, согласно прогнозу метеорологов, скорость ветра должна была достичь 135 миль в час.
В перерывах между шквалами можно было выйти на въездной пандус со стороны приемного отделения и, спрятавшись за толстым столбом, попытаться разглядеть, что происходит на улице. Видно, правда, было немного. Флаги США и Луизианы бешено метались на флагштоках на фоне свинцово-серого неба. Вниз по Клара-стрит мчался, словно горная река, бурлящий поток. Два красных автомобиля, легковой и фургон, припаркованные у обочины, погрузились в воду до середины колес. Порывы ветра взбивали на поверхности воды барашки и поднимали в воздух пелену брызг.
Вода появилась в подвальных помещениях больницы. Подвал, как и в 1926 году, был набит продуктами. Их должно было хватить на три-пять дней или на пять-семь, если ограничить рацион. Сьюзан Малдерик, взявшая на себя роль руководителя аварийно-спасательных работ, распорядилась, чтобы продукты грузили на ручные тележки и перевозили из подвала на этажи. Этот трудоемкий процесс занял много часов – в том числе из-за нехватки тележек.
Вероятность того, что вода может затопить первый этаж, вызывала у медперсонала тревогу за судьбу десяти пациентов, находящихся в приемном отделении, и за медицинский архив, превратившийся в Ноев ковчег. Больных из приемного отделения все же решили пока никуда не переводить. А вот животных, заключенных в переноски, местные волонтеры и члены Национальной гвардии под руководством хирурга Анны Поу подняли по лестнице на восьмой этаж и разместили в старых, давно уже не использовавшихся хирургических палатах. Все они оказались заставленными клетками и наполнились лаем и острым запахом перепуганных домашних питомцев.
Штаб Сьюзан Малдерик перебазировали с первого этажа на четвертый, в помещение, где обычно проходило обучение медсестер. Еще одной проблемой и поводом для беспокойства стали запасы лекарств. В Мемориале, как и во многих других современных больницах, не было склада медицинских препаратов: был сделан выбор в пользу системы «своевременной доставки». Главный фармацевт больницы в субботу отправил компании-поставщику «Маккессон» запрос на экстренную партию лекарственных средств. Однако служащие компании, судя по всему, к этому моменту уже покинули местный склад, опасаясь урагана. В результате лекарства так и не были доставлены. К утру понедельника некоторых препаратов в больнице оставалось всего на сутки. Ко вторнику проблема дефицита лекарств обострилась еще больше.
Главный администратор Мемориального медицинского центра Рене Гу, находившийся на своем рабочем месте, попросил менеджера по связям с общественностью Сандру Кордрэй сообщить о возникших проблемах руководству «Тенет хелскэр» в Далласе. «Рене больше всего беспокоят вопросы оказания помощи пациентам после урагана и наводнения и проблемы с электроснабжением, – написала она в электронном письме, адресованном главному управляющему «Тенет «Т» и другим представителям руководства компании. – Мы обдумаем варианты, позволяющие обойтись без эвакуации пациентов – возможно, нам не придется к ней прибегнуть».
Некоторых больных уже довольно давно никто даже не осматривал, поскольку их лечащих врачей на территории Мемориала не было, а связаться с ними по телефону не удавалось. Глава медперсонала Рубен Л. Крестман-третий находился в отпуске. В его отсутствие организацией работы медиков занялся доктор Ричард И. Дейчман, заведующий терапевтическим отделением, одним из трех подразделений больницы. Большинство врачей, находившихся в больнице во время урагана, были либо, как Анна Поу, формально наняты медицинским факультетом Университета штата Луизиана, либо работали по частному контракту, но при этом также не являлись штатными сотрудниками больницы. Правила, действующие в Мемориале, не требовали обязательного присутствия штатных специалистов в лечебном учреждении во время ураганов. Врачи, которые остались в больнице, сделали это либо потому, что их смена выпала на выходные, как у Анны Пу, либо по той причине, что они, как и доктор Джон Тиль, за долгие годы просто привыкли во время стихийных бедствий находиться в своих кабинетах.
На этот раз медиков в Мемориале оказалось больше, чем во время предыдущих ураганов, возможно, именно потому, что разгул стихии пришелся на выходные, а также потому, что доктора, вызванные к пациентам в экстренном порядке, предпочли остаться на рабочих местах. Некоторые из них, как Дейчман и Бальц, были терапевтами. Тиль являлся одним из трех специалистов по легочным заболеваниям, которые в отделении интенсивной терапии оказывали помощь пациентам, находившимся в критическом состоянии. Среди оставшихся были также специалист по болезням почек, врач-инфекционист, реаниматологи и неонатологи – последние ухаживали за самыми слабыми, недоношенными и больными новорожденными. Кроме того, в больнице оказалось несколько хирургов, включая Анну Поу, и трое анестезиологов. Дейчман распределил этих специалистов по разным отделениям таким образом, чтобы состояние каждой из пятнадцати групп пациентов контролировал как минимум один медик.
Оказавшись над сушей, ураган «Катрина» стал быстро терять силу. Ближе к полудню дождь начал ослабевать, сила ветра также уменьшилась. Уровень воды в районе, где находился Мемориальный медицинский центр, стабилизировался на уровне примерно трех футов. Ремонтники начали оценивать повреждения крыши, осматривать помещения, чтобы подсчитать количество разбитых стекол и отвалившихся потолочных плиток, а также понять, где придется менять ковровое покрытие: там, где оно пропиталось водой, уже начала появляться плесень.
К середине дня вода на прилегающих к больнице улицах начала спадать. Животных и запасы продовольствия снова перенесли вниз. Медсестры без устали работали швабрами, пока наконец дождь не прекратился совсем и вода не перестала просачиваться с верхних этажей на нижние. Пациенты принялись звонить своим близким, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, и сообщить, что у них тоже все нормально. Эмметт Эверетт, пациент весом 380 фунтов, которого привезли из клиники в Чалмет в приходе Сент-Бернард, не смог дозвониться на мобильный жене и сказал опекавшей его медсестре, что беспокоится за свою супругу.
К вечеру вода совсем спала, и появилась возможность выгуливать собак. Некоторые врачи, жившие неподалеку от больницы, отправились по заваленным обломками и мусором улицам проверить, все ли в порядке с их домами. Кое-кто из них даже остался там ночевать. Другие вернулись на свои рабочие места в новом хирургическом корпусе. Прежде чем достичь Нового Орлеана, ураган «Катрина» действительно существенно ослабел и потому обрушил на город ветер всего лишь первой или второй категории силы, а не пятой, как прогнозировали метеорологи. «Мы были на волосок от беды, но избежали ее», – говорили люди друг другу с усталым облегчением. Мемориальному медицинскому центру был нанесен значительный ущерб, но лечебное учреждение смогло выполнять свои функции на базе резервных источников энергоснабжения. Все вроде бы говорило о том, что больница сумела пережить еще один ураган.
Глава 4
День третий
Вторник, 30 августа 2005 года
«Синий код в приемном отделении».
Карен Уинн открыла глаза. В комнате было темно. Женщина попыталась нащупать носки и обувь, но ей под руку попались только шлепанцы ее дочери-подростка. Торопливо надев их, Карен бегом преодолела по переходу расстояние длиной примерно в два квартала, которое отделяло новый хирургический корпус от главного. Затем спустилась на первый этаж, где находилось приемное отделение, стараясь не порезаться, наступив на осколки битого оконного стекла.
По дороге главная медсестра реанимационного отделения пыталась понять, что могло случиться. Было четыре или пять часов утра. Что могло стать причиной того, что ее подняли с постели? Сотрудники приемного отделения были в состоянии провести реанимационные мероприятия сами, без ее участия. И кто мог поступить в приемное отделение, если большинство горожан были эвакуированы?
Наконец Карен, тяжело дыша, прибыла на место и увидела такую картину: все вокруг было залито кровью, на передвижных носилках лежала женщина лет шестидесяти. О том, что случилось, рассказал ее внук, который и вкатил ее в приемное отделение по пандусу. Оказалось, что произошла пьяная драка. Дочь женщины ударила ее кухонным ножом в грудь. Внук побежал на улицу за помощью и наткнулся на полицейских, но те сказали ему, что машины «Скорой помощи» он не дождется и ему придется поискать какой-то другой способ доставить раненую в больницу.
Таким образом, конфликты с применением холодного и огнестрельного оружия в городе не прекратились даже во время мощного урагана.
Диспетчер на всякий случай вызвал в приемное отделение всех врачей, находившихся в тот момент в больнице. Терапевт Хорас Бальц явился в белом халате, из-под которого выглядывали голые ноги. Пожилой врач, на котором в момент вызова были только шорты, накинул халат прямо на голое тело, наспех сунул ноги в свои черные полуботинки и бросился вниз по лестнице.
Пациентка, несмотря на то что в первые минуты была в сознании и охотно общалась с медперсоналом, начала задыхаться. Карен Уинн знала, что воздух через раневый канал мог попасть в грудь женщины и вызвать нарушения в деятельности легких. У пациентки быстро падало кровяное давление.
При внутреннем кровотечении кровь могла скапливаться в полости вокруг сердца раненой, создавая помехи его работе. Кто-то вызывал оператора аппарата УЗИ, чтобы проверить эту версию, но на подобные исследования не оставалось времени. Один из врачей рассек кожу между двумя ребрами женщины, расширил разрез с помощью специального инструмента и ввел в образовавшееся отверстие трубку, чтобы удалить попавший внутрь грудной клетки воздух, если он там был. Другую трубку ввели в горло пациентки и подсоединили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы раненая могла дышать.
К счастью, ультразвуковое исследование показало, что лезвие ножа не проткнуло мембрану вокруг сердца пациентки. Это означало, что в операции со вскрытием грудной клетки нет необходимости. Врачам очень не хотелось делать ее в ситуации, когда подача электроэнергии осуществлялась резервным генератором. В отделении реанимации имелось одно свободное место, и раненую женщину на лифте подняли на восьмой этаж.
Медсестры ночной смены приняли новую пациентку примерно в шесть утра и начали устанавливать оборудование, которое должно было контролировать жизненно важные функции организма раненой. Женщину подключили к аппарату искусственного дыхания. Другие устройства через определенные промежутки времени должны были измерять ее пульс, кровяное давление, уровень кислорода в капиллярах. Словом, все происходило так, словно никакого урагана не было и в помине.
Одна из медсестер подкатила к койке женщины столик с установленным на нем компьютером и начала фиксировать динамику ее состояния. У многих сестер были маленькие портативные радиоприемники, и они настроили их на волну местной радиостанции, которая работала на электричестве, подаваемом резервным генератором.
Как раз в это время глава Джефферсона, соседнего прихода, объявил о введении военного положения. Радиостанция регулярно передавала это сообщение. Но для того чтобы ввести военное положение, при котором функции полиции берут на себя армейские подразделения, обычно требуется соответствующее решение конгресса. Так что на самом деле в зоне бедствия оно не вводилось.
Затем на радиостанцию позвонила женщина, которая пожаловалась, что в Новом Орлеане бесчинствуют мародеры. Она не сказала, откуда у нее такая информация, но ведущий поверил ей на слово и сообщил эту новость тысячам слушателей, чем вызвал их ярость. «Если кто-то разоряет кафе и магазины, то таких типов надо расстреливать, – заявил один из них в прямом эфире. – У нас тут как-никак военное положение».
Всю первую половину утра на радиостанцию звонили люди, рассказывавшие о еще более зловещих вещах. По их словам, на многих улицах продолжала стоять вода. Один из местных жителей был очень удивлен этому, поскольку ему показалось, что он слышит, как работают насосы городской дренажной системы. «Я хочу кое о чем спросить, – сказал он в беседе с радиоведущим. – Если вы живете всего в квартале от дренажной станции и она действует, то почему тогда в моем доме полно воды?» У ведущего не нашлось ответа на этот вопрос.
«Мы очень напуганы», – спокойным голосом сообщил ведущему другой радиослушатель, Фредди, и описал свою ситуацию. Выяснилось, что он сидит на чердаке своего дома в районе Джентильи, неподалеку от озера Пончартрейн, и вода там поднялась на девять футов. Район, о котором шла речь, очень сильно пострадал от наводнения в 1927 году и находился всего в нескольких милях к северо-востоку от Мемориала. Вместе с Фредди на чердаке находились еще четыре человека, в том числе ребенок. Они проделали дыру в крыше и через нее с помощью свечей, фонаря и сигнальных огней в течение четырех часов пытались привлечь внимание пилота какого-нибудь вертолета, но безуспешно.
«А вода продолжает подниматься?» – поинтересовался у Фредди радиоведущий.
«Да, да, она неуклонно поднимается».
«Вода поднимается?» – удивилась одна из медсестер реанимационного отделения Мемориала.