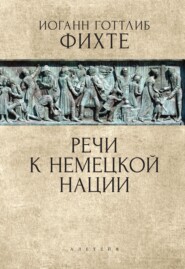скачать книгу бесплатно
Речи к немецкой нации
Иоганн Готлиб Фихте
Размышляя о влиянии, которое могла иметь в русском образованном сословии программа нового национального воспитания Фихте как средства возрождения народной изначальности в жизни и мысли, в литературе и философии, в государственной жизни и народной нравственности, мы обращаем внимание на одного литератора, который действовал в ту же самую эпоху… Сергей Николаевич Глинка, издатель журнала «Русской вестник». Он призывает оставить галломанию в языке, в модах и обычаях, вернуться к образу жизни старому национальному, отвергнуть разрушительную заграничную философию, разница лишь в том, что заменой ее полагает отеческое православное миросозерцание, но всего интереснее то, что он в своем журнале развивает и мысль о связи языка с нравственным воззрением народа. Расслышать подлинный пафос философа могла только далекая от практической политики часть образованной публики, сознательно обращенная при этом к проблемам национальной культуры, духовного своеобразия нации, – патриотическая общественность без политических претензий.
Иоганн Готтлиб Фихте
Речи к немецкой нации
Речи к немецкой нации
(1808)[1 - Первое издание: Berlin 1808. Im Verlage der Realschulbuchhandlung. Второе издание: Leipzig 1824, bei Herbig. Fichtes s?mmtliche Werke Bd. VI, S. 257–302.]
Предисловие
Нижеследующие речи были произнесены в Берлине зимой 1807–1808 в виде ряда лекций, и как продолжение прочитанных мною там же зимой 1804– 1805 «Основных черт современной эпохи» (напечатанных в том же книгоиздательстве в 1806)[2 - «Grundz?ge des gegenw?rtigen Zeitalters» – публичные лекции Фихте в Берлине зимой 1804–1805 гг., напечатаны в 1806 г. Имеется русский перевод (Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. СПб., 1906), в последние годы переизданный. В настоящих примечаниях цитируется по изданию: Fichte J. G. Grundz?ge des gegenw?rtigen Zeitalters. Hg. v. Alwin Diemer. 4. Auflage. Hamburg, Meiner, 1978. (Philosophische Bibliothek Bd. 247).]. То, что следовало мне сказать публике в этих речах и этими речами, высказано в них самих, и постольку к ним не нужно никакого предисловия. Между тем за истекшее время (вследствие того, в каком виде эти речи были напечатаны) возникло пустое пространство, требующее заполнения. Я наполню его тем, что отчасти уже прошло цензуру и было напечатано в другом месте, о чем напоминают нам слова, бывшие причиной возникновения упомянутого пробела, и что, в общем, могло бы найти здесь применение – укажу в особенности на заключение двенадцатой речи, касающееся того же самого предмета.
Берлин, в апреле 1808 года.
Фихте
Из сочинения «О Маккиавелли как писателе, и фрагменты из его работ»[3 - «?ber Macchiavelli als Schriftsteller, nebst Ausz?gen aus seinen Schriften» (1807) – работа, написанная Фихте во время его пребывания в Кенигсберге, с целью убедить современных ему князей в необходимости широкого политического взгляда на свои задачи и в гибельности узкого лжегосударственного эгоизма.]
I
Из заключения этого сочинения
Прежде всего нам приходят на мысль два рода людей, от нападок которых мы желали бы защититься, если бы только могли.
Прежде всего – такие люди, которые, коль скоро сами они никогда не выбираются мыслью дальше последнего номера газеты, полагают, что и никто другой не в состоянии мыслить шире; что, стало быть, все, о чем говорят или что пишут, имеет некоторое отношение к этой газете, и призвано служить для нее комментарием. Этих людей я прошу принять во внимание, что никто не может сказать: «смотри, он разумеет здесь такого-то и такого-то», – если прежде сам не составит в самом себе суждения, что «такой-то» и «такой-то» человек действительно и в самом деле таков, что его здесь могли иметь в виду; что поэтому писателя, рассуждающего в общем и забывающего всякое частное время в изложении правила, объемлющего все времена, никто не может обвинить в сатире на личности, если прежде сам, как изначальный и самобытный творец, не составил такую сатиру, и поэтому, обвиняя, самым глупейшим образом выдает свои собственные сокровеннейшие мысли. Затем есть еще такие люди, которые не стыдятся никакой вещи, но стыдятся, и притом безмерно, слов об этих вещах. Ты можешь топтать их ногами у всего света на виду – им от того ни стыда, ни вреда не будет; но вот если пойдут разговоры о том, что кого-то топтали ногами, это уже будет нестерпимое для них оскорбление, и тут только начинаются для них неприятности: Ведь, кроме того, ни один разумный и благожелательно настроенный человек и не начнет подобного разговора из злорадства, а разве только для изыскания средств к тому, чтобы этого более не случилось. Так же точно обстоит у них и с будущими неприятностями: Они хотят, чтобы им не мешали предаваться их сладким мечтаниям, и потому плотно закрывают глаза на будущее. Поскольку же другим, у которых глаза открыты, это не мешает видеть то, что приближается, и они могут впасть в искушение сказать, и назвать по имени, что они видят, – самым надежным средством от этой опасности этим людям представляется: помешать зрячим это сказать и назвать. Как будто, в противоположность действительному порядку вещей, не-сказавший станет оттого невидящим, а не-видение предмета означает его небытие. Так лунатик разгуливает по самому краю пропасти. Из милосердия к нему не зовите его – сейчас его состояние хранит его невредимым, но если он проснется, то упадет в пропасть. Пусть же и сновидения тех людей дают им привилегии, дарование и уверенность лунатиков: тогда у нас будет средство спасти их, не крикнув и не разбудив их. Говорят, что страус так же закрывает глаза при виде подходящего к нему охотника – и тоже полагает при этом, будто опасность, которая ему более не видна, вообще более не существует. И не будет ведь врагом страусу тот, кто крикнет ему: «Открой глаза, смотри – вон идет охотник, беги в ту сторону – и спасешься от него».
II
Бо?льшая свобода пера и печати в эпоху Маккиавелли
Быть может, кто-нибудь из наших читателей удивится, как могло случиться с Макиавелли все только что рассказанное нами. Ввиду этого и в связи с предшествующим разделом, вероятно, стоит труда, в начале 19-го столетия, из стран, которые хвалятся величайшей свободой мысли, бросить взгляд на ту свободу пера и печати, какая была в Италии и в папской резиденции, Риме, в начале 16-го столетия. Из тысяч примеров я приведу лишь один. «История Флоренции» написана Макиавелли по предложению папы Климента VI[4 - «История Флоренции» – сочинение итальянского политического мыслителя Николо Маккиавелли (1469–1527). Русский перевод: Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973.], и посвящена ему же. В этой «Истории», уже в первой книге, мы находим следующие слова: «До этих пор мы ни разу не упоминали ни одного племянника или родственника какого-нибудь папы, отныне же история будет полна подобных упоминаний, пока нам не придется заговорить об их сыновьях. Таким образом, для будущих пап остается только одна возможность достичь здесь большего: а именно, как до сих пор они старались поставить этих своих сыновей во главе княжеств, оставить им же в наследство и папский престол».
На эту «Историю Флоренции», как и на книгу о «Государе» и на «Рассуждения»[5 - «Il Principe» («Государь») (1532) – наиболее известное и влиятельное из сочинений Маккиавелли, посвященное созданию сильной власти при отсутствии гражданской добродетели в народе; как частное лицо государь подлежит моральной норме, как политический деятель он может ею пренебречь во имя достижения мощи и благосостояния государства. Это убеждение Маккиавелли сделало самое понятие макиавеллизма нарицательным словом для обозначения имморальной политической философии. «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» – трактат Маккиавелли, где выясняется отношение древних римлян к государству и доказывается, что этот гражданский, республиканский дух римлян является идеалом и для современного Маккиавелли, по его убеждению упадочного, состояния итальянского государства. См.: Макиавелли Н. Сочинения. Том 1. M.-Л., 1934.], тот же Климент, honesto Antonii (так звали издателя) desiderio annuere volens[6 - «Желая удовлетворить воле честного мужа Антонио» (лат.)], объявляет привилегий (Privilegium), в котором всем христианам запрещается перепечатка этих сочинений, под страхом отлучения от Церкви, а для папских подданных кроме того конфискации экземпляров и штрафа в 25 дукатов.
Впрочем, это вполне объяснимо. Сами папы и церковные гранды рассматривали все свои труды лишь как иллюзию для самой подлой черни и, если возможно, также для ультрамонтанов, и они были достаточно либеральны, чтобы позволить всякому образованному итальянцу с утонченным вкусом думать, говорить и писать об этих предметах так же, как они и сами говорили о них в своем кругу. Образованного человека они не хотели обманывать, а чернь не читала книг. Так же точно легко объяснить, почему впоследствии понадобились иные меры. Реформаторы учили немецкий народ читать, они ссылались на таких писателей, которые писали на виду у пап; пример народного чтения стал заразителен для других стран, и отныне писатели превратились в страшную силу, которую поэтому надлежало содержать под более строгим надзором.
Эти времена тоже миновали, и теперь – особенно в протестантских государствах – известные отрасли писательства, как например, философское утверждение общих принципов всякого рода, подвергаются цензуре, конечно же, только потому, что это уж так издавна повелось. Поскольку же при этом оказывается, что тем, кто ничего не способен сказать, кроме того, что все и так уже знают назубок, всемерно позволяется употребить на то столько бумаги, сколько им угодно; а если действительно хотят сказать что-то новое, то цензор, будучи неспособен сразу же понять это и полагая, что в этом может заключаться некий яд, скрытый лишь от него одного, склонен бывает скорее запретить сочинение, чтобы уж наверняка не ошибиться: то, может быть, иного писателя в протестантских странах в начале 19-го столетия не стоит упрекать за то, что он желает для себя скромной и приемлемой доли той свободы печати, которую папы без колебаний признавали за авторами в начале 16-го столетия.
III
Из предисловия к оставшимся ненапечатанными беседам о любви к отечеству и ее противоположности[7 - «Der Patriotismus und sein Gegenteil» (Патриотизм и его противоположность) – два диалога из наследия Фихте, написанных в 1806–1807 году. См.: Fichte J. G. S?mmtliche Werke. Band 11, S. 221 и след.]
…В этих же пределах, каких требует справедливость и рассудительность, они, я полагаю, должны позволить нам сказать не стыдясь то, что сами они не стыдятся делать в действительной жизни; ибо ведь, без всякого сомнения, поступок, который бросается в глаза, даже если мы ничего о нем не скажем, чинит много больше неприятностей, чем все наши последующие речи об этом поступке. И хотя тем людям, которые по долгу своей службы исполняют надзор за публичным книгопечатанием, ничто не мешает лично самим принадлежать к одной из спорящих ныне партий в духовном мире, – но все же они могут защитить интересы этой своей партии лишь в том случае, если сами выступят однажды в роли писателей. Но как должностные лица они не имеют партии, и должны предоставить слово разуму (который и так уж много реже просит у них слова, чем неразумие) так же точно, как позволяют они всякий день неразумию тешить свою нужду сколько вздумается; однако им отнюдь не позволено запретить нам издавать вслух какой-нибудь звук потому, что для их ушей он звучит непривычно и парадоксально.
Написано в Берлине, в июле 1806 года
Первая речь
Предварительные напоминания и обозрение целого
Речи, которые я теперь начинаю, объявлены мною как продолжение лекций, читанных мною три года назад здесь, на этом самом месте, и изданных под заглавием: «Основные черты современной эпохи». В упомянутых лекциях я показал, что наше время находится в третьем основном разделе совокупного мирового времени, в каковом разделе мотивом всех живых движений и побуждений оказывается сугубо чувственная корысть; что это время вполне понимает и постигает себя самое также лишь под условием названного мотива как единственно возможного; и что благодаря этому ясному постижению своей сущности оно глубоко укоренено и прочно основано в этой своей живой сущности[8 - «Что касается меня, я полагаю, что настоящее время находится как раз в середине совокупного мирового времени… в настоящем времени соединяются концы двух миров, совершенно различных по своему принципу, – мира ясности и мира тьмы, мира принуждения и мира свободы, не принадлежа однако же ни одному из этих миров. Или еще так: настоящее время находится, по моему мнению, в эпохе, которая, по указанному мною выше исчислению, была третьей – в эпохе освобождения непосредственно – от повелевающего человеком внешнего авторитета, а косвенно – от подчинения инстинкта разума, и вообще разума в какой бы то ни было форме: эпохе абсолютного равнодушия ко всякой истине, и полной раскованности без какой-нибудь путеводной нити; состоянии законченной порочности… для эпохи, которая освобождается от власти первого (инстинкта разума), не получая вместо него разума в иной форме, не может остаться решительно ничего реального, кроме жизни индивида и того, что связано с нею и относится к ней» (S. 21, 25–26). «Мы все зачаты и рождены в эгоизме, и жили в нем, и нам стоит труда и борьбы умертвить в себе эту свою вторую природу» (S. 39).].
У нас, более нежели в какую-нибудь эпоху с тех самых пор как существует мировая история, время идет вперед гигантскими шагами. За три года, прошедшие с тех пор, как я дал это истолкование текущего отрезка мирового времени, этот отрезок где-то совершенно истек и завершился. Где-то эгоизм, через полное свое развитие, уничтожил сам себя, утратив благодаря такому развитию свою самость и ее самостоятельность; и ему – коль скоро он по доброй воле не желал полагать себе никакой иной цели, кроме себя самого – внешняя сила навязала эту иную и чуждую цель. Кто однажды взялся толковать свое время, тот должен сопровождать своим истолкованием и его дальнейший ход, если оно получает этот дальнейший ход. И поэтому на меня ложится обязанность – перед той же самой публикой, пред которой я назвал нечто настоящим временем, признать его прошедшим, после того как оно перестало уже быть настоящим.
То, что утратило свою самостоятельность, утратило в то же время и способность вмешиваться в течение времени и свободно определять его содержание; для него, если оно задержится в этом состоянии, его время и само оно в этом своем времени совершается чуждой властью, которая повелевает его судьбой; отныне у него уже вовсе нет более своего собственного времени, но оно считает года по событиям и отрезкам истории чужих народностей и царств. Из этого состояния, в котором весь его прежний мир неподвластен его самодеятельному вмешательству и в этом мире ему остается только слава послушания, оно могло бы подняться единственно лишь при условии, что перед ним открылся бы некий новый мир, создав который, оно начало бы новый и свой собственный отрезок во времени, и развитие которого наполнило бы его совершенно. Однако, поскольку уж оно подчинено чуждой власти, этот новый мир должен быть таким, чтобы он остался незаметен для этой власти и никоим образом не возбуждал бы в ней ревности; и даже, чтобы собственная выгода побуждала эту власть не чинить никаких препятствий устроению этого нового мира. И если бы для поколения, утратившего свою прежнюю самость и свое прежнее время и прежний мир, существовал таковой мир, как средство порождения новой самости и нового времени, то для всестороннего истолкования даже и возможного времени надлежало бы указать на этот мир с таким именно свойствами.
И вот, что касается меня, я полагаю, что такой мир существует; и цель этих речей в том и заключается, чтобы доказать Вам существование и подлинного хозяина этого мира, представить Вашим глазам живой образ этого мира и указать средства для его созидания. А потому эти речи станут таким образом продолжением читанных мною некогда лекций о том времени, которое было тогда настоящим, ибо они раскроют перед Вами новую эпоху, которая может и должна непосредственно последовать за разрушением, чуждою властью, царства эгоизма.
Однако прежде, чем я приступлю к этому делу, я вынужден просить Вас предположить (так, чтобы это ни на минуту не ускользнуло от Вашего внимания) и согласиться со мною, там и постольку, где и поскольку это необходимо, в следующих пунктах:
1). Я говорю для немцев вообще, о немцах вообще, не признавая, но решительно отставляя в сторону и пренебрегая всеми теми разделяющими различиями, которые злосчастными событиями созданы были в течение веков в единой нации. Хотя Вы, почтенные слушатели, для моих плотских глаз оказываетесь первыми и непосредственными представителями, в которых воплощены для меня любезные мне национальные черты немцев, и зримым фокусом, в котором возгорается пламя моей речи; но дух мой собирает вокруг себя образованную часть всей немецкой нации, из всех тех земель, по которым она рассеяна, учитывает и разумеет положение и обстоятельства, общие для всех нас, и желает, чтобы частица той живой силы, с которой охватят Вас, быть может, эти речи, осталась и в немом отпечатке, который только и попадет на глаза здесь отсутствующим, и дышала в нем, и воспламеняла повсюду души немцев к решимости и к действию. Я сказал: «только о немцах и для немцев вообще». В свое время мы покажем, что любое другое обозначение единства или национальная связь либо не имела в себе никогда истины и значения, либо же, если бы она и имела в себе истину, эти объединяющие точки уничтожены и отняты у нас нашим нынешним положением – и им никогда не дано возвратиться; и что только общая основная черта нашей немецкости позволит нам предотвратить гибель нашей нации в слиянии ее с заграницей, и что лишь в ней мы сможем вновь обрести самость, покоящуюся лишь на себе самой и решительно исключающую всякую зависимость. И когда мы постигнем это последнее обстоятельство, для нас совершенно исчезнет и мнимое противоречие этого утверждения другим обязанностям и почитаемым священными задачам – противоречие, которое теперь, может быть, пугает некоторых из вас.
И поэтому, раз я говорю только о немцах вообще, кое-что из того, что не относится непосредственно к собравшимся здесь людям, я выскажу как то, что верно все-таки и для нас, и так же точно другое, справедливое прежде всего только для нас, я выскажу как то, что верно для всех немцев. В духе, излиянием которого являются эти речи, я вижу прочно сросшееся единство, где ни один член не считает судьбу какого-нибудь другого члена чуждой для себя, единство, которое должно и обязано возникнуть, если нам не суждено до конца погибнуть, – вижу это единство уже возникшим, законченным и предстоящим нашему взору как действительность.
2). Я предполагаю не таких немецких слушателей, которые предаются всецело всем существом своим чувству боли от пережитой утраты, и довольны собою в этой своей боли и пробавляются своей безутешностью, и думают примириться в этом чувстве с обращенным к ним призывом к действию; но таких слушателей, которые уже возвысились или, по крайней мере, способны возвыситься даже через эту справедливую боль до ясной сознательности и рассуждения. Эта боль мне знакома, я чувствовал ее подобно всякому, я чту ее; тупость, что бывает довольна, если находит себе пищу и питье и не испытывает физической боли, и для которой честь, свобода, самостоятельность суть имена без смысла, неспособна ощущать ее. Но и эта боль является в нас единственно для того, чтобы побуждать нас к размышлению, решимости и действию; не достигая этой своей конечной цели, она лишает нас способности осмысливать жизнь и всех тех сил, что еще остаются у нас, и тем усугубляет наши бедствия; ибо, кроме того, как свидетельство нашей косности и трусости, она служит наглядным доказательством, что наши бедствия достались нам по заслугам. Но я отнюдь не собираюсь возвысить Вас над этой болью, обнадежив помощью, которая придет к нам извне, и сославшись на всякого рода возможные события и перемены, которые, положим, могли бы произойти с течением времени: Ибо, даже если бы этот образ мысли, который предпочитает витать в непрочном мире возможностей, но не опираться на необходимость, и который хочет быть обязан своим спасением слепому случаю, но не себе самому, не обнаруживал уже сам по себе самого предосудительного легкомыслия и глубочайшего презрения к себе (как это и есть в самом деле), то, кроме того, все подобные утешения и указания еще и совершенно неприменимы к нашему нынешнему положению. Можно строго логически доказать (и мы в свое время это докажем), что никакой человек, никакой бог, и никакое событие из всех событий, находящихся в пределах возможного, не сможет помочь нам, но что, если нужна нам помощь, только мы сами должны помочь себе. Скорее, я попытаюсь возвысить Вас над этим чувством боли через ясное понимание нашего положения, силы, которая еще остается у нас, и средств нашего спасения. Поэтому я, конечно, потребую от Вас известной меры размышления, известной самодеятельности и некоторой самоотверженности, и потому рассчитываю на таких слушателей, от которых всего этого ожидать возможно. Между прочим, все требуемое мною легко и не предполагает сколько-нибудь большей силы в человеке, чем та, какую, по-моему, вполне можно признать возможной в нашу эпоху; что же до опасности, то опасности здесь вовсе никакой нет.
3). Собираясь образовать в немцах как таковых ясное понимание их настоящего положения, я предполагаю слушателей, которые склонны смотреть на предметы такого рода собственными глазами, а вовсе не таких, которые находят более удобным дать подсунуть себе при рассмотрении этих предметов чужой иностранный бинокль, либо нарочно рассчитанный на искажение, либо же по самой природе своей имеющий иную точку зрения или меньшую резкость, и потому отнюдь не пригодный для немецких глаз. Далее, я предполагаю, что эти слушатели, рассматривая предмет собственными глазами, имеют достаточно смелости, чтобы честно взглянуть на то, что есть, и честно сознаться себе, что именно они видят. И что они или уже победили, или хотя бы способны победить в себе часто проявляющуюся склонность вводить себя в обман относительно своих собственных дел и рисовать себе не столь безотрадную картину этих дел, как та, которой требует истина. Эта склонность есть трусливое бегство от своих собственных мыслей и детский ум, который мнимо полагает, что если он не видит своего бедствия или по крайней мере не сознается сам себе в том, что видит его, то тем самым его бедствие уничтожается и в самой действительности, как оно уже уничтожено в его мысли. Напротив, мужественная смелость состоит в том, чтобы твердо смотреть в глаза беде, заставлять ее выдерживать наш напор, спокойно, хладнокровно и свободно проникать в нее взглядом и разлагать ее на составляющие ее части. К тому же, благодаря такому ясному пониманию, мы становимся хозяевами своего бедственного положения и уверенным шагом движемся в борьбе со злом, потому что, не теряя из виду целое в каждой его части, мы всегда знаем, где мы находимся, и, однажды достигнув ясности, уверены в победе своего дела; а тот, другой, вслепую и на ощупь бродит, погрузившись в мечтания, без прочной путеводной нити и твердой уверенности.
И почему же мы должны бояться этой ясности? Беда не становится меньше оттого, что мы о ней не знаем, или больше оттого, что мы познаем ее; благодаря последнему она просто станет поправимой; а вину здесь вовсе не следовало бы выставлять на вид. Бичуй косность и себялюбие суровой обвинительной речью, язвительной насмешкой, разящим презрением, и если не можешь добиться от них большего, побуди их по крайней мере к ненависти и ожесточению против самого обвинителя – это все-таки тоже сильное душевное движение, – до тех пор, пока не исполнится мера бедствий как необходимого последствия их и пока еще могут они ожидать себе, вместо исправления, спасения или послаблений. Но когда эти бедствия исполнятся уже настолько, что лишат нас и возможности грешить далее таким же образом, то порицание грехов, которых мы уже не можем более совершать, становится бессмысленным, и имеет вид злорадства; и наше рассуждение в таком случае падает из области учения о нравах в область истории, для которой свобода осталась в прошлом, и которая рассматривает случившееся как необходимый результат предшествовавших событий. Для наших речей остается возможным только это последнее воззрение на современность, и поэтому мы ни разу не прибегнем к другому способу ее рассмотрения.
Итак, я предполагаю в Вас этот образ мысли: представление о себе самом как о немце вообще, не скованное даже болью утраты, стремление видеть истину и смело смотреть ей в лицо. На этот образ мысли рассчитывает каждое слово, которое я здесь произнесу, и если кто-нибудь явился в это собрание с другим воззрением, то все неприятные ощущения, которые вызовет у него услышанное здесь, он должен будет приписать единственно лишь себе самому. Скажем это теперь раз навсегда – и на том покончим; а теперь я перейду к другому делу, и представлю вам в общем обзоре основное содержание всех последующих речей.
Где-то, – сказал я в начале речи. – эгоизм, вполне развившись, уничтожил сам себя, утратив тем самым свою самость и способность самостоятельно полагать себе цели. Это, произошедшее ныне, уничтожение эгоизма составляло указанное мною дальнейшее развитие времени, и совершенно новое событие в этом времени, которое, по моему убеждению, делало для меня возможным, а равно и необходимым продолжить данное мною некогда описание этого времени. Это уничтожение, стало быть, есть наше собственное настоящее, на которое должна непосредственно опираться наша новая жизнь в новом мире, существование которого я также при этом утверждал. Поэтому оно должно составлять подлинный исходный пункт моих речей; и прежде всего мне надлежит теперь показать, как и почему подобное уничтожение эгоизма необходимо последует из его наивысшего развития.
Эгоизм бывает развит до наивысшей своей степени, когда, покорив себе сперва всех правителей, за незначительными исключениями, он от этих правителей овладевает и всей массой управляемых и становится единственным влечением их жизни. Подобное правление, прежде всего, во внешних своих отношениях начинает пренебрегать теми узами, которыми его собственная безопасность привязана к безопасности других государств, отрекается от целого, один из членов которого составляет, единственно лишь затем, чтобы его не потревожили в его неподвижном покое, и предается печальному заблуждению эгоизма, будто государство пребывает в мире, лишь до тех пор, пока никто не нападает на его собственные границы. Затем является в нем та слабость рук, держащих бразды государственного управления, которая величает себя иностранным именем гуманности, либеральности и популярности, но которую по-немецки вернее будет назвать дряблостью воли и недостойной манерой.
Если он овладеет и управляемыми, сказал я сейчас. Народ вполне может быть испорчен, т.е. эгоистичен (ибо эгоизм есть корень всякой иной нравственной порчи), – и при этом, однако, не только существовать, но совершать даже блестящие по наружности деяния, если только правительство в нем не будет так же точно испорчено; это правительство может даже действовать в отношении с другими вероломно, забыв и честь, и долг, если только внутри страны оно найдет в себе смелость натянуть суровой рукой бразды правления и заставить подданных еще больше бояться себя. Но где соединится все вышеназванное, там общежитие погибнет при первом же серьезном покушении на него, и как само оно вероломно отделилось от того тела, членом которого было, так теперь члены его, не сдерживаемые никаким страхом перед этим правительством и побуждаемые более сильным страхом перед чужими, отделятся от него с таким же вероломством, и разойдутся каждый в свою сторону. Тогда их, стоящих отныне порознь, охватит еще более сильный страх, и они щедрою рукой и с принужденно-веселой миной на лице отдадут врагу то, что скупо и крайне неохотно давали они защитнику отечества; пока впоследствии и правители, всеми преданные и оставленные, не окажутся вынуждены купить свое существование ценою подчинения и послушания чужим планам и целям; а впоследствии и те, кто бросил оружие в борьбе за отечество, под чужим знаменем научатся храбро действовать этим оружием против своего отечества. Так и получается, что эгоизм уничтожается наивысшим своим развитием, и тем, кто по доброй воле не хотел поставить пред собою никакой иной цели, кроме себя самих, эту иную цель навязывает чуждая сила.
Никакая нация, опустившаяся до такого состояния зависимости, не может подняться из этого состояния с помощью обычных или прежде применявшихся средств. Если сопротивление ее было бесплодно, когда она была еще в полной своей силе, то что же может дать сопротивление теперь, когда она лишилась большей части своих сил? То, что могло бы помочь ей прежде, – а именно, если бы ее правительство властно и строго натянуло бразды правления, – то бесполезно теперь, когда бразды эти только лишь по видимости остаются в его руке, и саму эту руку правительства ведет и направляет чужая рука. На саму себя подобная нация уже не может более рассчитывать, и так же точно не может она рассчитывать на победителя. Этот победитель наверное будет так же безрассуден и так же уныло труслив, какова была сама нация, если он не удержит завоеванных им преимуществ и не станет всеми способами утверждать их за собою. А если бы он с течением времени и стал все же столь безрассуден и труслив, то хотя и погиб бы в этом случае так же точно, как и мы, но гибель его была бы не на пользу нам: Он стал бы добычей нового победителя, а мы стали бы неким самоочевидным и малозначительным придатком к этой добыче. Если для опустившейся таким образом нации все же возможно спасение, то это спасение должно совершиться с помощью совершенно нового, никогда еще доселе не употреблявшегося средства, – посредством созидания совершенно нового порядка вещей. Давайте же посмотрим, что в прежнем порядке вещей было причиной, в силу которой этому порядку необходимо должен был однажды прийти конец, и тогда, в противоположность этой причине, мы найдем то новое звено, которое нужно внести в наше время, чтобы благодаря ему опустившаяся нация воспрянула к новой жизни. Отыскивая эту причину, мы найдем, что во всех до сих пор бывших формах государственного устройства участие индивида в жизни целого было связано с участием индивида к себе самому такими узами, которые как-то совершенно разорвались, так что индивид уже вовсе не проявлял участия к жизни целого, – узами страха и надежды на дела индивида в связи с судьбою целого, в будущей и в настоящей жизни. Просвещение рассудка, занятого лишь чувственными расчетами – вот сила, которая уничтожила связь настоящей жизни с будущей в религии в то же время признала обманчивыми миражами и другие дополняющие и замещающие средства нравственного образа мысли, как то, например, честолюбие и национальную честь. Слабость правительств – вот что уничтожило боязнь за успех дел индивида в связи с его поведением в отношении целого (даже в отношении настоящей жизни), оттого что забвение своего долга нередко оставалось безнаказанным, и так же точно сделало бессильной надежду, оттого что удовлетворяли эту надежду слишком часто по совершенно иным правилам и мотивам, вовсе не принимая во внимание заслуги индивида перед целым. Именно такого рода связи почему-то совершенно разорвались, а от разрыва их разрушилось и все общежитие.
Тем не менее победитель может отныне делать со всем усердием то, что он только и может делать, а именно, вновь прилаживать и усиливать последнюю частицу связующей людей среды – страх и надежду за свою настоящую жизнь. Но это поможет только ему, а отнюдь не нам: Ибо, если только он понимает, в чем состоит его выгода, он соединит в эту обновленную связь прежде всего только дела, важные для него, а нашу пользу лишь постольку, поскольку для него самого будет важно сохранить нас, как средство для достижения его целей. Для настолько падшей нации страх и надежда уже не существуют, потому что бразды руководства нацией выпали у нее из рук, и хотя ей самой есть чего бояться и на что надеяться, но ее никто уже более не боится и никто на нее не надеется; и ей не остается более ничего, как только найти совершенно иное и новое связующее средство, стоящее выше страха и выше надежды, чтобы важные цели своей целокупности поставить в связь с участием каждого индивида в ней к своей собственной судьбе.
По ту сторону чувственного мотива страха и надежды находится – и к нему на первых порах примыкает – духовный мотив нравственного одобрения или неодобрения и высший аффект благорасположения или отвращения к нашему состоянию или состоянию других людей. Так же, как одно-единственное пятно, которое ведь не причиняет непосредственной боли нашему телу, или вид предметов, лежащих беспорядочно и как попало, все же мучит и тревожит, будто бы непосредственной болью, наш внешний глаз, привыкший к чистоте и порядку, между тем как человек, привыкший к грязи и беспорядку, чувствует себя при этом зрелище совсем неплохо; так же точно и внутренний духовный глаз человека можно образовать и приучить так, что один лишь вид путаного и беспорядочного, недостойного и бесчестного существования его самого или родственного ему племени, независимо от того, чем это грозит или что обещает его чувственному благополучию, причиняет ему внутреннее страдание, и что эта боль не оставит в покое обладателя подобного глаза – опять-таки совершенно независимо от чувственного страха или надежды, – пока он не уничтожит, насколько это в его силах, неприятное для него состояние и утвердит вместо него такое, которое одно только может ему понравиться. В душе обладателя такого глаза важные цели окружающего его целого побуждающим чувством одобрения или неодобрения неразрывно связаны с важными целями его собственной расширенной самости, которая ощущает себя лишь частью целого и для которой ее бытие может быть сносно только в любезном ей целом. А потому образование в себе такого глаза и будет надежным и единственным средством, которое остается у нации, утратившей свою самостоятельность, а с нею и всякое влияние на страх и надежду в общежитии народов, для того чтобы вновь подняться в бытие из пережитого уничтожения и уверенно вручить руководству возникшего в ней нового и высшего чувства свои национальные интересы, которые со времени ее гибели неинтересны ни для людей, ни для богов. И таким образом оказывается, что средство спасения, которое я обещал указать, заключается в образовании в некоторую совершенно новую самость, до сих пор встречавшуюся, может быть, как исключение у индивидов, но никогда еще не появлявшуюся в виде самости всеобщей и национальной, и в воспитании нации, прежняя жизнь которой угасла и обратилась в придаток чужой жизни, для совершенно новой жизни, которая или останется ее исключительным достоянием, или же, если перейдет от нее к другим, останется целой и не умалится, сколь бы бесконечно ни делилась. Одним словом, я предлагаю, как единственное средство сохранить жизнь немецкой нации – совершенное изменение существовавшей до сих пор системы воспитания.
Что детям нужно давать хорошее воспитание – это достаточно часто говорят и до отвращения часто повторяют также и в нашу эпоху, и если бы мы со своей стороны тоже захотели сказать только это – это было бы ничтожно мало. Если же мы полагаем, что можем утверждать нечто иное, то нам надлежит точно и определенно исследовать, чего же собственно недоставало прежнему воспитанию, и указать, какое совершенно новое звено измененное воспитание нации должно присоединить к прежнему способу образования человека.
После же такого исследования прежнего способа воспитания приходится признать, что это воспитание прилагало все силы к тому, чтобы представить взору питомцев какой-нибудь образ религиозного, нравственного, законопослушного умонастроения и всяческого порядка и благонравия, и что порой оно усердно призывало своих питомцев отпечатлеть эти образы в своей собственной жизни; но что за редчайшими исключениями, – которые, стало быть, не были обусловлены этим воспитанием, ибо тогда эти исключения необходимо должны бы были обнаружиться во всех прошедших через это образование и как некоторое правило, но были вызваны другими причинами, – за этими крайне редкими исключениями, говорю я, питомцы этого воспитания все как один следовали не этим нравственным представлениям и призывам, но побуждениям своего эгоизма, возникшего в них естественным путем и без всякого содействия воспитательного искусства; чем неопровержимо доказали, что это воспитательное искусство хотя и в силах было наполнить память несколькими словами и оборотами речи, а холодную и безучастную фантазию – несколькими смутными и бледными образами, но что оно никогда не могло однако же придать своей картине нравственного миропорядка такую живость, чтобы его питомца охватила пылкая любовь и тоска по этому миропорядку и жгучий аффект, который побуждает его воплотить этот образ в жизни и перед которым эгоизм опадает как увядшая листва; и что, стало быть, этому воспитанию далеко не удалось проникнуть к корню всякого действительного жизненного движения и побуждения и образовать его, так что этот последний, несмотря на слепое и бессильное воспитание, рос у всех его питомцев дичком, как умел, и принес добрые плоды у немногих вдохновенных Богом людей и дурные – у огромного большинства людей. Теперь нам вполне достаточно будет обозначить характер этого воспитания по его результату, и для наших целей мы можем избавить себя от кропотливого труда анализа внутренних соков и сосудов дерева, плод которого ныне вполне созрел и упал, и лежит на виду всего света, и в высшей степени ясно и понятно выражает собою внутреннюю природу своего родителя. Строго говоря, согласно этому воззрению, прежнее воспитание никоим образом не было искусством образования человека, – оно ведь и не хвалилось, что может само дать такое образование, а весьма часто добровольно сознавалось в своем бессилии тем, что требовало предпослать ему некий естественный талант или гений, как условие его успеха. Такое искусство еще предстоит изобрести, и его изобретение будет подлинной задачей нового воспитания. Новое воспитание должно будет прибавить к прежнему именно это (отсутствующее в прежнем) проникновение к корням жизненных движений и побуждений, и как прежнее воспитание образовывало, самое большее, что-то одно в человеке, так это новое воспитание должно образовать самого человека, и сделать его образование отнюдь не только владением, как то делало прежнее воспитание, но элементом самой личности своего питомца.
Далее, это ограниченное в указанном смысле образование сообщалось до сих пор весьма немногочисленному меньшинству сословий, которые именно поэтому назывались образованными, а огромное большинство, на котором, собственно, и покоится общежитие, народ, – был почти совершенно забыт воспитательным искусством и предоставлен произволу слепой случайности. Мы, нашим новым воспитанием, желаем образовать немцев в такую целокупность (Gesammtheit), которая во всех своих членах побуждается и животворится одной и той же единой целью; если бы при этом мы опять захотели отделить образованное сословие, которое бы в таком случае жило этим, вновь утвержденным нами, мотивом нравственного одобрения, от сословия необразованного, то это последнее – коль скоро надежда и страх, которыми тогда только и можно было бы влиять на это сословие, служили бы теперь уж не за нас, но против нас, – отпало бы от нас и оказалось бы для нас совершенно потеряно. А потому нам не остается иного выбора, как нести новое образование абсолютно всему без исключения, что носит имя немца, так чтобы оно стало не образованием одного особого сословия, но образованием нации вообще как таковой, и без всякого исключения для отдельных членов ее, и чтобы в нем (а именно в образовании сердечного благорасположения к правде) совершенно уничтожалось бы и исчезало всякое различие между сословиями, которое вполне может существовать по-прежнему в других отраслях развития; и чтобы таким образом среди нас возникло бы не воспитание народа, но самобытное немецкое национальное воспитание.
Я докажу Вам, что такое воспитательное искусство, какого мы желаем, действительно уже изобретено и применяется, так что нам нужно только принять то, что у нас уже под руками, а для этого (как я и обещал выше, говоря о предлагаемом мною средстве спасения), без сомнения, не нужно больших сил, чем те, которые справедливо будет предположить у человека в нашу эпоху. К этому обещанию я присовокупил тогда еще одно, а именно, что, что касается опасности, то опасности от нашего предложения вовсе никакой нет, потому что собственная выгода повелевающей нами власти требует скорее содействовать осуществлению нашего предложения, чем препятствовать ему. Я считаю целесообразным недвусмысленно высказаться об этом пункте уже в первой речи.
Хотя, как в древнее, так и в новое время, приемы соблазнения и нравственного унижения весьма нередко с успехом использовались как средства поддержания власти, – изобретая лживые вымыслы и искусно смешивая понятия и язык, старались очернить князей в мнении народов и народы в мнении князей, чтобы тем надежнее властвовать над ссорящимися сословиями; коварно возбуждали все мотивы суетности и корысти, чтобы сделать подданных достойными презрения и тогда топтать их ногами, так сказать, со спокойной совестью. Но правитель, конечно, допустил бы роковую ошибку, если бы захотел действовать подобным образом с нами, немцами. Общественная связь в той части заграницы, с которой мы столкнулись теперь, зиждется (не считая уз страха и надежды) на мотивах чести и национальной славы; но немецкая ясность уже давным-давно с неколебимой убежденностью поняла, что и то, и другое лишь пустые миражи, и что славой целой нации не исцелить ни одной раны или увечья отдельного человека. И если кто-нибудь не сообщит нам более высокого воззрения на жизнь, то мы, конечно, можем оказаться опасными проповедниками этого весьма понятного и до известной степени заманчивого учения. Даже не принимая в себя еще и этой новой порчи, мы уже по самому естественному нашему свойству бываем для других роковой добычей; только после осуществления сделанного мною выше предложения мы можем стать добычей спасительной; а потому, если только заграница понимает свою выгоду, сама эта выгода ее побудит их к тому, чтобы мы стали для нее скорее последним, нежели первым.
Моя речь обращается с этим предложением, в особенности, к образованным сословиям Германии, ибо еще надеется стать понятной в первую очередь для них, и прежде всего предлагает им стать творцами в этом новом творении, и тем отчасти примирить свет с прежней их деятельностью, отчасти же заслужить себе право на жизнь в будущем. В продолжение этих речей мы увидим, что до сих пор всякий прогресс человечности в немецкой нации исходил от народа, и что великие национальные задачи всегда сообщались вначале именно народу, и он трудился над их решением и содействовал их успеху; что, следовательно, теперь впервые образованным сословиям предлагается стать во главе изначального формирования (Fortbildung) нации, и что если они действительно примут это предложение, это тоже произойдет впервые. Мы увидим, что эти сословия не могут предвидеть, на сколь долгое время в их власти будет встать во главе этого дела, ибо дело это уже почти готово и созрело для изложения его народу, и на некоторых членах народа уже действительно исполняется, так что народ в скором времени сам сможет справиться без всякой нашей помощи; от чего для нас произойдет лишь то одно, что нынешние образованные и их потомки станут народом, а из прежнего народа выдвинется другое, более образованное сословие.
Наконец, общая цель этих речей состоит в том, чтобы внушить смелость и надежду побежденным, возвещать радость в дни глубокой печали, легко и спокойно направить людей в час величайшего угнетения. Наше время кажется подобным тени, что стоит над мертвым телом своим, из которого только что изгнало ее полчище болезней, и тоскует, и не может оторвать взгляда от прежде столь любимой своей оболочки, и в отчаянии пробует все возможные средства, чтобы вновь возвратиться в жилище заразы. Животворный воздух иного мира, куда вступила покойная, уже принял ее, и окружил ее теплым дыханием любви, и ее уже радостно приветствуют знакомые голоса сестер, и сердце ее уже ожило и распростирается во все стороны, чтобы составить в себе тот чудеснейший образ, в который ей предстоит возрасти. Но в ней нет еще чувства, чтобы ощутить эти веяния, и нет ушей, чтобы слышать эти голоса, да если бы даже и были – все равно она всем существом своим переживает теперь боль своей утраты, вместе с которой она утратила, как ей кажется, и себя самое. Что же делать с нею? Вот занялась уже и заря нового мира, и золотит вершины гор, и прообразует собою грядущий день. Я хочу, как сумею, поймать в фокус лучи этой зари и сгустить их в зеркало, где неутешное время увидело бы само себя, а увидев, поверило, что оно еще живо, и что в этом зеркале предстает перед ним его подлинное ядро и проходят перед ним в пророческих картинах многоликие явления и обличья этого его существа. В этом созерцании утонет для него, без сомнения, и исчезнет и образ его прежней жизни, а тогда оно сможет без лишних причитаний проводить этого мертвеца к месту его последнего упокоения.
* * *
Вторая речь
О сущности нового воспитания в общих чертах
Предложенное мною средство сохранения немецкой нации вообще, к ясному пониманию которого эти речи хотели бы привести сначала Вас, а вместе с Вами и всю нацию, возникает, как средство этого рода, из свойств нашего времени, а также из национальных особенностей немецкого народа, подобно тому как это средство должно в свою очередь воздействовать на время и на образование национальных особенностей. А потому средство это нельзя будет представить Вам совершенно ясно и понятно, пока мы не сопоставим его с этими двумя моментами, а эти моменты – с ним и не представим то и другое в совершенном взаимопроникновении. А это потребует некоторого времени, и таким образом, совершенной ясности можно ожидать лишь в конце наших речей. Поскольку, однако, нам нужно начать с какой-нибудь отдельной части, уместнее всего будет рассмотреть сперва само это средство, отдельно от окружающих его в пространстве и времени обстоятельств, само по себе в его внутренней сущности; и потому именно этому предмету будет посвящена наша сегодняшняя и следующая речь.
Указанное мною средство – это совершенно новое и прежде еще никогда, ни у какой нации в таком виде не встречавшееся национальное воспитание немцев. Это новое воспитание уже в прошлой речи было, в отличие от обычного до сих пор воспитания, обозначено мною так: прежнее воспитание, самое большее, только призывало к доброму порядку и нравственности, но эти призывы остались бесплодными для действительной жизни, которая образовывалась совсем по иным, абсолютно недоступным для этого воспитания основаниям. В противоположность ему, новое воспитание должно быть способно уверенно и безошибочно образовывать и определять согласно правилам действительные жизненные побуждения и движения своих питомцев.
Пусть кто-нибудь, услышав это, скажет мне (как и действительно говорят почти все без исключения те, кто руководит воспитанием по прежнему способу): «Как же можно требовать от какого бы то ни было воспитания большего, чем только показать питомцу правду и усердно напоминать ему о необходимости следовать ей? А захочет ли он последовать этому призыву – это его собственное дело и, если он не захочет, – его собственная вина. У него есть свободная воля, которой его не лишит никакое воспитание.» Тогда, дабы еще определеннее описать характер представляющегося мне нового воспитания, я ответил бы, что именно в этом признании и в этом расчете на свободную волю воспитанника заключается первая ошибка прежнего воспитания и отчетливое признание им своего бессилия и своей ничтожности. Ибо, признавая, что после всей его старательнейшей работы воля все-таки остается свободной, то есть колеблющейся в нерешительности между добром и злом, это воспитание признает, что образовать волю, – а поскольку воля есть подлинное корневище самого человека, образовать самого человека оно решительно и неспособно, и не намерено, и не желает, и что оно вообще считает это образование воли невозможным. Напротив, новое воспитание должно заключаться именно в том, чтобы на той почве, оценку которой оно взяло бы на свою ответственность, совершенно уничтожить свободу воли и породить в воле, напротив, строгую необходимость принимаемых решений и невозможность противоположного, и тогда на эту волю можно уверенно рассчитывать и полагаться на нее.
Всякое образование стремится произвести некоторое прочное, определенное и устойчивое бытие, которое уже не становится, но есть, и не может быть иным, чем только таким, каково оно есть. Если бы оно не стремилось создать подобное бытие, то было бы не образованием, а какой-нибудь бесцельной игрой; если бы оно не создало подобного бытия, то оно именно было бы еще не закончено. Кто еще должен побуждать себя и слушать призывы других к тому, чтобы желать добра, у того нет еще определенной и всегда готовой к действию воли, он только хочет создать себе такую волю в каждом случае, когда нужно ее применение; в ком есть эта твердая воля, тот хочет того, чего он хочет, ныне и во веки, и ни в каком возможном случае он не мог бы хотеть иначе, чем именно так, как он всегда хочет; для него свобода воли уничтожилась и растворилась в необходимости. Прежнее время именно тем и показывало, что не имеет ни верного понятия об образовании человека, ни силы, чтобы воплотить это понятие в действительности, что оно желало исправить человека проповедями-напоминаниями, и огорчалось и принималось ругаться, когда эти проповеди оставались без всяких последствий. Да и как могли бы они принести плод? Воля человека имеет ясное устремление еще до всякого напоминания, и независимо от него. Если это устремление согласуется с твоим напоминанием, то напоминание опоздало, – человек и без него все равно сделал бы то, о чем ты ему напоминаешь. Если это устремление противоречит ему, то в самом лучшем случае ты только на несколько минут заглушишь его: при первом же случае он забудет сам себя и твое напоминание и последует своему естественному влечению. Если ты хочешь чего-то от него добиться, ты должен сделать нечто большее, нежели только уговаривать его, ты должен сделать его, сделать таким, чтобы он вовсе не мог хотеть иначе, чем так, как ты хочешь, чтобы он хотел. Напрасно говорить «лети» тому, у кого нет крыльев, все твои призывы не заставят его подняться и на два шага над землей. Но развивай, если можешь, маховые перья его духа, и позволь ему испытать их и укрепить опытом, и без всяких напоминаний с твоей стороны он уже не сможет и не захочет решительно ничего иного, он будет только летать.
Эту твердую, уже не колеблющуюся волю и должно создать новое воспитание, по надежному и без исключений действующему правилу; оно само должно с необходимостью создать ту необходимость, которую намеревается получить. Все, кто стал до сих пор добрыми людьми, стали такими благодаря своим естественным задаткам, пересилившим воздействие дурного окружения; а отнюдь не благодаря воспитанию, ибо в противном случае все прошедшие это воспитание должны были бы стать добрыми; а кто опустился нравственно, в том эта нравственная порча явилась так же точно не от воспитания, ибо в противном случае порча должна была бы постигнуть всех прошедших его, – но по его собственной вине и от его естественных задатков. Воспитание было в этом отношении всего лишь ничтожно, а отнюдь не губительно; собственно образующим средством была здесь духовная природа. И вот впредь надлежит передать образование человека, из рук этой темной и непредсказуемой силы, во власть обдуманного искусства, которое уверенно достигает своей цели во всем без исключения, что ни доверяют ему, или, там, где оно не достигнет цели, знает по крайней мере, что оно ее не достигло, и что воспитание, следовательно, еще не закончено. Итак, предлагаемое мною воспитание должно быть надежным и обдуманным искусством образовать в человеке твердую и безошибочную добрую волю; и таков будет его первый признак.
Далее – человек может хотеть только того, что он любит; его любовь есть единственный, и в то же самое время непогрешимый мотив его воли и всех его жизненных движений и побуждений. Прежнее искусство государственного управления, будучи само воспитанием общественного человека, предполагало, как надежное и без изъятия значимое правило, что каждый любит и желает своего собственного чувственного благополучия, и на этой прирожденной человеку любви с помощью страха и надежды искусственно основывало добрую волю, которую хотело воспитать, – интерес к целям общежития. Не говоря уж о том, что при этом методе воспитания тот, кто внешне стал безвредным или даже полезным гражданином, в душе остается все же дурным человеком – ибо дурная природа именно в том и состоит, что человек любит только свое чувственное благополучие, и что его можно побудить к совершению поступков только страхом или надеждой на это благополучие, будь то в настоящей, или же в будущей жизни – не говоря уже об этом, мы видели уже выше, что этот метод к нам теперь неприменим, потому что страх и надежда будут уже действовать не за нас, а против нас, а чувственное себялюбие мы никоим способом не сможем заставить действовать нам на пользу. Поэтому даже как бы сама нужда заставляет нас стремиться образовать внутренне и существенно добрых людей, ибо лишь в таких людях еще может выжить отдельная немецкая нация, из-за дурных же людей она необходимо сольется с заграницей. А потому на место того себялюбия, на котором отныне ничего хорошего для нас основать невозможно, нам следует утверждать и основать в душах всех, которых мы желаем считать принадлежащими к нашей нации, иную любовь, непосредственно обращенную к добру, просто как таковому и ради него самого.
Любовь к добру просто как таковому, а не ради, скажем, его полезности для нас самих, имеет, как мы уже поняли, вид благорасположения к нему: столь сердечно глубокого благорасположения, что оно побуждает нас воплотить добро в нашей жизни. Это-то сердечное благорасположение, как прочное и неизменное бытие питомца, и должно породить в нем новое воспитание; а тогда это благорасположение уже само собою послужит основанием неизменно доброй воли этого питомца, как необходимой для него. Благорасположение, побуждающее создать в действительности известное положение вещей, которого в ней не имеется, предполагает образ этого состояния, который предносится духу прежде действительного бытия этого положения, и привлекает к себе это побуждающее нас к воплощению благорасположение. Следовательно, это благорасположение предполагает в том лице, которое должно быть им охвачено, способность самодеятельного начертания подобного рода образов, независимых от действительности и являющихся отнюдь не отображениями ее, но скорее прообразами. Мне предстоит теперь, прежде всего, говорить об этой способности, и я прошу Вас не забывать в продолжение этого рассуждения, что порождаемый этой способностью образ может нравиться именно только как образ и как нечто такое, в чем мы ощущаем нашу образующую творческую силу, хотя бы при этом мы не рассматривали его как прообраз некоторой действительности, и хотя бы он нравился нам не в такой степени, чтобы побуждать нас к воплощению; что это последнее есть нечто совершенно иное, и наша подлинная цель, о которой мы не преминем поговорить впоследствии, а это первое заключает в себе единственно лишь предварительное условие достижения подлинной конечной цели воспитания.
Эта способность самодеятельного начертания образов, которые отнюдь не суть простые отображения действительности, но которые способны становиться прообразами ее, – это первое, из чего должно исходить образование поколения в новом воспитании. Самодеятельного начертания, – сказал я, и именно такого, чтобы питомец порождал их себе собственными силами, а отнюдь не так, чтобы он приобретал только способность пассивно воспринимать предлагаемый ему воспитанием образ, в достаточной мере понимать его, и повторять его таким, как он был ему дан, как будто бы все дело заключается только в наличности в нем подобного образа. Это требование свободной самодеятельности при создании образа (Bilden) основано вот на чем: лишь при этом условии начертанный образ может привлечь к себе деятельное благорасположение питомца. Дело в том, что одно дело – просто принимать нечто к сведению (sich etwas nur gefallen zu lassen), и ничего не получать при этом, каковое пассивное принятие только и может, в лучшем случае, возникнуть из пассивной отдачи; но совершенно иное дело – быть настолько охваченным благорасположением к чему-то, что это наше благорасположение становится творческим и побуждает все наши силы к созданию образов. О первом, которое, во всяком случае, также случалось порой в прежнем воспитании, мы здесь не говорим; мы ведем речь о последнем. Но это последнее благорасположение можно воспламенить в душе, только возбудив в то же самое время самодеятельность питомца и обнаружив ее перед ним на данном предмете. А тогда этот предмет нравится не просто сам по себе, но в то же время и как предмет приложения духовных сил, это же последнее нравится непосредственно, необходимо и без исключений. Эта деятельность по созданию духовных образов, которую мы должны развить в питомце, есть, без сомнения, деятельность согласно правилам, а эти правила открываются действующему, пока он не постигнет в непосредственном опыте на себе самом, что правила эти суть единственно возможные. Итак, эта деятельность порождает познание, а именно, познание всеобщих и без изъятия действующих законов. Кроме того, в этом, начинающемся с этой точки из себя самого, свободном творчестве образов невозможно предпринять что бы то ни было против закона, и поступок не будет совершен, пока закон не будет нами исполнен. Поэтому, даже если это свободное творчество образов также начнет с попыток, предпринимаемых вслепую, оно все же должно будет завершиться более полным познанием закона. Поэтому это образование есть, в конечном своем итоге, образование познавательной способности питомца, причем образование отнюдь не историческое – на основе постоянных свойств вещей, – но высшее и философское – на основе законов, по которым подобные постоянные свойства вещей становятся необходимыми. Питомец учится.
Прибавлю к этому: питомец учится охотно и с удовольствием, и пока сохраняется в нем напряжение силы, он ничего не станет делать так охотно, как учиться: ибо, учась, он самодеятелен, а охота самодеятельности в нем сильнее всего. Тем самым мы нашли внешний, отчасти непосредственно бросающийся в глаза, отчасти же абсолютно верный признак подлинного воспитания. А именно то, чтобы, совершенно безотносительно к различию естественных задатков питомцев и без всякого исключения, любой питомец, которому передается это воспитание, учился только ради самого учения, а не по какой-либо иной причине, с удовольствием и с любовью. Мы нашли средство, как воспламенить в питомце эту чистую любовь к учению; это средство состоит в том, чтобы возбудить непосредственную самодеятельность питомца и сделать ее основанием всякого познания, так, чтобы именно в ней он учился всему тому, чему он обучается.
Просто возбудить эту собственную деятельность питомца в каком-нибудь известном нам пункте – это первый основной элемент искусства. Если это удалось, то нам нужно теперь лишь постоянно поддерживать бодрость и живость этой возбужденной в нем деятельности, а это возможно только с помощью правильного продвижения вперед, когда всякая оплошность в воспитании немедленно обнаруживается тем, что задуманное нами не исполняется. Следовательно, мы нашли ту связующую нить, которая неотделимо скрепляет предполагаемый результат воспитания с указанным образом действий воспитателя, – а именно, вечный и не знающий исключений основной закон духовной природы человека, согласно которому человек непосредственно стремится к духовной деятельности.
Если кто-нибудь, введенный в заблуждение повседневным опытом наших дней, сомневается даже в самом существовании такого основного закона, то для такого человека мы, ко всему прочему, заметим, что от природы человек, в самом деле, есть лишь чувственное и себялюбивое существо, пока его побуждает непосредственная нужда и насущная чувственная потребность, и что в этом случае никакая духовная потребность и никакие доводы осторожности не удержат его от удовлетворения этой чувственной потребности; но что, как только эта жажда устранена, он мало расположен бывает поддерживать и отделывать в своей фантазии мучительный образ этой потребности, но гораздо охотнее обращает вырвавшуюся из плена мысль на свободное рассмотрение того, что привлекает к себе внимание его чувств, что он даже не откажется от поэтической прогулки по идеальным мирам, ибо ему от природы присуще легкомыслие к временному, чтобы его чувство вечного могло получить некоторый простор для развития. Последнее обстоятельство доказывает нам история всех древних народов и некоторые наблюдения и открытия, которые дошли до нас от этих народов. Это доказывает и в наши дни наблюдение за жизнью еще сохранившихся на Земле диких народов, в том именно случае, если климат их местности не слишком суров с ними, и наблюдение за нашими собственными детьми. Это доказывает нам даже добровольное признание наших ревностных борцов с идеалами, жалующихся, что учить имена и даты – занятие куда менее приятное, чем воспарять в пустое (как им представляется) пространство мира идей, так что, стало быть, сами они, если бы только могли себе это позволить, охотнее предавались бы, как может показаться, именно этому последнему, а вовсе не первому занятию. А то, что вместо этого соответствующего нашей природе легкомыслия явилась тоска и меланхолия, из-за которой даже уму сытого предносится, и непрестанно подгоняет и побуждает его будущий голод и долгая вереница всевозможных видов будущего голода, как единственное содержание, наполняющее собою его душу, – этого в нашу эпоху добилось искусство воспитателей, – мальчика строго наказывая за проявления его естественного легкомыслия, а у зрелого мужа порождая стремление считаться в мнении общества умным человеком, между тем как эта слава достается ведь лишь тому, кто ни на минуту не упускает из виду именно эти самые соображения. Поэтому нам следовало бы рассчитывать отнюдь не на природу, а на ту порчу, которая была с большими трудами навязана сопротивляющейся природе и которая отпадет, как только мы перестанем напрасно тратить на это свои труды.
Это воспитание, непосредственно возбуждающее духовную самодеятельность своего питомца, рождает познание, сказали мы выше; и это дает нам повод для того, чтобы дать еще более глубокую характеристику нового воспитания в его противоположности прежнему воспитанию. Дело в том, что новое воспитание собственно и непосредственно направлено только на возбуждение правильно развивающейся духовной деятельности. Познание, как мы видели выше, возникает лишь между прочим и как непременное последствие такой деятельности. А потому, хотя это познание, конечно же, именно таково, что единственно только в нем одном может быть постигнут тот образ для действительной жизни, которому предстоит возбуждать в будущем к серьезной деятельности нашего возмужавшего питомца, – и, стало быть, это познание составляет существенный элемент того образования, которое он должен получить; однако мы не можем сказать, чтобы это познание входило в непосредственные намерения нового воспитания; познание просто достается ему. Прежнее же воспитание ставило своей целью именно сообщить познание и известный объем познавательного материала. Далее, существует большое различие между тем родом познания, которое, между прочим, возникает в ходе нового воспитания, и тем родом познания, к которому стремилось прежнее воспитание. В первом возникает познание законов духовной деятельности, служащих условиями возможности этой деятельности. Если, например, питомец пытается в своей фантазии ограничить некоторое пространство прямыми линиями, то это – впервые возбужденная духовная деятельность нашего питомца. Если в этих попытках он найдет, что может ограничить некоторое пространство не менее чем только тремя прямыми, то это будет возникающее в нем между прочим познание второй, совершенно отличной, деятельности способности познания, ограничивающей ту свободную способность, которая была возбуждена в нем прежде. Следовательно, при этом способе воспитания, уже в самом его начале, возникает поистине превосходящее всякий опыт, сверхчувственное, строго необходимое и всеобщее познание, которое уже заведомо включает в себя весь возможный впоследствии опыт. Прежний же способ преподавания был обращен, как правило, только на усвоение постоянных свойств вещей, такими, как они существуют действительно, хотя мы и не можем указать тому причину, и какими мы должны признавать и примечать их, – а значит, на простое усвоение способностью памяти, которая стоит тогда всего лишь на службе неизменных вещей. А таким путем вовсе не могло возникнуть даже и смутного понятия о духе, как самостоятельном и изначальном первопринципе самих вещей. Пусть только новейшая педагогика не думает, что сумеет защититься от этого упрека, сославшись на свое часто выражаемое отвращение к механической зубрежке и на свои известные шедевры в сократической манере. Ибо на этот счет ей уже давно и основательно пояснили в другом месте, что эти сократические рассуждения также подлежат в ней лишь механическому заучиванию, и что эта зубрежка будет намного опаснее, потому что после нее питомцу, который не мыслит, все же начинает казаться, будто он может мыслить; что при том материале, который она намеревалась использовать для развития самостоятельного мышления, это и не могло быть иначе, и что с этой целью следует начинать с совершенно другого материала. Из этого свойства прежнего способа преподавания становится ясно, отчасти почему питомцы до сих пор учились, как правило, неохотно, а потому медленно и без особого толка, и почему, за отсутствием стимулов, заключенных в самом учении, приходилось помогать делу чужеродными мотивами, – отчасти же отсюда явствует причина того, почему и до сих пор бывали исключения из правила. Память, если мы обременяем только ее одну и если она не должна служить никакой иной духовной цели, представляет собою скорее страдательное состояние (Leiden) духа, чем его деятельность, и вполне понятно, что питомец крайне неохотно станет подвергать себя этому страданию. К тому же знакомство с совершенно посторонними и не представляющими для него ни малейшего интереса вещами и их свойствами едва ли могло возместить питомцу это причиняемое ему страдание; поэтому приходилось преодолевать его антипатию, внушая ему надежду на полезность этих знаний в будущем, и убеждая, что лишь благодаря им он сможет добыть себе и честь, и насущный хлеб, и даже прибегая непосредственно к наградам и наказаниям. Так что познание, следовательно, уже с самого начала преподносилось питомцу как простой слуга чувственного благополучия, и это воспитание, которое, как мы показали выше, в отношении своего содержания оказывалось совершенно бессильным развить нравственный образ мысли в своем питомце, должно было, чтобы только пробиться к сознанию питомца, даже сеять и развивать в нем нравственную порчу характера и связать свой собственный интерес с интересом этой коренной нравственной порчи. Мы находим, далее, что ребенок от природы талантливый, который, как исключение из правила, учился в школе этого прежнего воспитания с охотой, и потому учился хорошо, и который силою этой владеющей им высшей любви преодолевал моральную испорченность своего окружения и хранил свой ум в чистоте, питал к этим предметам, благодаря присущей ему от природы наклонности, практический интерес, и что он, ведомый своим благотворным инстинктом, стремился более к тому, чтобы самому порождать такого рода познания, чем к тому, чтобы просто усваивать их. Оказывается также, что те учебные предметы, в преподавании которых (как исключение из правила) это прежнее воспитание чаще всего и больше всего преуспевало – а это все такие предметы, в которых оно поощряло деятельность при изучении их, например, тот ученый язык, в обучении которому все было направлено на умение писать и говорить на нем, – питомцы почти всегда усваивали весьма хорошо, тогда как другие, учителя которых пренебрегали упражнениями в чтении и письме, они усваивали, как правило, очень плохо и поверхностно, а в зрелые годы забывали совсем: А потому из свойств прежнего воспитания следует, что только развитие духовной деятельности при преподавании наук порождает в питомцах удовольствие от познания, просто как такового, а тем самым сохраняет и сердце их открытым нравственному образованию. Напротив, чисто пассивное получение знаний расслабляет и умерщвляет способность познания, и так же точно испытывает необходимую потребность до основания испортить в питомцах нравственное чувство.
Возвращаясь к разговору о питомце нового воспитания: ясно, что этот питомец, влекомый своей любовью, усваивает много, а поскольку он усваивает все во внутренней взаимосвязи и непосредственно действием упражняется в том, что усвоено, – он выучивает это многое правильно и не сможет его когда-либо забыть. Но это все же – не самое важное. Более важно то, что эта любовь возвышает его самость, вводит ее обдуманно и правильно в некий новый порядок вещей, в который до сих пор случайно попадали лишь немногие любимые Богом гении. Его влечет любовь, устремляющаяся отнюдь не к какому-нибудь чувственному наслаждению, – это последнее как мотив жизни совершенно умолкло в нем, – но к духовной деятельности, ради самой деятельности и к ее закону, ради самого закона. И хотя нравственность имеет целью не эту духовную деятельность вообще, но для нее нужно еще и особенное направление этой деятельности, однако эта любовь составляет общее свойство и форму нравственной воли; а потому этот способ образования духа служит непосредственным приготовлением к образованию нравственному. Безнравственность же оно совершенно и в корне истребляет, отнюдь не позволяя чувственному наслаждению стать когда-либо мотивом воли. До сих пор именно этот мотив старались возбуждать и формировать прежде всех прочих, ибо полагали, что иначе совершенно невозможно будет обработать натуру ученика и иметь на него хоть какое-то влияние. И потому, если впоследствии нужно было развить в нем нравственный мотив, то этот мотив являлся слишком поздно и находил сердце питомца уже занятым и исполненным иной любовью. Напротив, новое воспитание должно поставить на первое место образование чистой воли, чтобы, если позднее в душе все-таки проснется или будет возбужден извне эгоизм, он явится слишком поздно и не найдет себе места в душе, которая уже всецело занята чем-то другим.
Уже для этой первой цели, как и для второй, которую мы сейчас укажем, существенно то, чтобы питомец с самого же начала и непрерывно находился под воздействием этого воспитания и чтобы его совершенно отстранили от всего пошлого и не допускали его ни в чем соприкасаться с пошлостью. Он вовсе не должен слышать ни разу, будто в жизни нужно действовать и шевелиться ради своего выживания и благополучия, как не должен он слышать, будто для того именно люди и учатся, или будто учение может хоть несколько помочь в этом отношении. Отсюда следует, что нам следует сообщить ему единственно лишь духовное развитие в вышеуказанном смысле, и что этим своим развитием он должен быть занят беспрерывно, но что этот способ преподавания отнюдь не должно чередовать с другим, требующим противоположного чувственного мотива.
Но, хотя это духовное развитие не позволяет зародиться эгоизму и дает форму нравственной воли, однако оно еще не есть оттого сама эта нравственная воля; и если бы предлагаемое нами новое воспитание не пошло здесь далее, то оно воспитало бы в лучшем случае превосходных тружеников науки, какие бывали и прежде, которых нужно совсем немного и которые смогли бы сделать для нашей подлинной человеческой и национальной цели нисколько не больше того, что удалось сделать и до сих пор всем им подобным: наставлять и увещевать, и вновь наставлять и увещевать, и тем вызывать к себе немое удивление, а при случае и брань из публики. Между тем ясно, и мы уже это сказали выше, что эту свободную деятельность духа нужно развивать с той целью, чтобы питомец мог свободно начертать этою деятельностью образ нравственного порядка действительно существующей жизни, усвоил этот образ своей любовью, которую мы также уже сумели развить в нем, и чтобы эта любовь побуждала его действительно воплотить этот образ своей жизнью и в своей жизни. Спрашивается: как новое воспитание сможет доказать себе, что оно достигло в своем питомце этой своей подлинной и конечной цели?
Ясно, прежде всего, что духовную деятельность в питомце, которую он уже упражнял ранее на других предметах, следует побудить к тому, чтобы начертать образ общественного порядка человеческой жизни, каким он безусловно должен быть согласно закону разума. Правилен ли этот начертанный питомцем образ – это воспитание без труда сумеет определить, если только само располагает этим правильным образом. И то, был ли образ этот начертан собственною самодеятельностью питомца, или же усвоен им лишь пассивно и бездумно повторен слово в слово за учителем, а кроме того, достиг ли он в нем надлежащей ясности и живости представления, – воспитание сумеет оценить так же точно, как оно выносило верное суждение в этом отношении по прежним предметам обучения. Все это есть еще дело одного познания и остается во вполне доступной для нашего воспитания области этого познания. Но совсем иной и высший вопрос заключается в том, охвачен ли наш питомец столь пылкой любовью к этому порядку вещей, что для него, когда он выйдет из руководства воспитания и будет предоставлен своей самостоятельности, будет абсолютно невозможно не желать этого порядка и не трудиться всеми своими силами для содействия его воплощению? А на этот вопрос, без сомнения, нам смогут ответить не слова и не словесные экзамены, но только вид поступков нашего питомца.
Эту последнюю задачу, поставленную перед нами этим последним рассуждением, я решаю так: Питомцы этого нового воспитания, хотя они и изолированы от уже возросшей пошлости, будут все же, без сомнения, жить сами в обществе друг с другом, и потому составят некоторое обособленное и самобытно существующее общежитие, в котором будет свое точно определенное, обусловленное природой вещей и, безусловно, требуемое самим разумом, общественное устройство. Самым первым образом порядка общения, начертать который мы побуждаем дух нашего питомца, станет образ той общины, в которой живет он сам, так что он будет внутренне принужден образовать в себе образ этого порядка во всех чертах точно таким, каким он предначертан ему в действительности, и будет понимать основания этого порядка как совершенно необходимого во всех частях. И это, опять-таки, есть дело одного лишь познания. В действительной жизни каждому индивиду в этом общественном порядке постоянно приходится отказываться, ради целого, от весьма многих поступков, которые он без колебания совершил бы, будучи в одиночестве; и потому будет целесообразно, чтобы в законодательстве и в школьном преподавании, которое должно быть на нем основано, каждому индивиду представляли всех прочих индивидов питающими такую доведенную до идеала любовь к порядку, какая в подобной силе не свойственна, быть может, в действительности ни одному из них, но должна быть присуща им всем; и чтобы это законодательство достигло таким образом значительной строгости и предписывало воздерживаться от весьма многих поступков. К этому не-деянию, как тому, что безусловно должно быть и на чем основано существование общества, следует принуждать, если потребуется, даже и страхом перед совершающимся наказанием; и этот уголовный закон следует исполнять безусловно без всяких послаблений и исключений. Этим применением страха как влечения мы не причиним никакого вреда нравственности питомца, ведь таким способом мы хотим побудить его не к добру, но лишь к воздержанию от того, что в этом устройстве является злом. Кроме того, уроки, посвященные общественному устройству должны с полной ясностью пояснить питомцу, что тот, кто испытывает нужду в представлении о наказании или в постоянном обновлении этого представления самим действительным наказанием, тот еще находится на очень низкой ступени образования. При всем том, однако, ясно, что, коль скоро мы никогда не можем знать, повинуется ли человек из любви к порядку или из страха перед наказанием, в этой сфере ни питомец не может изъявить внешним действием свою добрую волю, ни воспитатель – оценить ее.
Сфера же, где подобная оценка возможна, вот какова. Устройство общежития должно быть, далее, таким, чтобы индивид не только был вынужден воздерживаться от поступков ради целого, но чтобы он мог также и действовать и деятельно работать ради этого целого. Помимо духовного развития в учебе, в этом общежитии питомцев есть еще и физические упражнения и механический, однако облагороженный до идеала, труд – земледелие и некоторые ремесла. Основным правилом устройства этого общежития будет то, чтобы каждому, кто окажет особые успехи в какой-нибудь из этих областей, вменялось в обязанность помогать учить этому других и взять на себя известный контроль и известную ответственность; чтобы каждому, кто найдет какое-нибудь улучшение или первым и яснее всех поймет улучшение, предложенное учителем, вменялось собственным трудом реализовать его, хотя это и не освобождает его от других само собою подразумевающихся его личных обязанностей в учебе и в труде; чтобы каждый по доброй воле, а не по принуждению, исполнял эту свою обязанность, коль скоро тот, кто не желает, также волен отказаться исполнить ее; чтобы за ее исполнение питомец не мог ожидать себе какого-либо вознаграждения, – ведь в этом устройстве все совершенно равны в отношении труда и наслаждений, – ни даже похвалы, – ведь в этой общине господствует такой образ мысли, что, делая так, каждый только исполнит свой долг, – но чтобы он чувствовал только радость от своей деятельности на благо целого и от успеха этой деятельности, если такой успех достанется ему на долю. Следовательно, в этом устройстве усвоивший себе особенные умения и затративший на это труды приобретет себе тем только новые труды и работы, и именно самому прилежному придется подчас бодрствовать, когда другие спят, и предаваться размышлениям, когда другие играют.
Питомцев, которые, несмотря на то что все это им совершенно ясно и понятно, тем не менее по-прежнему с радостью принимают на себя и этот первый труд, и следующие за ним новые труды, так что на них можно уверенно положиться, и которые, чувствуя свою силу и деятельность, неизменно сильны и становятся все сильнее, – таких питомцев воспитание может отпустить в мир со спокойным сердцем. В них оно достигло своей цели; в них оно заронило искру любви, и эта любовь горит в них до самых корней их жизненных побуждений, и отныне она охватит в них и все без исключения, что затронет в них это живое побуждение. И в большом общежитии, в которое они отныне вступают, они никогда не сумеют быть чем-то иным, нежели чем они неизменно и неколебимо были в том малом общежитии, которое покидают ныне.
Таким образом питомец будет совершенно подготовлен для тех будущих и всех без исключения касающихся требований, которые предъявит к нему мир, и то, чего требует от него воспитание именем этого мира, вполне совершилось. Но он еще не закончен в себе и для себя самого, и еще не совершилось в нем то, чего он сам может требовать от воспитания. Когда будет исполнено и это требование, он тем самым обретет в то же время и способность удовлетворить притязаниям, которые, в особенных случаях, может предъявить к нему высший мир именем мира настоящего.
* * *
Третья речь
Продолжение описания нового воспитания
Подлинная сущность предложенного мною нового воспитания, как оно было описано мною в прошлой речи, заключалась в том, что это воспитание есть обдуманное и верное искусство образования воспитанника к чистой нравственности. К чистой нравственности, сказал я; нравственность, к которой оно должно воспитывать, предстоит нам как нечто первое, независимое и самостоятельное, живет своей собственной жизнью из себя самой, а вовсе не будет привязана и привита к иному, не нравственному влечению, удовлетворению коего она и служит, как та законосообразность, утвердить которую в питомцах часто стремились прежде. Это воспитание есть обдуманное и верное искусство этого нравственного воспитания, сказал я. Оно идет вперед не без плана и не наудачу, но согласно твердому и хорошо ему известному правилу, и уверено в своем успехе. Его питомец в нужное время выходит из его школы подобно прочному и неизменному шедевру этого искусства, который и не может идти иначе, нежели как он был наставлен этим воспитанием, и который не нуждается более ни в каких подспорьях, но идет вперед сам собою, по собственному своему закону.
Хотя это воспитание образует и дух своего питомца; и это образование духа даже составляет в нем то первое, с чего оно начинает дело. И все же это духовное развитие не есть его первостепенная и самостоятельная цель, но лишь обусловливающее средство для сообщения питомцу нравственного воспитания. Между тем и это, приобретаемое лишь между делом, образование духа остается в жизни питомца его неистребимым достоянием и вечно горящим маяком для его нравственной любви. Сколь бы велика, или сколь ничтожна ни была сумма познаний, которую передаст ему воспитание: но во всяком случае оно сообщит ему дух, который во всю его жизнь способен будет постичь любую истину, познать которую ему понадобится, и который так же точно останется неизменно готов учиться у других, как и неизменно способен мыслить самостоятельно.
До этих пор дошли мы с Вами в прошлой речи в описании этого нового воспитания. В конце этой речи мы заметили, что при всех этих свойствах своих оно все же еще не закончено, но должно решить еще и другую задачу, отличную от описанной нами до сих пор; и теперь мы переходим к тому, чтобы более точно обозначить эту задачу.
Ведь питомец этого воспитания есть не только член человеческого общества здесь на земле, и на недолгий срок жизни, которую ему дано прожить на этой земле; он есть также, – и воспитание, без сомнения, также признает его в этом достоинстве, – звено в вечной цепи духовной жизни вообще, и подлежит высшему общественному порядку. Образование, взявшееся охватить все его существо, без сомнения, должно направить его также к познанию этого высшего порядка, и как оно руководило им в том, чтобы предначертать себе собственною своей самодеятельностью образ того нравственного миропорядка, который никогда не есть, но вечно должен быть, так же точно оно должно руководить им и в том, чтобы предначертать в своей мысли собственною своей самодеятельностью образ того сверхчувственного миропорядка, в котором ничто не становится и который сам также никогда не становится, но вечно лишь есть – начертать с той же самодеятельностью и так именно, чтобы он с совершенной ясностью понял и постиг, что иначе это и быть не может. Если им руководить правильно, он доведет до конца свои попытки начертать себе подобный образ, и в этом конце найдет, что поистине не существует ничего, кроме жизни, а именно – духовной жизни, живущей в мысли; и что все прочее не существует поистине, но лишь кажется существующим, и возникающее из мысли основание этой кажимости он при этом также постигнет, пусть даже только в общих чертах. Он поймет, далее, что эта единственно подлинно существующая духовная жизнь, – в ее многообразных обличьях, данных ей не силою случая, но по некоторому закону, основание которого заключено в самом Боге, – есть в свою очередь лишь Одна, именно – сама божественная жизнь, каковая божественная жизнь только и существует и извещается в живой мысли. Так он научится познавать и чтить свою жизнь как вечное звено в цепи откровения божественной жизни, и всякую другую духовную жизнь как такое же точно звено, и будет находить жизнь и свет и блаженство лишь в непосредственном касании Божества, и ничем не опосредованном истечении его жизни из Бога, а во всяком удалении из этой непосредственности видеть смерть, мрак и несчастье. Одним словом, это развитие образует в нем религию; и эта религия сопребывания нашей жизни в Боге[9 - См. «Наставление к блаженной жизни», речи первая, четвертая, десятая: «подлинная жизнь и блаженство жизни состоят в соединении с неизменным и вечным; вечное же можно охватить единственно и только мыслью… Итак, подлинная жизнь и блаженство ее состоят в мысли, т. е. в известного рода определенном воззрении на нас самих и на мир, как на происшедшие из внутренней и в себе сокрытой Божественной сущности… Источник жизни – в духе, в основанной на самой себе жизни мысли» (Фихте И. Г. Наставление к блаженной жизни. М., 1997. С. 15); «кроме Бога решительно ничто не существует поистине и в собственном смысле этого слова, не считая лишь знания; а это знание есть само божественное существование, прямо и непосредственно, и насколько мы суть знание, мы сами, в глубочайшем корне нашем, суть это божественное существование… Для блаженной жизни требуется, чтобы эта живая религия достигла по меньшей мере того, что укрепила бы в нас сердечное убеждение… в бытии нашем единственно в Боге и благодаря ему, чтобы мы по крайней мере всегда и непрерывно чувствовали эту связь и чтобы она… была… определяющим основанием всех наших мыслей, чувствований, движений и побуждений (Там же. С. 49–50).] должна, разумеется, господствовать в новое время, а потому ее надлежит старательно образовывать в эту эпоху. Религия же старого времени, отделявшая духовную жизнь от жизни божественной и умевшая придать первой некоторое абсолютное существование только посредством отпадения ее от божественной жизни, – отпадения, которое она примыслила этой духовной жизни, – и нуждавшаяся в Боге как в путеводной нити, чтобы после смерти бренного тела ввести эгоизм еще и в иные миры, и страхом и надеждой усилить в этих иных мирах эгоизм, оказавшийся слишком слабым для этого мира, – эта религия, бывшая, как всем ясно, служанкой эгоизма, должна быть, разумеется, погребена вместе с самим старым временем. Ибо в новое время вечность начинается не за гробом, но вступает в само настоящее, а эгоизм ныне уволен в отставку и из полка, и из войска, а потому уведет с собою и свою прислугу.
Воспитание подлинной религии есть, стало быть, последняя задача нового воспитания. Был ли питомец вполне самодеятелен, когда начертывал необходимый для такой религии образ сверхчувственного миропорядка, во всем ли правилен, и вполне ли ясен и понятен начертанный в его душе образ – это воспитание легко сможет оценить таким же образом, как и в отношении всех прочих предметов познания; ибо это также остается в области познания.
Но и здесь также более важен вопрос о том, как воспитание сможет оценить и удостовериться, что эти религиозные сведения не останутся мертвыми и холодными, но что действительная жизнь питомца будет их выражением? А этому вопросу нужно предпослать ответ на другой вопрос: как и каким образом религия вообще проявляется в жизни?
Непосредственно, в повседневной жизни и в благоустроенном обществе, для образования жизни религии вовсе не требуется, но для этих целей совершенно достаточно подлинной нравственности. В этом отношении, следовательно, религия не является практической, и она не может и не обязана становиться практической, но остается только познанием: Она всего лишь делает человека совершенно ясным и понятным для себя самого, отвечает на высший вопрос, какой он только может задавать, разрешает для него последнее противоречие и тем вносит в его разум совершенное единство с самим собою и всеобъемлющую ясность. Она есть его полное избавление и освобождение от всех посторонних уз; а в этом качестве воспитание и должно дать ему религию, как нечто такое, что ему безусловно и без всякой дальнейшей цели должно принадлежать. Религия получает такую область, в которой она должна действовать как мотив воли, только или в крайне безнравственном и испорченном обществе, или же там, где сфера действия человека находится не в пределах общественного порядка, но за его пределами и должна, скорее, непрестанно вновь создавать и поддерживать этот порядок, как то бывает у правителя, который во многих случаях совершенно не может добросовестно исполнять своей службы без религии. Когда мы говорим о всеобщем и рассчитанном на целую нацию воспитании, то о последнем случае речь идти не может. Там, где в первом отношении, вполне ясно постигая разумом неисправимость эпохи, тем не менее все же продолжают неустанно трудиться над ее исправлением; там, где мужественно выносят труд и пот посева без какой-либо надежды на урожай; где благотворят даже неблагодарным, и благословляют дарами и поступками проклинающих нас, и предвидя со всею ясностью, что они вновь станут проклинать; там побуждает к этому не одна лишь нравственность, ибо нравственность желает некоторой цели, но только религия – самоотверженная преданность высшему закону, нам неизвестному, смиренная немота пред Богом, сердечная любовь к Его зародившейся в нас жизни, которую только и нужно спасать и спасать ради нее самой, там, где наш глаз не видит ничего иного достойного спасения.
Таким образом, религиозное ведение, полученное питомцами нового воспитания, не может, да и не должно, становиться практическим в том их малом общежитии, в котором они первое время росли. Это общежитие благоустроено, и в нем умело начатое всегда увенчается успехом; а к тому же в этом, еще нежном возрасте, в человеке нужно сберечь его непосредственность и спокойную веру в человеческий род. Познание его козней и коварства пусть придет на собственном опыте, в зрелом и устоявшемся возрасте жизни.
А потому лишь в этом более зрелом возрасте, и в жизни в серьезном смысле слова, когда воспитание давно уже предоставит его себе самому, могут пригодиться питомцу этого воспитания полученные им религиозные сведения как мотив воли, в случае, если его положение в обществе возвысится от первоначальной простоты до более высоких ступеней. Как же теперь воспитание, которое не может испытать питомца в этом предмете, пока тот остается в его руках, может быть тем не менее уверено, что, стоит только явиться подобной потребности, этот мотив тоже непременно подействует? Я отвечаю: потому, что его питомец вообще образован таким, что никакое имеющееся у него познание не остается в нем мертвым и холодным, если оказывается возможность придать ему жизни, но каждое необходимо тут же вторгается в жизнь, как только оно потребуется для жизни. Сейчас я намерен еще глубже обосновать это утверждение и тем самым возвысить все то понятие, о котором мы говорили с Вами в этой и прошлой речи, и включить его в более обширную целокупность познания. Это понятие прольет новый свет и придаст больше ясности самой этой обширной целокупности познания, после того как я укажу Вам сперва со всей определенностью подлинную сущность нового воспитания, общее описание которого мною было только что завершено.
Это воспитание уже не представляется нам, как в начале нашей сегодняшней речи, просто как искусство образования в питомце чистой нравственности, но нам становится совершенно ясно, что оно есть искусство образования всего человека, вполне и совершенно как человека. Для этого необходимы два основных элемента: во-первых, относительно формы – чтобы в образовании возникал действительный живой человек, вплоть до самых корней его жизни, а вовсе не одна лишь тень и схема человека; а затем, относительно содержания – чтобы образование сообщалось всем необходимым элементам человека равномерно и без исключения. Эти элементы – разум и воля; и воспитание должно иметь в виду, как свою цель, ясность первого и чистоту второй. Но, чтобы достичь ясности разума, нужно поставить два вопроса: Во-первых, чего именно желает в сущности чистая воля, и какими средствами этого желаемого можно достичь? Этот основной элемент включает все прочие познания, которые мы должны сообщить питомцу. И во-вторых, что такое сама эта чистая воля в ее существе и основании? Этот вопрос включает познание религии. И вот этих, названных теперь элементов, которые были бы развиты вплоть до вмешательства их в жизнь, воспитание требует безусловно и не намерено увольнять кого бы то ни было даже и от малейшей части их – ибо каждый должен именно быть человеком. Чем кто-то станет еще кроме этого, и какой особенный облик примет или получит в нем всеобщая человечность, – об этом общее воспитание нисколько не беспокоится, и это находится за пределами сферы воспитания. Теперь я перейду к обещанному мною выше более глубокому обоснованию того положения, что в питомце нового воспитания ни одно познание не может остаться мертвым, и к выяснению той взаимосвязи, в которую я намерен возвысить все мною сказанное, и этот переход я совершу через посредство следующих положений.
1). Вследствие вышесказанного, существует два совершенно различных и друг другу полностью противоположных класса людей в отношении их образования. Прежде всего, все существа, что носят имя человека (а значит и эти два класса людей), равны друг с другом в том, что в основе многообразных проявлений их жизни лежит влечение, пребывающее неизменным во всех переменах и остающееся всегда тождественным себе самому. – Заметим здесь между прочим: когда это влечение понимает само себя и переводит это понимание себя в понятия, рождается мир, и нет иного мира, кроме этого, рождающегося именно таким образом в мысли (однако отнюдь не свободной, но необходимой мысли). Это влечение, неизменно подлежащее переводу в некоторое сознание (и в этом оба класса людей опять-таки равны друг с другом), может быть переведено в такое сознание двояким образом, соответственно двум различным основным видам сознания, и этим способом перевода и понимания самого себя эти два класса и различаются.
Первый основной вид сознания, во времени развивающийся раньше всех – это сознание смутного чувства. Это чувство, всего обыкновеннее и как правило, постигает основное влечение как любовь индивида к себе самому, причем смутное чувство дает нам эту самость поначалу лишь как такую, которая хочет жить и благоденствовать. Отсюда возникает чувственный эгоизм, как действительный основной мотив и сила развития подобной жизни, приверженной такому переводу своего изначального основного влечения. Пока человек продолжает понимать себя таким именно образом, до тех пор он вынужден действовать эгоистически, и иначе поступать не может; а этот эгоизм есть тогда единственное пребывающее, тождественное себе и наверное ожидаемое содержание в непрерывных переменах его жизни. В виде чрезвычайно редкого исключения из правила, это смутное чувство может и выскочить за границы личной самости и постичь в таком случае основное влечение как тоску по смутно чувствуемому иному порядку вещей. Отсюда возникает жизнь, которую мы достаточно полно описали в другом месте, которой, возвысившейся над эгоизмом, движут идеи, – хотя смутные, но все же идеи, – и которой правит разум как инстинкт. Это постижение основного влечения вообще только смутным чувством составляет основную черту первого класса людей, который образуется не воспитанием, но сам собою, и каковой класс в свою очередь включает два подвида, разделяемых непостижимым, человеческому искусству решительно недоступным основанием[10 - «Первый, самый низший, поверхностный и спутанный способ восприятия мира есть тот, при котором мы считаем миром и действительно сущим то, что дается внешним чувствам, считаем это высшим, подлинным и для себя существующим… Второе воззрение, рождающееся из изначального дробления возможных мировоззрений, есть такое, когда мир постигают как закон порядка и равного права в системе разумных существ… Закон… есть для этого воззрения нечто подлинно реальное и для себя самого существующее, – то, с чего начинается мир и в чем заключается его корень… реальность и самостоятельность человека доказывается лишь царящим в нем нравственным законом и… лишь благодаря последнему человек становится чем-то сам по себе» (Наставление к блаженной жизни. С. 65, 66, 67).].
Второй основной вид сознания, который, как правило, не развивается сам собою, но должен быть тщательно выпестован в обществе, это ясное познание. Если бы основное влечение человечности постигалось в этой стихии, то это давало бы нам второй класс людей, совершенно отличный от первого. Подобное познание, обращающееся и на саму основную любовь человека, не оставляет его, как то очень даже может быть при познаниях иного рода, холодным и безучастным, но предмет такого познания мы любим больше всего на свете, ибо ведь предмет этот есть лишь истолкование и перевод самой нашей изначальной любви. Другое познание обращается на чуждое нам, и оно остается чужим и оставляет нас холодными; это познание обращено на самого познающего и его любовь, и он любит его. Несмотря на то, что обоими классами людей движет одна и та же изначальная любовь, только являющаяся в разных обличьях, – мы все же можем сказать, отвлекаясь от этого обстоятельства, что там человеком движут смутные чувства, здесь же – ясное познание.
Станет ли подобное ясное познание непосредственной мотивирующей силой в жизни, и можем ли мы уверенно рассчитывать на то, что так и будет, – это, как мы сказали, зависит от того, чтобы это познание истолковало человеку именно его действительную и подлинную любовь и чтобы ему стало также непосредственно ясно, что это именно так, и одновременно с истолкованием в нем пробудилось и дало себя знать чувство этой любви, чтобы поэтому в нем никогда не развивали познание, не развивая в нем в то же самое время любви, – ибо в противном случае он останется холоден к такому познанию, – и никогда не пробуждалась в нем любовь, которой бы не сопутствовало развитие познания, – ибо в противном случае его мотив обратился бы в смутное чувство; чтобы поэтому каждый шаг его образования образовывал в нем цельного единого человека. Человек, которого воспитание видит именно таким, как некое неделимое целое, останется таким и впоследствии, и всякое познание необходимо станет для него живым мотивом.
2). И если, вместо смутного чувства, мы сделаем самым первым в человеке, подлинной основой и исходным пунктом его жизни ясное познание, то тем самым мы совершенно минуем эгоизм и перехитрим его, не дав ему даже развиться. Ибо только смутное чувство дает человеку его самость как такую, которая нуждается в удовольствии и боится боли; но ясное понятие дает ему совсем иную самость, оно показывает ему его самость как звено нравственного миропорядка, и есть любовь к этому порядку, которая воспламеняется в нем и развивается одновременно с развитием этого понятия. С эгоизмом это воспитание не имеет решительно ничего общего, потому что оно подавляет ясностью познания самый корень эгоизма – смутное чувство; оно не оспаривает его и не развивает его – оно ничего о нем не ведает. Если бы возможно было этой страсти все-таки пробудиться в сердце впоследствии, она нашла бы сердце преисполненным высшей любви, так что ей не осталось бы места.
3). Это основное влечение человека, когда оно переводится в ясное познание, обращается не на данный и наличный уже мир, который ведь мы можем принимать только пассивно, таким, как он есть, и в котором любовь, побуждающая нас к изначально-творческой деятельности, не нашла бы себе области приложения; но это влечение, усиленное до познания, обращается на мир, который должен быть, априорный мир, такой, который есть будущий мир и вовеки остается будущим. Поэтому божественная жизнь, лежащая в основе всех явлений, никогда не вступает в мир как пребывающее и данное бытие, но лишь как нечто такое, что должно быть, и после того как станет в мире подобное нечто, которое должно было быть, она опять вступает в мир как то, что должно быть, и так продолжается вечно. Поэтому эта божественная жизнь никогда не вступает в смерть пребывающего бытия, но всегда остается в форме вечно текучей жизни. Непосредственное явление и откровение Бога есть любовь; только истолкование этой любви в познании предполагает бытие, причем такое, которое вовек лишь должно быть, и предполагает это бытие как единственно истинный мир, насколько вообще в мире может быть истина. Второй же, данный и находимый нами в этом качестве данного мир есть лишь тень и схема, из которого познание созидает прочный облик и зримую плоть своему истолкованию любви; этот второй мир есть средство и условие наглядной данности высшего мира, который сам по себе невидим. Бог не вступает непосредственно даже и в этот последний, высший, мир, но и здесь это его явление всегда опосредуется единой, чистой, неизменной и не имеющей вида любовью, в каковой любви он только и является непосредственно. К этой любви прибавляется созерцающее познание, дающее из самого себя тот образ, в который оно облекает, сам по себе невидимый, предмет любви; однако любовь всякий раз оспаривает его, и потому увлекает его все к новым обличьям, но и их опять-таки любовь так же точно принять не может. И только поэтому любовь, которая сама по себе Одна и вовсе не знает текучести, вечности и бесконечности, также становится в этом своем слиянии с созерцанием вечной и бесконечной, подобно ему. Упомянутый мною только что образ, заимствованный из познания, – если рассматривать его сам по себе, еще не применяя его к отчетливо постигнутой любви, – есть пребывающий и данный мир, или природа. Иллюзия, будто в эту природу каким-либо образом непосредственно, и не через посредство указанных промежуточных звеньев, вступает сущность Божества, возникает от помрачения духа и несвятости воли.
4). И вот, чтобы смутное чувство, как вызывающее любовь средство, совершенно и как правило миновали, чтобы на его место встало ясное познание, и чтобы именно оно уже вызывало отныне обыкновенно любовь человека, – этого, как мы уже упоминали, можно добиться лишь с помощью обдуманного искусства воспитания человека, а этого до сих пор не происходило. Поскольку же, как увидим, этим последним способом создается род людей, совершенно отличный от обычных людей прежнего времени, и именно его полагают теперь правилом воспитания, такое воспитание, разумеется, послужит началом совершенно новому порядку вещей и новому творению. Человечество само создаст себя самое в этом новом обличьи, именно тем, что само, старанием нынешнего поколения, станет воспитывать себя, как будущее поколение, таким именно образом, как оно только и может это сделать: через посредство познания, – того единственного, что обще всем и всем свободно сообщается, и что есть подлинно воздух и свет духовного мира, связующий этот духовный мир в единство. До сих пор человечество становилось тем, чем оно становилось и стать могло. Этому случайному становлению пришел конец. Ибо там, где развитие человечества пошло всего дальше, там человечество обратилось в совершенное ничтожество. Если оно не должно остаться в этом ничтожестве, то ему надлежит отныне самому сделать себя всем, чем оно еще должно стать. Подлинное назначение человеческого рода на земле, – как я сказал в чтениях, которым эти речи служат продолжением, – заключается в том, чтобы свободно сделать себя тем, чем оно, в сущности, является изначально[11 - «Цель земной жизни человечества состоит в том, чтобы в этой земной жизни оно свободно устроило все свои отношения в соответствии с разумом… Эта свобода должна явиться в совокупной жизни человечества, и выступить в его жизни как его собственная свобода, как подлинное действительное деяние, и как порождение рода» (Основные черты современной эпохи. S. 11). «Но весь путь, который… проходит здесь человечество, есть не что иное, как возвращение в ту точку, в которой оно находилось уже в самом начале, и не имеет в виду ничего, кроме возврата к его истоку. Только человечество должно пройти этот путь своими собственными ногами; оно должно собственной своей силой вновь сделать себя тем, чем оно было без всякого своего сознательного содействия; и поэтому оно должно было перестать быть этим» (Ibid. S. 15).]. И вот это самосозидание, совершающееся в общем обдуманно и согласно некоторому правилу, должно однажды начаться где-нибудь и когда-нибудь в пространстве и времени, и тогда вместо первого раздела несвободного развития человеческого рода наступит второй раздел – свободного и обдуманного его развития. Мы полагаем, что в отношении времени это время настало именно теперь, и что ныне человечество стоит поистине в середине своей жизни на земле – между двумя основными эпохами своей истории. В отношении же пространства мы полагаем, что немцам, прежде всех прочих, следует вменить в обязанность начать собою новое время, предвосхищая и прообразуя его собою для всех прочих народов.
5). Однако даже и это совершенно новое творение совершится не каким-нибудь скачком из прежнего творения, но будет подлинно естественным продолжением и следствием прежнего времени, в особенности среди немцев. Ведь все стремления и побуждения нашего времени были явно и, я думаю, вполне общепризнанно направлены к тому, чтобы изгнать из жизни смутные чувства и утвердить господство только ясности и познания. И это стремление вполне достигло желаемого, поскольку оно вполне обнаружило перед всеми прежнее ничтожество. Это влечение к ясности теперь отнюдь не следует искоренять, и тупое пребывание в смутных чувствах не должно опять добиться господства; это влечение следует только развить еще более и ввести его в высшие сферы, так чтобы после разоблачения ничтожества для всех стало столь же очевидно и нечто, – утверждающая и действительно нечто полагающая истина. Возникающий из смутного чувства мир данного и собственной силой себя создающего бытия погиб, и должен погибнуть; возникающий же из изначальной ясности мир вечно рождающегося в духе бытия должен воссиять и явиться во всем своем блеске.
Пусть пророчество о новой жизни в подобной форме покажется в наше время странным, и наше время едва ли найдет в себе смелость усвоить это предсказание, если только заметит громадную дистанцию, которая отделяет господствующие в нем мнения о только что названных мною предметах от того, что мы выразили здесь как принципы нового времени. Не буду говорить, как об очевидно худшем, о том образовании, которое однако получали до сих пор, как правило, только высшие сословия, словно некую оберегаемую от простонародья привилегию, и которое совершенно умалчивало о сверхчувственном мире и стремилось развить в учениках только некоторую ловкость в делах мира чувственного. Рассмотрю лишь то воспитание, которое было образованием народа, и которое в известном, весьма ограниченном, смысле можно было бы назвать и национальным воспитанием, которое не вовсе хранило молчание о сверхчувственном мире. Каковы были учения, сообщаемые этим воспитанием? Если мы утверждаем здесь, что первейшая предпосылка нового воспитания заключается в том, чтобы в самом корне человека было утверждено чистое благорасположение к добру, и чтобы это благорасположение можно было развить в нем настолько, что для человека будет невозможно не делать того, что он признал добрым, и вместо того делать то, что он признал злом; то прежнее воспитание не просто предполагало, но и самой ранней юности поучало своих питомцев, отчасти, что человеку присуще естественное отвращение к исполнению заповедей Божиих, а отчасти, что исполнить их ему абсолютно невозможно. И если теперь каждый смирится со своей природой, раз уж с ней ничего нельзя поделать, не пытается сделать то, что, как ему объяснили, для него невозможно, и не желает быть лучше, чем он все прочие быть способны; и если он даже доволен собой в этой приписываемой ему низости, признает сам себя в своей радикальной греховности по природе дурным, коль скоро эту подлость пред Богом ему представляют как единственное средство примирения с Богом, – и если там, где достигнет его слуха утверждение, подобное нашему, он не может подумать ничего иного, кроме того, что говорящий хочет просто неудачно пошутить, потому что и он тоже во всякое время чувствует в душе и с наглядностью ощущает, что это неправда и что единственно истинно противоположное утверждение, – то чего же еще можно ожидать от подобных поучений, если только ученики принимают их всерьез и вполне им верят? Если мы допускаем, что существует познание, совершенно независимое от всякого данного бытия и само дающее закон этому бытию, и если мы хотим погрузить в это познание каждое человеческое дитя с самого же начала, и постоянно удерживать его отныне в области этого познания, свойства же вещей, подлежащие сугубо историческому заучиванию, рассматриваем как нечто маловажное и второстепенное, что приходит само собою, – перед нами выступают самые спелые плоды прежнего воспитания и напоминают нам, что ведь, как всем известно, никакого априорного познания вовсе нет, и что они бы очень хотели узнать, как же это можно познавать иначе чем на опыте. А чтобы этот сверхчувственный и априорный мир не обнаружился даже и в том месте, где проявления его, казалось, никак невозможно избежать, – в возможности познания о Боге, и чтобы духовная самодеятельность не возвышалась даже и к Богу, но везде и повсюду была все та же пассивная преданность – прежнее образование людей изобрело против этой угрозы рискованное средство: оно превратило бытие Божие в исторический факт, истина которого устанавливается путем допроса свидетелей.
И правда, все это действительно так; однако пусть наша эпоха из-за этого не впадает в отчаяние о своем будущем. Ибо сами эти явления, как и все прочие подобные им, не суть нечто самостоятельное, но суть лишь цветы и плоды дикорастущего корня прежнего времени. Пусть только эпоха спокойно даст привить себе новый корень, более благородный и могучий, чем прежний, – и старый корень умрет, а цветы его и плоды, которым от него уже не будет поступать питательных соков, сами собою увянут и опадут. Теперь эпоха еще вовсе не способна поверить нашим словам, и они, совершенно необходимо, представляются ей пустыми сказками. Да мы и не хотим, чтобы она нам поверила; мы хотим себе только простора для творчества и действия. Впоследствии она увидит – и тогда поверит собственным своим глазам.
Так, например, кто-нибудь, кто знаком с изделиями последнего времени, давно уже, вероятно, заметил, что здесь мы вновь высказываем положения и воззрения, которые проповедовала, и все проповедовала, новейшая немецкая философия с самого своего возникновения, ибо она именно ничего больше не умела, как проповедовать. Теперь уже достаточно ясно, что эти проповеди отзвучали и затихли в пустоте, не принесши плода, как ясно и то, почему они должны были умолкнуть столь бесплодно. Живое может воздействовать лишь на живое; но действительная жизнь нашего времени ни в чем не сродна этой философии, – ведь эта философия подвизается в такой сфере, который нашему времени еще вовсе не открылся, и требует органов чувств, которые у этого времени еще просто не выросли. В этой эпохе она совсем не дома, она – предвосхищение времени и уже заранее готовая стихия жизни поколения, которое должно увидеть свет дня лишь в этой стихии. От нынешнего поколения она должна отречься, но чтобы до этих пор она не оставалась без дела, пусть она возьмет на себя задачу образования того поколения, к которому она принадлежит. Лишь когда она уяснит себе это свое ближайшее занятие, она сможет мирно и дружественно сосуществовать с поколением, которое ей, вообще-то, не нравится. Воспитание, которое мы до сих пор описывали, есть в то же время и воспитание к этой философии; а в известном смысле, только она может быть воспитательницей в этом воспитании; и таким образом, ей приходится опережать свою собственную понятность и приемлемость. Но придет время, когда ее поймут и с радостью примут; и потому пусть наша эпоха не впадает в отчаяние о своем будущем.
Пусть эта эпоха услышит слово о видении древнего пророка, видении, подразумевающем, конечно, не менее прискорбное положение человечества. Так говорит провидец у потока Ховар, утешитель пленных не в своей, а в чужой стране: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, – и обвел меня кругом около них, и вот, весьма много их на поверхности поля, и вот, они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! Оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! Слушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею и введу в вас дух, – и оживете, и узнаете, что Я – Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне: и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище»[12 - Книга пророка Иезекииля, 37, 1–10.]. Пусть элементы нашей высшей духовной жизни лежат вокруг, такие же иссохшие, и потому именно узы нашего национального единства, разорванные, в диком беспорядке и как попало разбросаны вокруг нас, подобно мертвым костям у пророка: пусть за многие столетия они побелели и совсем иссохли под бурями, ливнями и жгучими лучами солнца; но все еще веет на них живительное дуновение духовного мира. Проникнет оно и мертвые останки нашего национального тела, и сдвинет их воедино, и величаво восстанут они к новой и просветленной жизни.
* * *