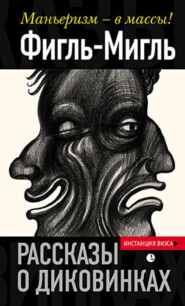скачать книгу бесплатно
Когда нет любви, просыпается любопытство. Сразу замечаешь все эти шарфики-плащики, и лица, и выражение глаз. В зависимости от погоды и времени года большее или меньшее число людей находит в себе силы смотреть по сторонам. Кто-то даже улыбается и смотрит с ответным интересом. Это меня смущает; я не готов к отношениям, даже если это обмен взглядами на улице.
Именно те ружья, которые никогда не стреляют, постоянно таскают из пьесы в пьесу. Я – хорошее ружье. Переживания мужчин мне так же мало доступны, как и переживания женщин. Вот поэтому я с равным успехом могу описать и то и другое, будет очень правдоподобно. Ну ты меня удивляешь. Правдоподобие – главная ценность не только в литературе. Правда никому не нужна, а фальшь никто не любит.
«Если добродетель никак не вознаграждает, ищешь утешения в объятиях порока». Коллекцией чужих умных мыслей у меня забит ящик стола. Несколько сотен бумажных клочков, эрзац-мудрость всемирной литературы. Помогла ли? А тебе помогла? А почему мне должна была помочь?
Есть ещё один аспект. Если человек по брезгливости бегает от проституток, это означает только то, что рано или поздно он нарвётся. Что с ним сделает такая Сонечка Мармеладова – вообразить страшно. Насчёт того, чтобы пережить… Те, кто пережил, не рассказывают. Они обычно молчат. Даже если живы. Что тоже достижение. Любовь закончилась, а тебя ещё осталось. Где-то на донышке. Ползаешь, ползаешь, собираешь себя из обломков. Какие-то обломки, в общей куче мусора, попадутся явно не твои. Вокруг потом радуются: совсем другим стал человек. Ещё бы, тут таким другим станешь. Alien forever[4 - Чужой навсегда (англ.).].
Ненавижу своих ровесников. Люблю тинейджеров и стариков. Одни ещё, другие уже, те и другие – вне жизни. Вне этой пакости, три раза shit.
Почему я ругаюсь? Нет, я ещё не ругаюсь. Слово «дерьмо» не ругань, это классика. Ждёшь всего остального? А вот всё остальное давно не модно, а я – модный писатель. Я когда свою рожу в зеркале вижу, меня распирает. Нет, не всегда, но через раз и по крайней мере ежедневно. Какие сомнения, если так распирает, должна быть причина. Я не знаю физики, химии, высшей математики, обычной тоже, в объеме школьной программы, и очень плохо знаю астрономию и ботанику – ну так просто, чтобы пальцем ткнуть в Ковш или полынь обыкновенную. У меня за плечами самый попсовый факультет самого попсового высшего учебного заведения в городе. И после всего этого я не писатель? Кто же тогда писатель, Брокгауз и Эфрон, что ли? Да, ПК я тоже никак. Всё, что пишу, печатаю на машинке. В некоторых издательствах скоро перестанут брать. Из-за машинки, понятно.
Чего ты ждёшь, ты мне можешь сказать? Я не могу быть полезен тогда, когда тебе это нужно. Я не отвечаю за тех, кто меня приручил. Жизнь не кончается там, где начинаются воспоминания. Тебе достаточно? Я что, фабрика по производству афоризмов? А, литература! Напишет интеллигентная дамочка роман о судьбах младших научных сотрудников или что-нибудь из жизни бомжей – никакой разницы. Дамочка одна и та же, все младшие сотрудники и бомжи на одно лицо. Она тоже, как я, не знает физики и химии, тоже этим гордится. Тоже старается не писать о себе: не модно, а может, противно. Ну и гонит о бомжах, хотя сама боится выйти на улицу после одиннадцати часов вечера, просто выйти на улицу, к ларьку за сигаретами. Уж лучше я буду писать о себе. Можно и о себе, если понемногу. В конце концов, я более чем нетипичен. На моем горьком опыте подрастающее поколение сможет научиться. Я тоже думаю, что не будут. Но они мне всё равно нравятся. Мозгов совсем нет, и сила духа необыкновенная. Мне нравится, как они говорят, одеваются, двигаются. Мне нравится, что они весёлые и им наплевать на литературу, писателей и лично на меня. Совершенно верно, я слушаю их музыку, которую ты ненавидишь.
Всё-таки я проиграл ящик пива. Патриотизм, чего ты хочешь. Его, его звериное рыло. Да не жаль мне этого пива. Мне жаль Филимонова. Мне всегда жалко вратарей и ещё тех, кто не забивает решающий пенальти. При условии, конечно, что я за них болею. А когда играют те, за кого я не болею, я вообще не смотрю.
Хочу дом в Крыму. Хочу жить на чердаке – это уже здесь, в городе. Много света, хорошо видно. Адмиралтейская набережная, мне кажется, очень неплохое место для жизни. Этот вид, эта плавно текущая вода, всегда одна и та же. Говорят, сейчас, когда половину заводов закрыли, вода в Неве и во всём остальном стала чище. Не думаю, что она стала чище в Обводном канале тоже, не могу поверить. Обводный канал – это Обводный канал.
А с Адмиралтейской набережной виден, помимо прочего, университет. Буду сидеть на чердаке и смотреть на лучшие годы своей жизни. Боже, ведь это была моя жизнь. Только полюбуйся, что от неё теперь осталось.
Это потому, что мне скоро тридцать лет. Вот не мечталось, что в тридцать лет буду чувствовать себя таким недоделком. Я тут наводил справки, все говорят то же самое. А в сорок, говорят, уже на всё положить, хотя никто из них не верит, что жизнь прошла. Я в золотые годы так и думал, что в сорок сдохну, всё испытавшим и жутко мудрым. Верно, тупица. Теперь надеюсь дотянуть до семидесяти, а то и больше. Стариком быть так хорошо, так красиво. Буду злющим старым стариком и домовладельцем. Буду всех колотить своей толстой палкой. Да, надеюсь, будет кого.
У Мэрилина Мэнсона новый клип. Мэнсон в костюмчике, в галстуке, ненакрашенный. Рассылает из машины воздушные поцелуи. Потом его убивают, как президента Кеннеди. Его убивают, машина продолжает ехать, народ продолжает ликовать. Прелесть.
Мне нравится этот мир, в нем столько интересного. Бега и бильярд, убийства и пародии на них. Да, и что же я говорил? Это когда? Не говорил. Если и говорил, в виду имел что-то совершенно другое. Не пытайся поймать меня на слове. Поймаешь за руку – будет другой базар.
Ну что ты дуешься, съешь таблеточку. Тебе станет лучше, отвечаю. Ещё про Крым? Охотно, охотно. Только, пожалуйста, не делай выводов. Никогда не делай выводов из моих слов. Мне за них платят деньги.
Сентябрь; дети идут из школы, я – на пляж. Мы встречаемся на пересечении двух улиц, с разных сторон огибающих холм. На холме гуляешь вечером, если не очень пьяный и если там не гуляют коровы. Ночью выходишь во двор пописать, и небо остро блестит – прямо в глаза. Полынь пахнет, ветер дует. Море… нет, больше не могу. Будем считать, что море пересохло.
Всё же мне интересно, о чём ты думаешь? Твои мысли. Какая-нибудь дрянь, наверное, все твои мысли, а я. Только этим и занимался: всё думал, думал, о чём же ты думаешь. Так ничего и не понял. Твоя душа? Ах, твоя душа. Не знал, что она у тебя есть. Ну извини. Forgive me! Я многого не знаю.
Ну что же. Футбол – как жизнь, он никогда не кончается. За кого буду болеть? Не знаю, ещё не решил. Надо запастись деньгами на пиво, потому что все, за кого я болею, всегда проигрывают. Все, кого я люблю, оказываются дерьмом. Ну, не надо так расстраиваться. Я-то знаю, с кем путаюсь. А вот с кем путаешь меня ты?
Между пугалом и куклой (центон)
Сочинитель просто одетый, с кротким видом, с книжкою в руке… прихотливый в своих заблуждениях… всегда ищущий собственных кривых путей… очень увлекавшийся тонкими рассуждениями о ничтожнейших предметах… и эти предметы мечтаний приобретали в конце концов такую осязательность, что он приходил в отчаяние, как будто утратил их… Жизненных сил у него было ровно столько, сколько нужно, чтобы страдать от суеты… Как-то этот мерзавец не вылезал из постели три дня подряд. И он был здоров – не мог вынести встречи с окружающим миром, только и всего… Его ничуть не интересовал этот скучный и одновременно опасный мир, который не мог предложить ему ничего ценного и от которого он даже не знал, чего хотеть… Предоставив событиям идти своим чередом, сам он бездействовал и всё больше замыкался в себе, ибо то необычное, что вокруг него творилось, было ему несносно и в большом, и в малом…
Жить и умереть в родном доме казалось ему известным протестом против духа времени… Он так долго об этом размышлял, что уже начал это проповедовать… Он разговаривал сам с собой в углу. Он старался сдерживаться… К чести его можно сказать, что фразы его звучали бы совершенно ясно, если бы ясными были хоть изредка его мысли… Он был очарован тем, какие они у него получались красивые…
Он имел то, что французы называют а plomb и что по-русски не иначе можно пере-весть как смешение наглости с пристойностью и приличием… Злословил он постоянно. Но это не мешало ему к кому-то действительно хорошо относиться, хвалить тех, кого он любил, и охотно делать им одолжения… то ли потому, что он сам ослеплён, то ли потому, что считает слепыми других… Я, видите ли, человек независимый, – говорил он. – Почему от меня требуют, чтобы я сегодня думал то же самое, что я думал полтора месяца назад? Если бы это было так, то моё мнение было бы моим тираном… Кроме того, он вообще обращал мало внимания на окружающих, даже когда перечил им…
Как только с ним заговаривали о его работе и особенно как только его самого просили рассказать о ней, он терял самообладание… Он просто был неукротимый, до раздражительности откровенный поэт, которого противоречия доводили до крайности, и который столько же был неспособен скрывать свои мнения, как и принимать чужие… Он не умел себя укрощать, и потому его жизнь растеклась и растаяла так же, как его поэзия… Никакие успехи не смягчали его гордости; бесчисленные неудачи не могли никогда его образумить… Славе его недоставало только Рима и Тита Ливия…
От русского поэта у него было только одно качество – лень… Как всякий заядлый лентяй, он пуще всего любил болтаться и трепаться там, где люди более или менее работают… и жил довольно счастливо, как все учёные педанты, хотя нельзя сказать, чтоб очень весело или разнообразно…
Со скуки мы подружились…
Он любил книги, но только не тех писателей, у кого была рука настоящего мастера, а тех, кто набил себе руку… Он всегда говорил, что своих советов слушаться не будет, потому что знает им цену… Он учил меня, что спокойствие – это только способность быть ко всему на свете готовым… Мне его мысли показались настолько нелепыми, а изложение настолько высокопарным, что я тотчас подумал о писательстве и спросил, почему он всё это не напишет… и сохранит для потомства, которое, конечно, благодарнее современников, завистливых, строгих и вовсе неспособных ценить дарования…
Всё время приходится выбирать между здоровьем и благоразумием с одной стороны и духовными радостями – с другой… Когда я анализировал собственные поступки, у меня являлась мысль, что интеллектуальные натуры менее других способны противостоять страстям, когда эти страсти просыпаются в них, и это, вероятно, объясняется тем, что у таких людей нормальная связь между действием и мыслью нарушена… Каждый, к кому я приходил наниматься на работу, сразу видел, что в действительности мне было плевать, получу я её или нет… Если я научусь расставлять словесные ловушки, то это избавит мои ноги от напрасного хождения… И может статься, что я удовольствуюсь подражанием только Амади-су, который без всяких вредных сумасбродств, одними лишь своими слезами и чувствами, стяжал себе такую славу…
Я лёг в постель. Сердце, душа, всё во мне превратилось в какой-то пчелиный рой, жужжащий, жалящий и беспокойный; я спал недолго и часто вскакивал во сне… Казалось бы, здравый смысл подсказывает, что нынче, когда эпоха расцвета человеческого гения клонится к закату, людям следует как можно больше читать и как можно меньше писать, но… область полномочий здравого смысла в жизни до смешного мала… поэтому люди читают мало, а пишут очень много…
Надобно, чтобы наперёд ты сам себя уверил, что ты великий муж, потом смело возвести об этом: одни по рассеянности, другие по лени поверят тебе, а когда и очнутся, то дело уже сделано, законность твоих притязаний всеми признана… Эти мечты напоминали мне, что раз я хочу быть писателем, то пора решить, о чём писать… Что касается самой книги, то, по правде говоря, я ещё не написал ни строчки. Но я уже много над ней поработал. Каждый день я беспрестанно думаю о ней…
Так я построил для себя мир, довольно причудливый и странный… Теперь моему падению рукоплескали, считая, что такова моя манера развлекаться… Некоторые осудили мой метод; а те, кто хвалил меня, поняли меня ещё меньше, чем все другие… Быть может, это так и нужно; но чему же тут радоваться?..
Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Всё увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию, на прошлой неделе, сороковое письмо за два года послал. Характер у меня скверен, вот что…
Но всё же, по возможности, мы должны стремиться пробудить у этих болванов жажду подлинных знаний.
Направление движения
Всё это нарастает постепенно. Ты начинаешь разговаривать сам с собой. Потом – пить в одиночестве. Потом – дрочить, даже когда есть возможность поехать или призвать. И когда приходит время философических бесед с телевизором, ты понимаешь, что адекватные реакции не вечны и нужно срочно пить транки.
После транков прекрасно спишь и рот открываешь только для того, чтобы почистить зубы. Искренность, дружелюбие, чувство приязни… Три основополагающих слова уже сказаны миру. Мир – понял, не понял, но отвернулся. Это только тебе кажется, что оскорблённо.
Транки великолепны и сами по себе, но сочетание с алкоголем делает их неотразимыми. Золотые сны о золотой стране: кусок того, кусок сего, границы размыты, всё зыбко, отчётлив только фон: вечное, безапелляционное великолепие. Сны, страны, безобразная земля. Где поставить ударение? Да какая разница.
До чего всё просто, но как обидно: простое полюбил только потому, что когда-то в начале карьеры слишком любил сложное. В начале карьеры всё это было – текучее, струящееся, красивое, невразумительное, упоительное, – нет чтобы сказать: дождь идёт, часы идут, жизнь проходит. Самые скудные слова прикрывают самые пышные чувства.
Я рассматриваю свой глобус. Мечты плывут разноцветными пятнами: где-то там есть влажные побережья, тучные равнины, пустынные плоскогорья, мозаика ландшафтов, столбовые дороги цивилизации, единственный в мире жёлтый, коричневый обрыв над невидимым морем. Он пуст, на нём есть место для белого дома с колоннами, но никакого дома там никогда не будет.
Часовые пояса. Ненаучное движение солнца по небу. Между Москвой и Камчаткой девять часов и десять тысяч километров. Между Камчаткой и Аляской шестьсот километров и двадцать четыре часа. Что за дела, откуда они берутся, эти лишние часы на такое скромное число километров. Что-то там пролегает, через Берингов пролив. Сколько раз мне объясняли – я всё равно ничего не понял. Вот она, реальность – всё та же самая условность. Километры всё же менее условны, чем время. Они думают, я прикалываюсь.
В текущей жизни обходишься тремя основополагающими словами. В жизни химер также присутствует устоявшийся набор слов: блеск, печаль, томный, героический, строгий. Ну ещё, конечно, нежный. Любимый эпитет и, поверьте, всеобъемлющий – и к закату можно прилепить, и к человеку, и к дыханию оттепели. У людей, закатов и оттепелей столько общего; главное, смотреть на них под правильным углом. С единственно верной моей точки зрения. Георгий Иванов тоже очень любил это слово. Как же когда-то чувствовали негу – а потом всё, конец. Чувство умерло, эпитет остался. Могила не осталась безымянной. Вот и носишь к ней цветы, до одурения.
Не хотелось мне писать о Георгии Иванове. Я бы лучше, знаете, о балетной пачке, заначке и даме с жевачкой. О чем-то таком, условно живом и безусловно положительном. Что может быть увлекательнее простой, скудной, размеренной жизни – если смотреть на неё со стороны. Богачи, которые обладают, не зная, всей роскошью мира и чувствуют себя обделёнными; их прелестная тоска по какой-нибудь блестящей дешёвке. И страх: жидкий или густой, животворный – содержимое вен жизни. Но, значит, Георгий Иванов.
Иногда мне кажется, что я – его воплощение, только не понимаю, кто из нас и за какие грехи таким образом наказан. Новое улучшенное издание, с рисунками в семь красок, критической статьей и разделом Dubia. Могу изложить его мысли его же словами. Могу так смотреть и так видеть, и так же не видеть ничего из того, что располагается прямо под носом. Нос, впрочем, у меня короче, но общий имидж, мне кажется, сходен – хотя это и дело вкуса. И, главное, меня уже воротит от Георгия Иванова так, как может воротить только от себя самого.
Самое смешное, конечно, в том, что на свете в настоящий момент наверняка присутствует ещё какое-то число людей, живущих в подобной уверенности, в подобном ослеплении. Целая армия георгиев ивановых, бесконечно гадких копий с гадкого же оригинала. Каждый ненавидит каждого, и все чего-то просят у муз. Муза, дай! Но музы сами жаждут, им уже нечего и некому дать. Музы устали давать без любви.
Да нет, ну что вы, у меня как раз очень ясно в голове. Порядок и связность в мыслях – моё главное достоинство, верный козырь в фальшивой игре с жизнью. Вышел первым ходом с козырного туза, круто? А король не бланканулся. Эти козырные короли на чужой руке – вы замечали, насколько редко они бывают бланковыми?
Почему, думаю я часто, откуда во мне такая уверенность, что эти замечательно связные и ясные мысли могут кого-то заинтересовать? Слова – как же они нежны – умирают, не коснувшись слуха, как умирает движение неуверенной руки, не посмевшей потянуться первой. Тихий ангел пролетел, а грубые люди говорят: мент родился. Или же, напротив, всё очень шумно и громко, а молчание и глухота – так, метафизические.
Мысли как таковые, слова как таковые. Вне приложения к практической задаче поучения, увеселения… Или вот ещё: литература как афродизиак. Для тех, кто не может без эстетики, да и с эстетикой не всегда. Невразумительное, упоительное, прекрасное. Мёртвое? Как посмотреть. Может быть, с другой точки зрения, чрезмерно живое.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: