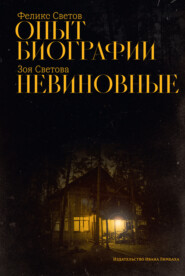скачать книгу бесплатно
Помню, один из рассказов, написанных мною в юности, когда я марал бумагу, не отдавая себе отчета в том, зачем я это делаю, – как пишут стихи литературные мальчики и девочки, – был о голове Марата, оставшейся мне в наследство от отца. Гипсовая, в полтора-два раза больше человеческой, голова, гордо развернутая влево, с резкими морщинами у рта и горбатого носа, всегда была неким символом нашего дома, вдумываться в зловещий смысл которого я не пытался. Марат стоял в забитом книгами отцовском кабинете, против такой же гипсовой головы Бланки – еще более страшной.
Потом, когда дом был разрушен и жил только в моих воспоминаниях и ощущениях, мама вышла из лагеря, кончилась война, мы только что вернулись в Москву, жили у моих теток – маминых сестер, в один из дней моего рождения мама подарила мне книгу отца о Марате, которую взяла у своей приятельницы Киры Александровны, вдовы Вячеслава Полонского, много лет дружившего с отцом. Это была первая реальная встреча с домом после долгих лет разлуки.
Мама всегда очень торжественно и трогательно отмечала дни моего рождения. Просыпаясь, я обязательно находил возле кровати подарки – от удивительных и барских в детстве до самых скромных, но неизменных потом. И непременную записку. На сей раз мама написала: исполнилась мечта, казалось, в свое время неосуществимая, мы вместе в Москве, она даже дарит мне отцовскую книжку. «Может быть, – писала мама, – исполнится и еще более удивительная, самая невозможная наша мечта, и мы будем все вместе». Был 1946 год, но мама всегда верила в самые фантастические вещи, невероятность нашей судьбы, и иногда мне кажется – до сих пор верит в возможность того, что отец жив и мы еще встретимся.
Тогда утром, в день моего рождения, она сказала, что голова Марата цела, находится у вдовы историка Владимира Сергеевича Сергеева – Наталии Николаевны, что Бланки, который тоже хранился у них, недавно уронили, он разбился, а за Маратом я могу зайти.
Помню, была уже зима, – так чаще всего и случалось в последних числах ноября, – я шагал по тихим переулкам в районе Чистых прудов, возвращался от Сергеевых, вспоминал Владимира Сергеевича – высокий, седой, очень красивый, он обычно стоял, заложив руки за спину, у печки в нашей столовой и негромко разговаривал с отцом или с мамой.
Я шел осторожно, стараясь не поскользнуться, обняв за шею гипсового Марата, на которого прохожие оглядывались с изумлением. Помню и свое ощущение причастности к чему-то не слишком лояльному: отношение Сталина к героям называвшейся в свое время Великой, а тогда более скромно – буржуазной революции было смутным, двусмысленным, их судьбы вызывали вполне определенные ассоциации, тут же, впрочем, подавляемые, вслух о них не говорилось; к тому же это – герой историка, арестованного десять лет назад и несомненно расстрелянного, герой его изъятых из магазинов и уничтоженных в частных коллекциях книг. Я знал, что существовала рукопись второй книги о Марате, уже готовая к печати, взятая в свое время вместе с мамой…
Марат был водружен на шкаф в нашей с мамой скромной комнате в квартире у теток, покрывался пылью, копотью, обрастал в моем сознании легендами. Мне он казался всегда обижаемым, обойденным вниманием, незаслуженно отодвинутым в тень безукоризненной фигурой Робеспьера, который был неприятен именно этой безупречностью первого ученика. И чем больше я узнавал о добродетелях Робеспьера, тем он становился менее симпатичным. Очевидно именно поэтому я предпочитал Дантона, чья необузданность не могла не импонировать мальчику, которому бесконечно твердили о скромности и аскетизме революционных вождей: их раззолоченный сусальный облик, откровенная театральность показной стороны нарочитой «скромности» вызывала только недоумение и неосознанное чувство протеста. Впрочем, симпатия к Дантону имела и семейную традицию – он тоже был героем одной из отцовских книг.
Но возвращаюсь к юношескому рассказу. В нем не было стройного сюжета, только импрессионистически изложенное воспоминание о голове Друга народа, стоявшей на шкафу с отцовскими книгами, и поразившая мое воображение манипуляция, проделанная над ним. Автор приходит однажды домой – отца уже нет, нет и детства и всего, что в нем было, – и видит, как пришедшая убирать квартиру женщина, поставив Марата в таз, ожесточенно трет его щеткой, обдирая вместе с грязью резкость и гордую угловатую величественность его лица: «До чего был страшен-то, Господи!» И автор с ужасом и отчаянием видит в тазу с грязной водой голову с благостным обликом, с горбатым носом одного из Людовиков, которую легко представить себе на изящной полочке, затерявшейся среди хрусталя или фарфора, на салфеточках «ришелье», между цветочными горшками.
В чем была мысль этого рассказа, я и сам сейчас не знаю, могу только догадываться. Но несомненна его связь – и не только внешняя – со всей атмосферой моего детства, вынесенным оттуда сводом нравственных норм и представлений о жизни, никак не соответствующих, а порой и противоположных истинному содержанию этих дорогих моему детству символов.
Мое детство прошло в Третьем доме Советов, что в Каретном Ряду, в правом крыле старого особняка, на первом этаже. Моя сестра рассказывала, как пришла однажды получать справку о том, что прожила чуть ли не семнадцать лет в этом доме. Контора, а теперь бюро пропусков, помещались как раз в нашей бывшей квартире: в детской прорубили дверь прямо на улицу, комнату перегородили, за барьерчиком сидел чиновник, никаких справок он давать не хотел, потому что никаких следов нашего проживания у него не осталось. «Но я жила именно здесь, – сказала сестра, – вы сидите в нашей детской, здесь вот стояла моя кровать…»
Я часто прохожу мимо нашего дома – пересекаю маленькую площадь от аптеки к железной решетке ворот; теперь площадь пуста, проносятся машины, а когда-то стояли легковые извозчики, тучами кружились воробьи, совсем исчезнувшие из Москвы вместе с лошадьми. Я прохожу мимо нашего дома, под нашими окнами, но открыть дверь в бюро пропусков и войти в детскую не решаюсь. Не могу.
Мы жили в квартире из четырех маленьких, забитых книгами комнат. Отец никогда не приходил домой без новой книжки, и они постепенно выживали из дому все прочие предметы: полки с книгами, шкафы и этажерки подстерегали меня с самого рождения. Это и было самым интересным в нашем доме: библиотека не только большая, но по-настоящему хорошая. Я помню с детства рассказы о редких и удивительных книгах, которые отец привозил из Парижа, где ему удавалось несколько раз (или казалось, что удалось!) обмануть букиниста и купить за бесценок потрясающие книги, скажем, первое издание эберовского «P?re Duch?ne». Я помню, разговор об этой книге преследовал меня очень долго, а в голодные военные годы мы с сестрой строили фантастические планы продажи этой книжки. Но когда дошло до дела и «P?re Duch?ne» стал продаваться, выяснилось, что в Ленинской библиотеке уже один (или не один) такой экземпляр имеется, и нам дали значительно меньше настоящей цены, хотя и немало. А букинист в Париже обманулся потому, что в начало вместо титула были вплетены никого не интересующие, значительно более позднего времени газеты, дальше он книгу не листал, а у отца, заглянувшего в книгу, задрожали руки, но он сдержался и не подал виду.
Помню, отец обещал купить мне целый шкаф книг, как только я самостоятельно прочту первую настоящую книжку, но я долго не читал, любил, когда читали вслух, уже знал Диккенса и Жюля Верна, а читать самому не хватало терпения. А когда первая книга – «Граф Монте-Кристо» – была наконец прочитана, отца уже не стало.
Комнаты в нашей квартире были расположены – мне запомнилось это слово – «анфиладой», войдя из коридора в кухню, можно было открыть дверь в столовую, потом прямо в детскую, маленькую мамину выгородку, в отцовский кабинет и опять – с другой стороны – оказаться в коридоре. Это было невероятно удобно для беготни, всяких игр, и, когда приходили со двора мои приятели, мы носились по всей квартире, сваливали книги и разбивали носы о множество углов и всевозможных предметов.
Помню старый монастырский сад за нашим домом, с двумя прудами, толстыми деревьями, где, говорят, летом можно было даже собирать грибы и ягоды, но летом мы в Москве никогда не жили. Осенью в саду устраивались собачьи выставки, и тогда через наш двор один за другим проходили необычайно красивые псы, но в сад меня одного не пускали, и мы бегали по двору, который время от времени бывал забит машинами – в дни каких-то съездов в главном корпусе останавливались иностранные коммунисты. Веселые, наверно, совсем молодые люди, они шутили с ребятами, раздавали конфеты, а однажды я принес домой кусок хлеба с колбасой, от которого не решился отказаться, не знал, что с ним делать, потому что всегда был сыт, и привел своих домашних в смущение, скомпрометировав советских ребят, не нуждавшихся, разумеется, ни в каких подачках, даже от братьев-коммунистов. В те дни в Третьем доме Советов жили шуцбундовцы, и что бы они обо мне тогда ни подумали, это уже никак не могло осложнить ни их, ни наше и без того сложное будущее.
Помню удивительное ощущение возвращения домой после лета, проведенного где-то вне Москвы.
Мы приезжали обычно вечером, извозчик, как мне казалось, особенно долго ехал с вокзала по темному и совсем чужому городу, я хотел спать, дремал, сонный входил в дом, и тут меня подстерегали Встречи с позабытыми вещами и книгами, я никак не мог уснуть, следил, как по стенам и по потолку ползут светлые пятна от проезжавших за окном автомобилей.
Но настоящие Открытия и Встречи начинались утром, когда я просыпался от солнечного луча, ударявшего прямо в глаза, и еще долго лежал, глядя, как пляшут золотые пылинки, привыкая к Дому, из которого, еще немного и уже казалось – я никуда никогда не уезжал.
Прекрасно бывало дома и зимой: во всех печах трещали, постреливали дрова, изразцы нагревались до того, что до них не дотронешься, и хотелось выскочить на улицу, наглотаться холоду, замерзнуть и бежать обратно в тепло и радость дома…
Но, конечно, главным в доме был отец. Он, собственно, и являлся домом, а мы все располагались на своих местах и каждый из нас в меру сил исполнял свои функции, в очередь с книгами и печами. Маму я понял много позже, потому, возможно, я ошибаюсь в распределении ролей, но уже ничто не в силах изменить структуру мира моего детства. Для меня оно останется именно таким.
Это был несомненно очень талантливый человек, с судьбой, характерной для времени уже внешними – анкетными – фактами. Из мещанско-пролетарской семьи, после хедера, блестяще законченного коммерческого училища, незаконченного юридического факультета в Психоневрологическом институте в Петрограде; после Октября, штурма Зимнего, Поалей Циона, членом политбюро которого был этот двадцатилетний, худой и очкастый оратор; после Гражданской войны, путаницы с белорусским партизанским движением, работой в белорусском ВЦИКе (он был членом ВЦИК Литвы и Белоруссии), службы в Казани в политуправлении армии – сразу, безо всякого видимого перехода, в самом начале двадцатых годов научная работа, история, уже в 1924 году – первые книги, знаменитая «Хрестоматия» по истории революционных движений в Западной Европе (вместе с Анатолием Слуцким), выдержавшая восемь изданий, по которой училась вся наша новая интеллигенция в двадцатые и тридцатые годы; профессорство в «Свердловке», Институте красной профессуры, заграничные командировки, сотни ученых статей с довольно широким диапазоном, монография о Марате, книга о Дантоне, два тома «Истории Западной Европы»; громкие доклады (скажем, нашумевший в 1927 году в Москве о 9-м термидора – «Возможен ли у нас термидор?». По существующей легенде, на нем присутствовал Троцкий (во всяком случае были Покровский и Рязанов); организация исторического факультета в Московском университете, первым деканом которого отец и был; бесконечные ученые общества, редколлегии журналов, без него не обходившиеся, и т. д. и т. п. Ветер времени дул ему во все паруса, удача, которая так часто сопутствует таланту и энергии, ему не изменяла. Хотя, надо думать, не все выходило так просто – он был выходцем из другой партии (тоже пролетарской, но какой-то сомнительной и, главное, другой! он вступил в РКП в 1921 году, перешел к большевикам вместе с левой частью Поалей Циона, расколов его), всегда был человеком слишком ярким, резким, неуживчивым…
Ему не исполнилось сорока лет, когда его в 1936 году арестовали, и он, думаю, погиб быстро, хотя по официальной версии годом смерти считается 1941-й, но эти даты брались с потолка. Я ничего не знаю о его смерти, как, впрочем, неизвестно ничего о ком бы то ни было из тех, кого осудили на «десять лет без права переписки». Говорят, это значило – расстрел. Может быть, так оно и было, иначе что-то о ком-то каким-нибудь образом стало бы известно, просочилось бы в конце концов. Но когда-нибудь мы узнаем и об этом.
Отца упоминали дважды в больших процессах: Тер-Ваганян и Радек. По семейной легенде, зимой – в январе 1937-го, во время процесса Пятакова и Радека, Фейхтвангер был у Сталина и спросил, где Фридлянд, которого он знал по встречам на исторических конгрессах в Европе. Кроме того, в это время у нас издавался «Еврей Зюсс», отец написал большое, чуть не в три печатных листа, предисловие, бывшее уже в гранках, и Фейхтвангер, прочитавший его, естественно, интересовался автором. На следующий день ему ответил Радек в своем последнем слове. «Знал ли я до ареста, что это кончится именно арестом?» – риторически спросил Радек без всякой видимой связи с предыдущим. И сам себе ответил: «Как я мог не знать об этом, если был арестован заведующий организационной частью моего бюро Тивель, если был арестован Фридлянд, с которым за последние годы я очень часто встречался. Не буду называть других фамилий, – продолжал Радек, в точности выполняя полученную инструкцию. – Я могу назвать еще несколько фамилий людей, которые часто встречались со мной».
О разговоре Фейхтвангера со Сталиным маме рассказали уже в лагере, рассказали, как она считала, вполне достоверно, а внимательное прочтение последнего слова Радека делает эту легенду достаточно вероятной. Хотя, если бы Фейхтвангер более тщательно следил за московскими процессами (что, кстати, и следовало писателю, приехавшему с Запада специально, чтобы в этом феномене разобраться, ничего здесь не увидевшему и опубликовавшему насквозь фальшивую книжку, в которой не знаешь, чему удивляться – намеренной близорукости или неумению сопоставить элементарные факты), он знал бы, где Фридлянд. На процессе Зиновьева и Каменева, за полгода до Радека (в конце августа), Тер-Ваганян довольно подробно говорил о своей «связи» с отцом.
Я прочитал об этом сам. Я учился тогда во втором классе и только что узнал обо всем случившемся у нас дома. В моей жизни к тому времени словно бы ничего не изменилось, во всяком случае, я ничего не замечал, летом жил на даче в Отдыхе (за год до того мы купили две комнаты с верандой на втором этаже, возле самой железной дороги). У меня были приятели, мы читали Фенимора Купера, рыли пещеры, стреляли из луков в белок, прыгавших по соснам, – а что отца с нами не было, я не замечал, легко удовлетворившись объяснением, что он застрял в какой-то командировке.
Я узнал обо всем случайно. Наверно, в сентябре-октябре. Мы с сестрой сидели у мамы в комнате, на широкой тахте. Я любил здесь смотреть книги: над маминой тахтой висела большая полка с брокгаузовскими изданиями Шекспира, Шиллера, Мольера и Байрона – роскошные, тяжелые тома с иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой. Был посторонний или родственник, мама рассказывала что-то мне неинтересное, я не вслушивался, переворачивая громко шелестящие страницы. А услышал даже не сказанное, а молчание, воцарившееся за маминой обмолвкой, и еще – будничную привычность словосочетания, которая больше всего – я это отчетливо помню – и потрясла меня. «Это было еще до ареста Гриши», – сказала мама: так говорится о чем-то давно ставшем обиходом и жизнью.
И тут я увидел, что они смотрят на меня со страхом, – и сразу все услышал и все понял. Нас оставили с сестрой вдвоем, я рыдал, не мог успокоиться, она пыталась объяснить мне: просто отец был знаком со многими, оказавшимися теперь врагами народа, а потому его, собственно, и не могли не взять.
Я тут же рассказал обо всем услышанном лучшему своему товарищу, он жил в нашем дворе, рядом. В моем изложении это, очевидное для меня, хотя и вынужденное обстоятельствами, недоразумение придавало нашему семейству ореол исключительности, устраняя, казалось бы, очевидные потери: он не враг – просто ему по службе пришлось познакомиться с врагами. Я даже чуть важничал в своей горечи. Почва, заколебавшаяся было под ногами, опять стала прочной. В конце концов недоразумения всегда проясняются, сестра в этом не сомневалась, а прочее меня тогда не тревожило.
Утром второй класс встретил меня глухим молчанием, которому я, впрочем, не придал значения. Но когда на первой же перемене это молчание взорвалось дикими криками и улюлюканьем, когда приплясывающая толпа мальчишек и девчонок загнала меня в угол и до меня дошло, что они кричат, я понял цену вчерашней откровенности с лучшим другом.
«Враг народа, враг народа, враг народа!!!» – звенел в моих ушах истошный крик. Потом все смолкло: разрезав толпу, подошла учительница. Я помню, не наша – высокая и худая, строго спросила меня, правда ли это, и когда я, с трудом сдерживая слезы, подтвердил, уже не пытаясь прикрыться утешительной версией сестры, она дотошно стала выспрашивать, кем был отец и как мы жили. Это «был» и ее дотошность меня доконали. «Не надо плакать, – сказала учительница, – слезами не поможешь, надо хорошо учиться и заслужить доверие».
В похожей ситуации я оказался еще раз в жизни почти десять лет спустя. Я учился тогда на подготовительном отделении в Горном институте, кончал десятый класс. Шел последний год войны, у меня была первая любовь, и меньше всего хотелось заниматься школьными премудростями. По всей вероятности, не только мне, потому что однажды, в яркий весенний день, всю нашу группу вызвали за неуспеваемость к директору института – крупному, шумному, в моем тогдашнем представлении – блестящему человеку.
Мы стояли у трех стен в его огромном кабинете, а он за своим гигантским столом нас распекал, сначала всех вместе, потом опрашивал каждого.
«Фридлянд!.. Кто ваш отец?»
«Мой отец был историком. Он арестован в тридцать шетом году…» – начал я робкой заученной скороговоркой.
«Как? Тот самый Фридлянд?! – блистательный директор вылетел из-за своего царственного стола, пробежался по роскошному ковру и круто остановился возле меня. – Тот самый Фридлянд? Враг народа? Известный троцкист! Я помню, мы исключали его из партии…»
«Отец никогда не был троцкистом, – сказал я тихо, даже не из чувства протеста, а просто стараясь уточнить. – И из партии его не исключали, его арестовали с партбилетом в кармане».
«Ах так? – сказал директор и посмотрел на меня с любопытством. – Может, у тебя и двоек нет по алгебре?»
Я плотно замолчал. Так почему-то всегда получалось в моей жизни, что всякая попытка даже не бороться за справедливость, но что-то уточнить, намекнуть на правду всегда кончалась моим поражением – у меня обязательно что-нибудь было не так: не хватало важной справки, или я проливал не вовремя чернила, или эти двойки по алгебре. В тот раз директор пожалел меня. Он также стремительно вернулся за свой гигантский стол, и оттуда прогремел его голос, предупреждавший, что в этих чрезвычайных обстоятельствах мне надо учиться особенно тщательно.
…Я сам прочитал в газете, что отец был одним из руководителей террористических групп в Москве. В тот день после своего публичного разоблачения, вернувшись из школы, я, видимо, впервые взялся за газеты.
Это, кстати сказать, необычайно поучительно. Я настоятельно советую выбрать час-другой, отправиться в какой-нибудь не самый захудалый читальный зал и попросить, скажем, подшивку «Правды» за 1936 или 1937 год, благо сейчас это доступно без каких бы то ни было ограничений. Трудно передать оглушительное впечатление, которое теперь эти газеты производят. Все забывается, и кажется – такого не было: портреты, портреты, портреты – во весь рост, улыбающийся, с детьми, полярниками, стахановцами, Горьким, Чкаловым и Серго; бесконечные статьи – «Слава!..», «Спасибо!..», «Любимому и дорогому!..», «Родному отцу!..», «Мудрому учителю!..»; каннибальские черные «шапки»: «Сотрем с лица земли!», «Расстрелять негодяев!», «Раздавим гадину!», «К стенке подлецов!», «Уничтожим презренных выродков!», «Никакой пощады и жалости!», «Взбесившихся псов расстрелять – всех до одного!» (это последняя строка в речи Вышинского на процессе Зиновьева – она была многократно повторена на транспарантах, которые несли юные физкультурницы и студенты); и благостные лица героев-летчиков и шахматистов… Смесь провинциализма, крикливой безвкусицы, инфантильности, какого-то чудовищного азиатского лицемерия, лжи и гнусности – каждый день на шести газетных полосах… Поистине поразительна человеческая способность все забыть, проявляя только академический интерес к фактам истории!
Но мне читать эти газеты тогда было просто скучно, следить за процессом в подробностях я не мог, мною руководила совершенно определенная идея. Я взял пачку газет конца августа – они лежали у сестры на столе, и принялся водить пальцем по строкам, не читая, до тех пор, пока палец сам не остановился на слове «Фридлянд». Тогда я стал читать все вокруг. А потом двинулся дальше.
Так я узнал, скажем, что Тер-Ваганян, проходивший по процессу Зиновьева и Каменева, обсуждал вместе с троцкистами Зейделем и Фридляндом организационные вопросы создания террористической организации в Москве. Тер-Ваганян говорил: «В 1932 году при встрече с Фридляндом я ему сказал, что сейчас необходимо перейти к насильственной борьбе с партией. На его вопрос: „Что означает насильственная форма борьбы?“ – я ему ответил: „Ты же не ребенок, насильственная форма борьбы – это террористическая форма борьбы, это же ясно“». Дальше говорилось: «Рядом вопросов тов. Вышинский уточняет взаимоотношения по террористической работе между Тер-Ваганяном и Фридляндом. Из ответов Тер-Ваганяна выясняется, что Тер-Ваганян давал Фридлянду указания об организации террористических актов».
О каких конкретно «актах» шла речь, что «уточнялось» в «террористической работе» – не было сказано, но и это являлось стилем процессов: подсудимые просто признавались в злодействе – конкретность судей не интересовала прежде всего потому, что самого «преступления» не было. Ввиду отсутствия фактов доказательства были заменены обвинениями. Этого оказалось достаточно не только для суда (его просто не существовало), но даже, как уже говорилось, для проницательного писателя Фейхтвангера. Впрочем, наверно, я не прав. Претензии, которые порой, в трагических для народа обстоятельствах, мы предъявляем «чужому дяде», очевидно нелепы. У Фейхтвангера, скажем, наверно, были свои причины и свои обстоятельства, оправдывающие его «близорукость», для него уважительные. Какое ему дело до нас, и нам ли судить его, проглотившим процессы тридцатых годов, рукоплещущим или промолчавшим все эти годы каннибальской вакханалии!..
Пресловутый «терроризм», так дразнивший воображение Сталина и его ближайшего окружения, существовал тем не менее только на процессах – в речах прокурора и самооговорах подсудимых – на самом деле не было и одного факта! Десятки, сотни, тысячи людей с огромным опытом революционной борьбы, подполья, люди неглупые, талантливые, активные, с воображением – не только не решились, но реально и не думали (во всяком случае, это никак не оформилось) о каком бы то ни было сопротивлении, дали взять себя одного за другим, как цыплята. Почему Ломинадзе и Орджоникидзе выстрелили в себя, не использовав имевшийся в их распоряжении последний шанс, почему не остался за границей Бухарин, ездивший туда в тридцать пятом или даже тридцать шестом году, когда все было очевидно, почему ничего не смогли сделать Тухачевский и Якир – люди активные и храбрые профессионально – почему? Оставим в стороне соображения политические и партийные – но человечески? психологически? Во всяком случае, их не останавливали соображения нравственного характера – скажем, отвращение к насилию вообще. Как известно, казнь по политическим мотивам никогда не вызывала у людей этого толка ужаса перед самим фактом злодеяния. Скорее речь должна идти о полнейшем перерождении личности людей не очень крупных, развращенных в самом начале властью, купивших себя собственным благополучием – ни на что уже не способных, живущих только в инерции установленного ими же узаконенного произвола. О том, что на деле не было никакой принципиальной разницы (разве что порой различие в воспитании) между теми, кто в тридцатые годы уже сидел на скамье подсудимых, теми, кто трусливо ждал (и дождался!) своей очереди, – и теми, кто ухитрился остаться в собственной квартире, получив за ловкость и гибкость, за умелость квартиру более роскошную, кресло позначительнее, понимая, впрочем, случайность и временность такого преуспевания. Говорят, Брехт сказал однажды в беседе с каким-то троцкистом, возмущавшимся сталинским беззаконием: «Представляете, они репрессируют людей абсолютно невиновных, даже не помышлявших ни о каком заговоре!» – «Если они абсолютно невиновны, – сказал Брехт, – их надо было репрессировать в первую очередь…» Четверть века спустя у нас о том же сказал поэт: «К стыду народа своего вождь умер собственною смертью…» Но моя задача в том, чтобы не отвлекаться и не спешить, – я должен остаться на уровне понимания моего героя.
Может показаться странным, но ни к Тер-Ваганяну, ни к Радеку у меня никогда не было никаких претензий, обид, не говоря уже о какой-то ненависти. Скорее, наоборот, я на всю жизнь запомнил слова мамы о том, каким удивительно чистым и мужественным – железным человеком был Тер-Ваганян: «Что надо было с ним сделать, чтобы он говорил такое?!» – часто повторяла мама и рассказывала поражавшую мое воображение историю: она встретила Тер-Ваганяна на Лубянке, когда приходила к следователю отца. Она пришла не вовремя, или тот не рассчитал свое время, одним словом, произошла накладка. В тот момент, когда мама подходила к кабинету следователя, открылась дверь, тут же остановился лифт и появился Тер-Ваганян. Мама говорит, что ничего более жуткого она не видела. Он не узнал ее, он вообще ничего не узнавал – этот человек с лицом мертвеца, переставлявший ватные ноги. Его внесли в лифт.
У мамы была еще одна встреча на Лубянке. Она ходила туда несколько раз, настаивала, чтобы следователь разговаривал с ней, выспрашивал ее, просила, чтобы ее «допросили по-настоящему». «Я все знаю о муже, – говорила она, – мне известен каждый его шаг». Следователь коварно улыбался и прозрачно намекал маме на известные им в подробностях связи отца с женщинами: «Видите, а вы говорите, что он был с вами откровенен…» В конце концов мама им надоела и ее выдворили из Москвы.
Она возвращалась в очередной раз от следователя, только ступила на широкую лестницу и в самом ее низу увидела Виктора Моисеевича Далина. Один из немногих вернувшихся потом оттуда, он был из близких отцу людей, младший его товарищ, человек удивительно скромный, глубокий, по-настоящему знающий, думаю, очень серьезный, сделавший, кстати сказать, так много для переиздания отцовских книг уже в наше время. Они с мамой узнали друг друга сразу, но он не подал вида, и мама продолжала молча спускаться. А он поднимался – маленький, с оттопыренными ушами, между двух крепких людей в форме. На лестнице было светло, и мама хорошо видела по-детски ясные, синие-синие его глаза, глядевшие ей прямо в глаза. Так, глядя друг на друга, они прошли весь марш лестницы и встретились посередине. Мама не оборачивалась.
У меня не было никаких претензий к Тер-Ваганяну, о Радеке же я думал скорее с симпатией, с удовольствием вспоминал его остроты, анекдоты, и очевидная чудовищная бойкость его лжи на процессе воспринималась очередным ходом острослова… Такая же внутренняя необъяснимая симпатия была у меня почему-то к Бухарину и даже, в еще более зачаточной форме, – к Троцкому. Я не отдавал себе отчета в истоках этой симпатии, никогда не пытался додумывать до конца мысль об этом. Во всяком случае, фантастическое саморазоблачение ни в коей мере не отталкивало меня от героев этих процессов. Не умея формулировать и логически мыслить, мальчик, с какого-то боку причастный ко всему этому, не мог не чувствовать фальшь и неправду происходящего, а потому проникался необъяснимой симпатией к гонимым. Но, справедливости ради, следует сказать, что претензий к Сталину у меня в ту пору тоже не было.
Версия сестры о том, что причина ареста отца заключалась в слишком широком круге его знакомств, при всей ее юридической бессмыслице, все объясняла и была совершенно в духе времени. То, что мальчик, подросток, так ухватился за спасительную для него версию, – свидетельство полнейшего, изначального правового нигилизма в таком, казалось бы, милом, интеллигентном доме, как наш в Каретном Ряду. Ни сестре, ни мне не пришла в голову мысль о незаконности каких бы то ни было репрессий по отношению к невиновному человеку – только за его дружбу или связи с людьми, скажем, в чем-то виновными, о безнравственности такого рода идеи, не имеющей ничего общего с разумными человеческими нормами жизни. Это очень важный момент, в какой-то мере проливающий свет на трагедию коммунистов в тридцатые годы – и тех, кто в ту пору погиб, и тех, кто дожил до нашего времени. Уничтожив право вообще, сделав произвол нормой жизни, они чувствовали себя тем не менее спокойно – это был их, революционный произвол. Все их попытки хоть что-то объяснить и понять, не выходя за рамки все того же заколдованного круга их идей, из которого нет и не может быть выхода в право и справедливость, были обречены на неудачу. А потому и у мальчика, родившегося и возросшего в этом мире, не возникало никакой потребности обратиться за помощью к праву, произвол был понятнее и ближе, он, во всяком случае, мог что-то объяснить, давал надежду – только такой же произвол (но с другим знаком) был способен наладить жизнь во внезапно разрушенном доме! Более того, подспудно я понимал, что жертвой такого рода недоразумения стал не только мой отец, но и его товарищи, за дружбу с которыми он, все по той же версии, пострадал, потому что у них, в свою очередь, тоже был широкий круг приятелей. А так как проникнуться театрализованными самооговорами я внутренне никак не мог, то полагал, что и там – среди самих участников и героев процессов – действовал установленный сестрой закон: они все как-то, но дружили, были связаны, а потому было естественно, взяв одного, потянуть и другого!
Я не много бывал с отцом. Наверно, не представлял для него интереса, да и времени не оставалось, чтобы со мной возиться. С моей старшей сестрой у него были отношения другие – близкие, прямо товарищеские, он ее безумно любил, ею гордился, к тому же разница в возрасте была не такой значительной. Сестра родилась в девятнадцатом году, и к середине тридцатых они стали сравниваться – во всяком случае, я это помню, ссорились они, как товарищи; школьные приятели сестры, а они в наш дом ходили постоянно и собирались целой толпой, тоже были с ним словно бы на дружеской ноге.
Но иногда, случалось, мы оставались с отцом вдвоем и несколько раз ходили по городу. Меня всегда смущала шумливость отца: он громко шутил, останавливал пробегавших мимо детей, заговаривал с прохожими, встречал бесконечных знакомых, а мне было неловко: даже тогда, в пору своего роскошного детства, не мог, как он – хозяйски уверенно – ходить по улицам родного города.
К тому же деньги у него были (профессор, декан, книги и учебники). Однажды он таскал меня по магазинам где-то в центре и покупал все, на чем мои глаза останавливались с восхищением. Так я стал обладателем большущего педального автомобиля – редкость и новинка в ту пору, настольного, но огромного бильярда и совсем ненужного мне двуствольного охотничьего ружья с шомполом, патронташем, коробкой гильз и пистонов.
Я помню, что, когда мы, до зубов всем этим вооруженные, выбрались наконец на улицу, полил страшенный ливень. Отец затолкал меня с бильярдом и автомобилем в подъезд и побежал искать машину. Я совершенно отчетливо до сих пор ощущаю сырой запах подъезда, вижу потоки воды у самых ног, помню неловкость за свое богатство перед людьми, забегавшими сюда же спастись от дождя. Но я сжимал в руках ружье, пальцы мои лежали на двух курках сразу – конечно, я был счастлив и переполнен мальчишеской радостью.
Не знаю, бывал ли у нас дома Радек, кажется, нет, но кто-то из тех, кто внушил Радеку и Тер-Ваганяну высказанные ими на процессе идеи об отцовском терроризме, могли бы широко воспользоваться имеющимся в моем распоряжении небольшим складом оружия. И если до охотничьей двустволки, надо думать, дело все-таки не дошло, то еще одна моя игрушка, я убежден, сыграла свою роль на следствии.
Однажды я нашел в нашем дровяном сарае, в ящике со всяким ненужным хламом, большой настоящий наган с вращающимся барабаном. Это была потрясающая игрушка, лучше педального автомобиля. И наган перекочевал ко мне. Отец как-то увидел его, повертел в руках и в ответ на мой вопрос сказал, что ему подарили этот наган в семнадцатом году матросы в Петрограде.
Наша квартира была угловой, часть окон, довольно низких, выходила во двор Третьего дома Советов, а часть – в Божедомский (теперь Оружейный) переулок. Однажды прямо против наших окон началось строительство: приехали рабочие, огородили участок мостовой щитами и стали что-то такое сооружать, по всей вероятности, переносили сюда трамвайную остановку. Наверно, это было весной, окна уже открыли и грохот стоял страшенный.
Так продолжалось два дня, отец уходил утром рано, возвращался поздно и ничего не замечал. А в тот день он почему-то задержался. Работа между тем шла уже под самыми нашими окнами, рабочие время от времени просили напиться, я в окно подавал им в кружке воду – было весело, будто мы живем на улице.
И тут в детской появился отец. «В чем дело?» – грозно спросил он меня и, высунувшись в окно, столь же строго задал свой вопрос находившемуся возле дома рабочему. Тот ответил что-то не слишком любезное – с какой стати он должен был давать отчет о своих вполне законных действиях? Отец мгновенно вскипел и, распахнув окно пошире, принялся митинговым голосом требовать, чтобы они немедленно прекратили всякие работы, что они мешают ему и проч.
А там было уже целое производство: разобрали мостовую, копали и стучали молотками – отцовская риторика вызвала лишь веселое недоумение. Он был смешон: лысый, грузный человек в очках, в рубашке громко кричал из окна какую-то ерунду. Отец это почувствовал.
Мне было смертельно неловко: люди работают, они-то при чем, чего он на них кричит? Я что-то лепетал и тянул отца за штаны. Он отмахнулся от меня как от мухи, но, обернувшись, неожиданно для себя увидел валявшийся на ковре вместе с другими игрушками почти очищенный мной от ржавчины наган.
Дальше отец действовал как в бою. С наганом в руке он вскочил на подоконник и закричал громовым голосом – его, наверно, слышали на Самотеке: «Перестреляю, как цыплят! Немедленно убирайтесь!!»
Рабочие оторопели. Если человек средь бела дня, в центре Москвы, мог так кричать и размахивать наганом, значит, он имеет на это право. Но даже если он просто сумасшедший, что ему стоит начать стрелять – никому не могло прийти в голову, что этот наган принадлежит мне, а в нашем доме есть только пустые гильзы для охотничьей двустволки.
Рабочие побросали ломы и лопаты, забрались в грузовик и уехали.
Отец победоносно посмотрел на меня, швырнул наган на ковер и, отдуваясь, прошел в кабинет. Через минуту я слышал, как он весело говорил по телефону о чем-то совсем другом, напрочь позабыв о происшедшем.
Между тем все работы в нашем переулке были оставлены навсегда. Не знаю, что и кому про эту историю рассказали, но и до сих пор против наших бывших окон в переулке нет остановки, трамвай, правда, давно снят и ходят троллейбусы снизу от Самотеки.
Я пытаюсь разобраться в своих тогдашних чувствах, понять причину несомненного отталкивания от такого рода громких проявлений отца, весьма для него характерных. Заманчиво посчитать мою неловкость за отца перед ни в чем не повинными людьми проявлением принципиально другого отношения к вещам серьезным, к людям, наметившимся уже тогда конфликтом между детьми и отцами. В конкретном случае речь должна идти всего лишь о разнице воспитания, темперамента – качествах субъективных. И тем не менее здесь есть над чем задуматься. В конце концов, и субъективную сторону едва ли следует не принимать во внимание, не в таком ли пренебрежении к ней надо искать причины многих моих заблуждений.
Мне было мучительно неловко, стыдно перед людьми, с которыми я только что разговаривал, чувствовал причастность к их работе, таскал им воду… И вдруг мой отец, даже не попытавшись разобраться и понять, набросился на них, закричал, требуя что-то для себя… К тому же они никогда не узнают, что наган не его, а мой, что он не мог быть заряжен, что им не следовало бояться, что это всего лишь игра…
Но отец не играл. Он был вполне взрослый человек и, как он считал, хозяин в своей стране. Да и наган для него едва ли мог стать игрушкой. Он был убежден в своем праве жить так, как находил нужным, прежде всего потому, что завоевал такое право. Этим вот самым наганом. А то, что, требуя для себя, мог ущемить кого-то другого, ему и в голову не приходило. Об этом он не считал нужным думать. Это мелочи, чепуха, чушь, размышляя о которой ничего путного не совершишь: всегда находятся недовольные и обиженные, всегда есть что вспомнить и о чем пожалеть. Революция все равно права, а стало быть, прав – революционер. А потому ты чувствуешь себя хозяином в городе, в стране, тебе хочется быть шумным и веселым, пока все по тебе, но если что-то не так, позвольте…
На самом деле все было значительно сложнее, отец был человеком не только талантливым, но и умным, многое успевшим понять. Это открылось мне позднее, почти тридцать лет спустя, когда я впервые, переиздавая, по-настоящему прочитал его книги. Но об этом в свое время. В пору краткого и живого с ним общения я ничего не мог знать о степени его понимания и проницательности. Зато сталкивался с проявлениями характера, и они часто меня коробили.
Помню, как однажды я побывал в университете, на истфаке. Меня привела сестра, наверно, по какому-то своему с отцом делу. Она думала о будущности историка и собиралась поступать на факультет. Может быть, это был уже последний для отца тридцать шестой год, сестра заканчивала десятый класс, а мне, значит, лет восемь. Ее многие знали, очевидно, преподаватели, а может быть, и студенты, и, пока мы поднимались по широкой, роскошной лестнице и добирались до отцовского кабинета, нас бесконечно останавливали.
Истфак был создан в 1934 году, здание только что отремонтировали, а хозяин отец был прекрасный и для своего детища мог достать все что угодно. Присутствие широкого, всемогущего хозяина чувствовалось, стоило переступить порог здания, и совершенно ошеломило меня, когда, пробившись через галдящую толпу студентов, мы оказались в отцовском кабинете.
Я прежде не видел таких больших помещений – это была зала с поразившим мое воображение ослепительно натертым паркетом и множеством стульев у стен. Отец сидел где-то далеко у стола и, увидев нас, стал по обыкновению шумно острить, присутствующие его радостно поддерживали, а я пребывал в полнейшей растерянности и смущении, покоробленный отсутствием скромности и такта.
Помню поразившее меня поведение отца на Красной площади во время военного парада. Мы стояли на трибуне для гостей, ноябрь, морозило, но стеснялись топать ногами, чтоб согреться. Парад, как нарочно, запаздывал, чего обычно не бывало. Все посматривали на большие часы на башне, но Сталина не было, принимающий парад нарком стоял где-то в воротах Спасской башни и ждал сигнала. Наконец Сталин появился, из ворот вылетела застоявшаяся лошадь, и все стали бить в ладоши и бросать в воздух шапки. Отец тоже взялся за шляпу, снял ее, и тут я схватил его за рукав, испугавшись, что он бросит ее в воздух, а я задохнусь от стыда и неловкости за несомненную фальшь этого жеста. Отец повертел шляпу в руках, надел ее, но оглянулся вокруг и больно дернул меня за ухо, чтобы как-то скрыть собственную неуверенность.
И при всем том обстановка и, главное, атмосфера нашего дома были именно искренними, скромными, в старом добром смысле демократическими. Нам, детям, не приходило в голову хвастаться положением отца, да и шумливость его объяснялась скорее темпераментом и отсутствием воспитания, чем комчванством. Можно предположить, что стало бы с этими людьми, не погибни они в тридцатые годы, но тогда все это казалось «революционной нормой» и «революционными традициями». Другое дело, чем были эти «традиции» по существу и что представляли собой так называемые нормы революционной нравственности. Тем, кто всерьез интересуется этой проблемой, не нужно становиться историком-изыскателем, достаточно внимательно вглядеться в сегодняшний день. Традиции и нормы сохранились, ошибается тот, кто строит по этому поводу иллюзии и видит принципиальную разницу там, где речь идет всего лишь об изменениях в одежде. Нет сомнения, что природа революционной традиции и норм нравственности выдержала проверку временем, вполне сохранилась, и нужно не хотеть видеть, чтобы не понять, что нет принципиального различия между черной «Волгой» и кожаной тужуркой.
В конкретном случае все складывалось иначе. Отец был натурой необычайно одаренной, очень восприимчивой, и годы его жизни с моей матерью серьезно меняли его, исподволь, незаметно, но достаточно твердо и решительно она как бы лепила этот характер: уходило случайное, наносное, а он, думаю, и не отдавал себе в этом отчета. Во всяком случае он и нравственно прошел большой путь от того, кем был в скромном домике на окраине Минска, где гремел зычный голос Самуила Фридлянда (черного дедушки, как его называли в семье, в отличие от дедушки беленького – маминого отца: по бородам – черной и белой). Черный дедушка, умерший в 1931 году, судя по рассказам, был человек крутой, необразованный (запятые ставил на всякий случай, после каждого слова), по-своему неглупый. Он гнул руками подковы, любил этим хвастаться, безраздельно господствовал в своем доме, люто ругался со старшим сыном – моим отцом, норовом пошедшим в него, гордился им, был невероятно счастлив, когда портреты его трех детей появились на стенах минского Музея Революции, тиранил жену – мою бабушку, которую мне посчастливилось застать, рано овдовевшую, натерпевшуюся сначала от мужа, а потом от необузданных характеров своих детей, проводившую их одного за другим – всех троих (а также зятя и невестку) – в тюрьму и сохранившую несмотря ни на что в глубокой старости ясную голову, юмор и доброту.
Отцу не исполнилось сорока лет в 1936 году, стремительность, с которой он работал, так или иначе, но соприкасалась с самыми жгучими проблемами времени, жадность, с которой он жил, стараясь успеть побольше, не только не мешала, она несомненно способствовала совершенствованию его личности. Интеллигент в первом поколении (мой дед – потомственный рабочий-щетинщик, когда-то бастовал за копейку – классическое рабочее требование), он был щедро наделен природой, готов к своей роли, а на первых порах и время работало на него. Он успел очень много, только начинал – все еще было впереди.
Но времени уже не оставалось.
Напряженность атмосферы в нашем доме в самые последние годы мог бы почувствовать и посторонний, только зашедший в дом. Причины этой напряженности, разумеется, не были только субъективными или, как теперь говорят, «личными». Хотя и это сказывалось. Отец был моложе мамы, их ссоры, о причине которых я узнавал постепенно и много позже, очевидно, и создавали нервозность. Было много романов и просто связей, были громкие истории и что-то еще. Но все разбивалось о порог дома, и в наши комнаты долетали лишь отголоски того, что где-то там происходило.
Мама не выдержала под самый конец, недели за две до ареста отца: после очередного скандала, не сказав ему ни слова, отправилась в загс, чтоб оформить невыносимое ей положение (в ту пору это было просто). А через неделю, когда все забылось и они мирно пили утром чай, почтальон принес официальное извещение о том, что они больше не муж и жена. Отец пришел в ярость, он никак этого не ожидал, и решительность матери его, очевидно, напугала. Во всяком случае последняя неделя прошла покойно…
Я хочу еще раз напомнить, что не пишу автобиографии, а потому не собираюсь излагать подробную хронику жизни нашего семейства. Факты, мимо которых тем не менее трудно пройти, мне кажутся важными для понимания того, что мог унести с собой мальчик, выросший в Каретном Ряду, в Третьем доме Советов, что так или иначе определило потом его личность, нравственную физиономию. При некоторой исключительности условий моего детства оно характерно для времени, а потому может быть небезынтересна попытка таким образом представить себе лицо поколения. Я стараюсь остаться верным воспоминаниям и тогдашним ощущениям, не путать их с позднейшими наслоениями и разъяснениями другой поры.
Почему-то я совсем не помню друзей отца, хотя наш дом был хлебосольным и людей в нем бывало много. Наверно, я все-таки был маленьким, комнат у нас хватало, и меня всякий раз укладывали к тому времени, когда кто-то приходил. Помню шум, доносящийся из столовой, песни, которые не часто, но пели, ту, что отец любил особенно: «Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандальный…» Слуха у него не было, голоса тоже, он тихо подпевал, а глаза у него становились грустными, глубокими и – когда он при этом снимал очки – беспомощными. Помню, я особенно любил его таким, чувствовал к нему пронзительную, недетскую жалость и однажды, выбравшись из кровати, в ночной рубашке, прибежал в комнату, где сидели гости, забрался к нему на колени и обнимал его, особенно остро ощущая не понятое никем желание его защитить.
Помню поразивший меня его нервный рассказ о каком-то совещании, где были Сталин и Жданов (обсуждали учебник новой истории, который отец должен был написать), и то, как отец несколько раз повторял не обещающую добра сталинскую интонацию: «Фридлянд? – переспросил Сталин. – Ну что ж, пусть Фридлянд…» «Понимаешь, – кричал отец, – мне уже не доверяют!..»
Очевидно, это было весной тридцать шестого года, помню, мы уже жили на даче. Наверно, так, потому что сцена очень отчетливо осталась в сознании – значит, самое позднее воспоминание. За несколько дней до конца.
Но я не менее отчетливо помню и по-настоящему роковой день – когда все определилось. А запомнился он мне вот по какому поводу.
Я уже говорил, что день моего рождения отмечался у нас всегда торжественно и трогательно. Я знал: происходит что-то таинственное, что-то приносят, от меня прячут, замолкают, когда я вхожу, и шепчутся. Мне было невероятно любопытно, но я не хотел портить праздника и особенных усилий для разгадывания не прилагал.
Но просыпался рано и в темноте долго вглядывался во что-то сказочно-прекрасное и непонятное, что стояло возле моей кровати.
Так было и в тот раз. Кажется, мне именно тогда подарили целый кукольный театр – сто великолепных кукол сидели перед моей кроватью на чашках, чайниках и бутылках. А вечером должны были зайти мои приятели – ребята из нашего двора.
Я возвращался из детского сада переполненный ожиданием предстоящего праздника и встречи с игрушками, которые утром толком не рассмотрел. Я ворвался в дом, ожидая ответного ликования, но дом встретил меня тишиной, притушенными огнями, мама от меня отмахнулась, и наконец я услышал, что только что привезли отца, у него сломаны обе ключицы – он попал между трамваем и троллейбусом и чудом остался жив.
«Но ведь сейчас придут ребята!» – в отчаянии пискнул я и услышал, как отец в гневе что-то швырнул, наверно ногами, и закричал страшным голосом, что вырастили эгоиста и мерзавца, на отца ему плевать, что я готов уморить его ради своего поганого развлечения. Я понимал, что отец прав, что мои слезы ужасны, но именно поэтому растравлял себя картиной того, что могло бы быть, если бы не было того, что случилось.
Но это, разумеется, чепуха, и я вспомнил об этом только потому, что сразу же вслед за днем моего рождения наступило 1 декабря. А это был 1934 год. Отец лежал без движения, и как только принесли газеты, потребовал, чтобы к нему приехал брат.
Моего дядю все в семье звали Иоська. Он был моложе отца лет на десять, все считали его мальчишкой, всерьез не принимали, и поначалу его судьба целиком зависела от успехов моего отца, как впоследствии беда отца погубила его.
Иоська был секретарем одного из московских райкомов партии, его взяли в одну ночь с отцом – 31 мая, и о том, как интересовал следователя именно тот их разговор 1 декабря 1934 года, Иоська рассказывал мне много лет спустя. Сам он чудом уцелел, отсидел сначала всего лишь пять лет, вышел на ссылку, попал на фронт, а потом снова в лагерь. Но уцелел он действительно чудом, благодаря некоему совпадению, о котором я не могу говорить – живы люди, к этому причастные. История эта могла бы стать находкой для романиста.
Иоська был последним человеком, видевшим отца. Когда на Лубянке Иоську очередной раз ввели в кабинет следователя, отец яростно спорил с ним и, не здороваясь с братом, закричал: «Ты только послушай, что он говорит об отношении Дантона к революционной диктатуре и террору, как комментирует мною же цитируемую речь Дантона о защите граждан от произвольных арестов и соблюдении законов! Да, Дантон трубил об этом полтораста лет назад! Но он сознательно извращает мою мысль, приписывает мне слова Дантона, что Конституция должна быть оставлена как памятник добрых намерений для лучших времен! Хорош метод! Стоит мне поймать его на элементарном нарушении нашего закона, вот здесь – со мной! – и он тут же цитирует из моей книжки слова Сен-Жюста о Дантоне! Он-де хочет сломать эшафоты, потому что боится, как бы ему самому не пришлось взойти на него! Милый мой, – обратился он к следователю, – так вы вовсе разучитесь читать историческую литературу. Я настаиваю на своей правоте в дискуссии с Теодоровичем, невозможно усомниться в величии и бессмертии героев „Народной воли“ – но разве это означает их идеализацию? Пусть прочтет хотя бы предисловие к моему „Марату“, где я повторяю, что молодое поколение историков никогда не забудет сделанного народовольцами…»
Иоська, по его словам, попытался прервать монолог брата, намекнув на неуместность теоретического спора в этой «своеобразной» обстановке. Но отец не привык, чтобы его прерывали, тем более младший брат, и распалялся все больше.
Следователь интересовался подробностями разговора между братьями 1 декабря 1934 года: Иоську обвиняли в том, что он выдал партийную тайну, сказав, что в организации убийства Кирова подозревается Зиновьев, ленинградская оппозиция, что они связаны с Каменевым. Это была, разумеется, сенсация, последствия которой отец едва ли, при всей его проницательности, мог тогда предвидеть. «Но я сказал об этом брату, старому члену партии, – защищался Иоська. – «В комнате находился еще один человек – посторонний». – «Да, – ответил Иоська, – но брат сказал мне, это свой человек и при нем можно говорить что угодно».
Этот человек был Лурье, профессор университета, специалист по древней истории, заместитель декана на историческом факультете, приехавший из Германии. На зиновьевском процессе его смешали с грязью, сделали из него дешевку, и даже подсудимые говорили о нем с омерзением. (Зиновьев сказал о Лурье: «В нем прорывался фашист», он (Лурье) говорил ему (Зиновьеву): «Мы должны идти на использование всех средств»; Каменев, который вел себя на процессе явно не лучшим образом, заявил в последнем слове, что наибольшее наказание для него заключается в том, что он сидит рядом с этим (и другими) убийцами, агентами иностранных разведок, людьми с фальшивыми паспортами.) Мама долго обвиняла Лурье во всех наших бедах, считала злым гением отца и провокатором, быть может, на самом деле связанным с гестапо. Как бы то ни было, но о разговоре между братьями стало известно именно со слов Лурье.
Был и еще один разговор, о котором Лурье счел нужным рассказать следователю. Они стояли как-то с отцом у широкого окна в его кабинете на истфаке. Отец сказал: «Прекрасная позиция. Если установить здесь, в кабинете, орудие, можно держать под обстрелом Кремль и центральные площади».
Их было только двое, и Лурье, попав на Лубянку, мог придумать этот разговор вместе со следователем. Для того это был прекрасный поворот сюжета, великолепный подарок – получше моего заржавленного нагана и охотничьей двустволки.
Но это могло быть правдой. Я легко могу представить себе такого рода размышление – ассоциации, возникавшие в голове человека, работавшего над проблемами истории вооруженных восстаний, остро думавшего над тем, что происходит рядом и какой из этого может быть выход.
Другой вопрос, можно ли придавать значение такого рода «ассоциациям». С точки зрения права здесь нет даже умысла – болтовня. Но вот прошло более тридцати лет, давно вынесли из мавзолея Сталина, с высоких трибун предали анафеме всякое нарушение социалистической законности, но я посмотрел бы на профессора, ассоциировавшего подобным образом у окна, выходящего на Кремль и центральные площади! А если бы добрый человек, которому это было «в шутку» сказано, счел нужным по важным для него соображениям поделиться услышанным с кем-то еще… Тем более, позиция действительно удобная. И широко известны (а историкам, занимающимся историей Франции, в первую очередь) слова Дантона, которые так любил цитировать Ленин, – о смелости.