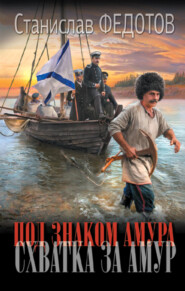скачать книгу бесплатно
– Я и не собираюсь помирать, – засмеялся Литке. – Мне цыганка нагадала восемьдесят с лишком лет, и я хочу все их пройти под полными парусами, с пользой для Отечества. А говорю «могли не застать», потому что получил назначение в Ревель, военным губернатором и главным командиром порта.
– С чего это вдруг? – удивился Казакевич. – Разве мало вам работы в Географическом обществе?
– Не вдруг, драгоценный мой, не вдруг. Столица наша с моря плохо защищена. Один Кронштадт на ближних подступах, а этого мало. Надо и о дальних подумать. С финской стороны светлейший князь Меншиков этим занят, а меня вот в Эстляндию определили. Ну да ладно, вы ведь не за тем пришли. Сейчас нам чаек соорудят, и вы все расскажете. Кстати, Геннадий Иванович, драгоценный мой, отчего ж вы не представили нам в ИРГО[27 - Императорское Российское географическое общество.]свой доклад?
Невельской смутился:
– Князь Меншиков наложил запрет. Ввиду секретности открытия.
– А-а, ну да, ну да, – покивал Литке. – Только, думаю, кому надо, все уже знают. Шила в мешке не утаишь. Ну и бог с ними, доложите после. А мне расскажите, я секреты хранить умею.
Рассказ о походе к устью Амура затянулся допоздна. Федор Петрович дотошно выспрашивал о промерах глубин и течениях, о розе ветров и удобных стоянках и много еще о чем. Радовался открытиям, как малый ребенок, сокрушался, что такие знаменитости – Лаперуз, Броутон, Крузенштерн – допустили одинаковую ошибку, и вдруг задал неожиданный вопрос:
– А вы не допускаете, драгоценные мои, что они все-таки не ошиблись, и Сахалин был полуостровом?
– То есть как это?! – оторопели виновники исторического события. – Мы же прошли через пролив. Там нет никаких следов перешейка!
– Правильно! – Старый адмирал хитренько так заулыбался. – Сейчас перешейка нет, но это не значит, что пятьдесят лет назад его не было.
– Понима-аю, – протянул Невельской. – Район чрезвычайно сейсмически активен. Бывает по нескольку землетрясений в день. И вы полагаете, что во время какого-то сильного землетрясения перешеек просто провалился?
– Вот именно! – воскликнул Федор Петрович. – Провалился! Да просто погрузился на несколько метров – и все! Понимаете, драгоценные мои, – заторопился он, – ведь и Лаперуз, и Броутон посылали поисковые шлюпки, и мне как-то не верится, что их команды оказались столь легкомысленны, что не прошли вперед насколько возможно, а просто поверили собственным глазам. Уж моряки-то отлично знают, что любой поворот может создать иллюзию сплошного берега, а там и поворота нет! По вашим же выкладкам – там открытое пространство! И потом – заметьте! – ни французы, ни англичане не заметили в этих местах течения, а вы-то знаете, что оно есть, от Амура на юг! С другой стороны, давно известно, что в одних местах морское дно поднимается, появляются новые острова или растут старые, а в других – опускается. Почему подобного не могло случиться с Сахалином?
– Ну, это еще надо доказать. – Казакевич покрутил головой в сомнении.
– Думаю, теперь уже ничего не докажешь, – насупился Невельской. – Было, не было, поднялось, опустилось – пусть разбираются те, кому интересно. Сегодня факт неоспорим: Сахалин – остров, и этого открытия у нас никто не заберет!
– Да конечно, конечно! Более того, драгоценные мои, ваше открытие может оказаться вдвойне ценным, если кто-то, как изволил выразиться Геннадий Иванович, заинтересуется и докажет, что пролив образовался уже в наше время.
– Боюсь, сейчас до этого руки не дойдут, – сказал Невельской. – Сейчас куда важнее России закрепиться на тех берегах.
– А когда и где будет поставлен наш военный пост?
– Какой там военный пост, Федор Петрович? – с горечью откликнулся Невельской. – Я могу вам по пунктам сказать, что решил Особый комитет под председательством Нессельроде.
– Ну-ка, ну-ка, что он там решил с таким председателем? – Федор Петрович даже потянулся через стол, уставленный чайными приборами и всем, что полагается к чаю, а кроме того – рюмками и пузатой бутылкой ямайского рома. Чай без рома старый моряк не признавал.
Геннадий Иванович вспомнил четверг 2 февраля, когда явился на заседание комитета, вспомнил внутреннюю готовность употребить всю энергию свою и силу, чтобы убедить его членов, в первую очередь князя Чернышева и графа Нессельроде, в правильности указаний генерал-губернатора Муравьева и в точности исполнения им, Невельским, этих указаний. День был на редкость солнечный, слегка морозный, воздух переливался мириадами мельчайших снежинок, и в душе Геннадия Ивановича царили подъем и уверенность, что у него все получится. Не может не получиться, потому что два члена комитета, министры Меншиков и Перовский, мало того что на их с Муравьевым стороне, но еще и специально приглашали его к себе перед заседанием, чтобы научить, как себя правильно вести с противниками, очень недовольными тем, что за самовольные, по их мнению, действия не последовало от государя серьезного наказания. Ну, подумаешь, не дали ордена, но в чине-то повысили: теперь он капитан второго ранга.
– Вы представляете, Федор Петрович, эти столичные вельможи Чернышев, Нессельроде и Сенявин заявляют, что я ошибся в исследовании лимана и устья Амура, что им достоверно известно о больших китайских силах, охраняющих Амур, и что я наконец должен понести суровое наказание за самовольство и обман. Я, значит, там был, вот мы с Петром Васильевичем там были, все делали сами, все видели своими глазами, а они здесь, в Петербурге, оказывается, лучше знают, что к чему и почему. Ну я им на это самым уважительным тоном, как меня учили Александр Сергеевич и Лев Алексеевич, говорю: мол, мне и моим сотрудникам Бог помог рассеять прежние заблуждения относительно Сахалина и Амура и раскрыть истину. Что же касается китайской силы, говорю, то на Амуре не существует и малейшего влияния китайского правительства, гиляки – народ мирный, и если мы не примем решительные меры, как это предлагает генерал-губернатор Муравьев, любой смелый пришелец может проникнуть в Амур из Татарского пролива и сделать тот край своей добычей. И еще я сказал, что правительство наше всегда может удостовериться в правдивости моих слов.
– Какой, однако, вы молодец! – восхитился адмирал и разлил по рюмкам густой пахучий ром. – Выпьем за смелых и решительных – за генерала Муравьева, который, несмотря ни на что, гнет свою прямую линию, – Литке улыбнулся над невольным каламбуром, – за вас и ваши открытия, драгоценные мои! За то, что не убираете паруса и флаг не спускаете по требованию противника!
Невельской и Казакевич смущенно переглянулись. Нет, они не были скромниками и заслуги свои оценивали по достоинству, а что касается пафоса, то и сами нередко им пользовались в подходящий момент, но сейчас показалось, что случился перебор. Однако что тут поделаешь – старики они и есть старики, им бы все о возвышенном, – поэтому чокнулись и выпили. Тем не менее Невельской не преминул сказать:
– Спасибо, конечно, ваше превосходительство, на добром слове, но как раз паруса нам убирать придется. Как ни защищали мой доклад Меншиков и Перовский, большинство комитета было не на нашей стороне. Почему-то до смерти боятся они неприязненных отношений с китайцами и заранее готовы на любые уступки. Единственно, с чем согласились и что вписали в указ для генерал-губернатора – это поставить зимовье неподалеку от устья, в том же заливе Счастья, поселить там двадцать пять матросов и казаков из Охотска и торговать с гиляками. А меня для этого дела откомандировать в распоряжение Муравьева. Ну и по положению о Сибири дали мне следующий чин – капитана первого ранга.
– А я у Александра Сергеевича выпросил назначение в Сибирскую флотилию, коей еще и в природе нет, – добавил Казакевич.
– А что же будет с Амуром?
– Срубим зимовье, будем наблюдать за устьем, а там – смотря по обстоятельствам. Пост на Амуре я все равно поставлю и флаг российский подниму – и будь что будет! Разжалуют в матросы, отправят на Кавказ, голову снесут – во всяком случае, Амур будет наш, – горячо сказал Невельской и подумал: «Вот и сам вознесся до небес, а старикам пеняешь». Стало немного стыдно, а верный друг Казакевич искоса взглянул и чуть улыбнулся уголками губ. Все понял, стервец!
Собственно, на этом встреча и закончилась. Никаких, казалось бы, изменений в жизнь Невельского и Казакевича она не внесла, а в жизнь адмирала – и подавно, однако его слова о парусах и флаге крепко запали в душу капитана первого ранга, и кто знает, не они ли подвигли его на дальнейшие действия на Амуре? А еще – собственное горячее заявление перед лицом своего наставника. Заявление, после которого отступить было уже невозможно.
2
Утром 4 марта Николай Николаевич наконец-то отправил императору «в собственные руки» тщательнейшим образом подготовленное донесение о путешествии на Камчатку и открытиях Невельского, о состоянии и развитии подведомственного края, а в общем и целом – о проблемах закрепления России на берегах Тихого океана и о своем видении решения этих проблем.
Огромный труд, доклад о котором мгновенно сделал бы генерала Муравьева действительным членом Императорского Российского географического общества, учрежденного недавно, всего пять лет назад, но уже зарекомендовавшего себя солидным научным, а главное – чрезвычайно полезным для познания Отечества учреждением. Это общество было подлинным детищем вице-адмирала Литке, все говорило за то, чтобы он стал и первым его главой, однако мудрый старик рассудил, что куда быстрее и эффективнее общество станет развиваться, если этот пост займет кто-либо из императорской фамилии. Так первым председателем стал великий князь Константин Николаевич, второй сын государя.
Однако если Николай Николаевич и думал о Географическом обществе, то лишь мельком, вкупе с Невельским, а не со своим именем и даже не с Восточной Сибирью в целом – время для того еще не приспело. Тяготы путешествия, нервная лихорадка ожидания Невельского из Амурского лимана, изнурительная работа над донесением императору не могли не сказаться на здоровье не столь уж и крепкого организма генерала. Подорванная малярией печень уложила его в постель буквально в тот же день, как только ушла почта в Петербург. Начались сильнейшие головные и суставные боли, озноб и рвота – в общем, почти все признаки болезни, которой Николай Николаевич страдал, будучи командиром отделения Черноморской линии.
Целый месяц доктора Штубендорф и Персин, сменяя друг друга, старались уменьшить мучения генерала, который, кстати, переносил их весьма стоически. Екатерина Николаевна, казалось, круглые сутки проводила возле постели мужа, несмотря на все его просьбы успокоиться и заниматься своими обычными делами.
– Какие «обычные дела»?! – восклицала Екатерина Николаевна. – Все подождет! Жена должна быть с мужем и в радости, и в горе!
Николай Николаевич брал ее изящную руку, перебирал тонкие пальцы и говорил:
– Мне очень хорошо, когда ты рядом, Катюша, но пренебрегать своими обязанностями нельзя ни в коем случае. Я не один, хуже мне не будет, а ты на виду, на тебя все смотрят, с тебя пример берут. Твой с Элизой концерт принесет людям радость и удовольствие, а их так мало в нашей жизни. И в Совете Сиропитательного дома твое слово имеет вес…
– Хорошо, хорошо, дорогой, тебе вредно много говорить. – Екатерина Николаевна ласково гладила мужа по заросшей рыжеватой щетиной щеке. – Я все буду делать, как ты сказал.
Это повторялось не раз и не два, но однажды она помолчала, словно собиралась с мыслями, потом осторожно спросила:
– Это правда, что ты обещал Волконской хорошее место для жениха ее Леночки Дмитрия Васильевича Молчанова?
– К сожалению, правда, – вздохнул Николай Николаевич.
Его лицо мгновенно покрыли крупные капли пота. Екатерина Николаевна поняла, что он взволновался, что ему не хочется говорить об этом, но, промокнув его лоб и щеки, продолжила с настойчивостью:
– И поэтому ты убрал Стадлера?
– Что значит «убрал»? – вскинулся генерал. – Перевел на очень важное место. Ты же знаешь, как плохо у нас обстоит дело с судейскими. Сплошь и рядом судят не по закону, а кто сколько даст на лапу или как начальство посмотрит. – Он говорил возбужденно, даже излишне горячо, но под пристальным взглядом жены смешался, увял и буркнул: – Ну да, убрал. Убрал, черт возьми! Как я мог отказать Марии Николаевне? Она в письме меня слезно просила.
– А Андрей Осипович, между прочим, прощался со мной тоже со слезами. Представляешь, молодой красивый сильный мужчина заплакал, как ребенок, когда сказал, что ты не подал ему руки.
Муравьев побледнел. С лица его, только что бывшего красным от возбуждения, мгновенно схлынула кровь. Он закусил губу и здоровой рукой крепко сжал руку жены.
– Зачем ты это говоришь именно сейчас? – чуть слышно произнес он.
– Затем, что сейчас ты не столь защищен своим самоуверенным упрямством и услышишь все, что я скажу. Ты слишком легко веришь слухам, особенно плохим, и потому иногда бываешь неоправданно жестоким.
Муравьев поднял руку, прося паузы, и Екатерина Николаевна послушно замолчала.
– Наверное, ты права, дорогая, но что поделать – такой уж у меня характер, и менять его поздно. – Он говорил медленно, с передышками, паузы давали ему возможность не только передохнуть, но и подумать над следующими словами. – Но я же прислушиваюсь к тебе и что-то исправляю. Как вот было с тем же Крюковым. Не так ли? – Катрин кивнула. – Со Стадлером вышло нехорошо, конфузно, но он и сам во многом виноват. А Марии Николаевне я не мог отказать. Не мог – и все! – Снова передохнул. Жена ждала. – А Молчанов во главе Четвертого отделения будет не хуже, хотя у него за плечами не Московский университет, как у Стадлера, а всего лишь Училище правоведения, зато он много моложе и опыта набраться успеет. Что скажешь, дорогая?
Он все еще держал жену за руку, и она погладила тыльную сторону его ладони, сказала задумчиво:
– Да, моложе, но ведь и стойкости против искушений много меньше.
Николай Николаевич нахмурился:
– И снова ты права, мудрая моя. Не поддался бы соблазнам. Место для корыстолюбцев уж больно привлекательное. Впрочем, и для огульных обвинений во взятках – тоже. О Господи! Хоть в оба глаза следи. Или службу контрольную создавай из надежных людей…
– Но контроль этот должен быть скрытным, – вставила Екатерина Николаевна.
Муравьев удивленно посмотрел на нее:
– Верно. Только кто ж такую службу позволит создать, себе-то во вред? Да и где людей набрать для такой службы? Хотя… – Глаза Муравьева вдруг заискрились хитринкой, и Катрин навстречу этому оживлению улыбнулась с надеждой: может быть, оно говорит о начале выздоровления? – Есть у меня люди для этого дела. Есть! Уж один-то точно имеется, и второй, пожалуй, на примете. А больше и не надо.
3
Вагранов изменился.
В течение жизни, естественно, люди в большинстве своем меняются – чаще всего незаметно и постепенно. Очень редко кто-то остается неизменным на протяжении большого отрезка времени, о таких говорят с тщательно скрываемой завистью: «Нет, вы посмотрите, как он (или она) прекрасно выглядит! Это в свои-то годы!» – и с удовольствием напоминают о возрасте.
Иван Васильевич, наоборот, стал меняться быстро, но не внешне – для стороннего и маловнимательного глаза он был все тем же аккуратным, подтянутым, а потому для своих сорока трех лет стройным и даже, можно сказать, элегантным офицером. Честным, безукоризненно порядочным и глубоко преданным генерал-губернатору. Скорым и точным по исполнению особых поручений. А вот внутренне… да, внутренне изменился, причем за очень короткий промежуток времени, и настолько сильно, что удивился сам себе. Он вдруг почувствовал, что ему стало интересно жить и, соответственно, служить. Конечно, Иван Васильевич и прежде не скучал, тем более после появления Элизы, но с некоторых пор краски его служебной жизни, прежде однообразные и довольно тусклые, расцвели многоцветием, стали гораздо ярче, пожалуй, сравнимо с тем радостным светом, что принесла ему любовь. Это его состояние не могло долго оставаться только внутри и постепенно стало просачиваться наружу, накладывая свои оттенки и на внешние стороны жизни штабс-капитана Вагранова: уходила прочь обычная замкнутость, появились раскованность и свобода в общении.
Эти изменения первыми заметили, конечно, Элиза и Муравьев. Но ни та, ни другой не стали допытываться о причинах, видимо, считая, что со временем все разъяснится или сочтет нужным рассказать сам Иван Васильевич.
А все началось с обычного для порученца задания – остановить и препроводить в Иркутск пару английских разведчиков – так называемых геологов супругов Остин. Продумывание операции совместно с плотовщиками Казаковыми и казачьим сотником Кириком Богдановым, а затем ее блестящее исполнение доставили Ивану истинное, никогда прежде не испытанное удовольствие. Оно умножилось еще тем, что «супругой» Остина оказалась хорошо знакомая по Кавказу бывшая «абхазка» Алиша.
Следующим шагом в этом направлении стало обнаружение сначала засадных лежбищ у Ленских столбов, затем банды, идущей впереди отряда генерал-губернатора на Охотском тракте. По свежести травяной подстилки на лежбищах Иван Васильевич определил, что засадники ушли совсем недавно, и предложил генералу догнать их и выяснить, на кого они охотились.
Генерал не прислушался. Посчитал, что будет зряшная потеря времени. Да и вообще не поверил, что готовилось покушение. Но вот на тракте мнение его изменилось, и засада была уничтожена.
Так в Вагранове проснулся контрразведчик. Он вдруг понял, что это дело – его, что следить, расследовать, пресекать вражеские поползновения в любых проявлениях – есть то самое, чего много лет ждала и жаждала, сама того не понимая, его душа. Откуда это в нем взялось, объяснить он, конечно, не мог, да и не пытался. Может быть, от отца, охотника-следопыта, с которым Иван сызмала ходил на зверя в северную тайгу, а может, каким-то образом прорвался наружу зов неведомых предков. Кто знает, с чего это вдруг в человеке, весьма далеком, допустим, от поэзии, проявляется тяга к стихосложению? Или к музыке, к живописи? Да хотя бы к садоводству, разведению кроликов или наблюдениям за погодой? Бывает, конечно, что-то передается по наследству, но вон у Бернгарда Васильевича Струве отец – знаменитый астроном, а сын в земные дела уперт, вверх толком-то и не посмотрит. Звезд с неба не хватает – это точно про него. Хотя… звезды считать – нужна жуткая скрупулезность, а ее-то у Бернгарда Васильевича просто в избытке; так что все-таки от папаши что-то перепало.
Впрочем, Иван Васильевич вначале даже не понял, как называть свои новые устремления. К его несказанному удивлению, их точно определила Элиза, когда ей надоело ждать от возлюбленного какого-либо объяснения происходящих перемен, и она спросила его напрямик.
Он тогда вернулся из командировки в Забайкалье – Муравьев посылал расследовать обстоятельства бегства из-под стражи Христофора Кивдинского, – был веселый и злой одновременно, и это, как ни странно, очень ему шло, а потому ужасно нравилось Элизе.
Перед ужином Иван Васильевич доложил генералу результаты расследования, они вместе вышли к столу, за которым их ожидали Екатерина Николаевна и Элиза, оживленно говорили, даже шутили, что случалось не столь уж и часто. Вагранов рассказал забавную историю про Корнея Ведищева, как козел его на березу загнал и продержал там до самого вечера; передал от старика берестяной короб с кедровыми орехами и бутыль козьего молока.
– Это – чтоб здоровье было крепким. И старый просил напомнить о вашем обещании, Николай Николаевич, взять его на Амур.
– Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается, – помрачнел Муравьев.
– И я ему то же сказал, почти теми же словами. А Корней мне: ничё, говорит, Иван, и пяти годков не минет, на Амур Расея двинет; будет дурою из дур, коль забудет про Амур.
– О, стихи! – восхитилась Элиза. – Корней есть поэт! Русский Теофиль Готье!
Все засмеялись, кроме генерала.
– Поэт, поэт, – проворчал он. – Его бы стихи да правительству в уши.
– Он не поэт, он – ясновидящий, – серьезно сказала Екатерина Николаевна, положив свою тонкую руку на покалеченную мужнину. – Мне почему-то кажется, что так и будет.
Когда разошлись по своим спальням, девушка потребовала, чтобы Иван все ей рассказал как можно подробнее.
– Да что там рассказывать! – усмехнулся Вагранов, обнимая ее. – Я так по тебе соскучился!
– И я, – шепнула она прямо ему в ухо. – Бистро-бистро раздевайся и идьи ко мне.
Сама тоже поспешно освободилась от лишней одежды и хотела скользнуть в кровать, но Иван перехватил ее и крепко прижал к себе. Они оба очень любили это соприкосновение, горячее и плотное, когда непонятно как все выпуклости и впадинки на их телах совершенно фантастическим образом укладывались друг в друга, не оставляя малейшей щелочки, воплощая наяву и телесно расхожее утверждение о единстве душ. Оба мгновенно пьянели от такого слияния, теряли голову и могли без устали ночь напролет повторять много раз пройденное и на ходу изобретать новые положения и движения в безумном танце любви.
Танец любви – это придумала, конечно же, Элиза, а Вагранов, не слишком умелый в обычных танцах, с радостью с ней согласился. Он никогда не забывал, что был когда-то простым вятским охотником и рядовым солдатом, и слова прелестной musicienne стали для него как бы высшей оценкой его способностей и возможностей настоящего мужчины.
Однако в эту ночь Иван не сумел выступить во всей своей красе – сказалась усталость от длинной дороги, – и испугался, что Элиза останется недовольной, но любимая все поняла, успокаивающе огладила его мускулистое тело, еще вздрагивающее, как вулкан после извержения, попутно приласкала своего любимца, доставляющего ей неописуемое наслаждение, и устроилась головой на широкой груди.
– А теперь, Ванья, рассказывай! En detail![28 - Подробно (фр.).]
Увиливать уже было невозможно, и Вагранов начал рассказывать о своем расследовании, постепенно все больше увлекаясь и горячась. Он не сомневался, что бегство Кивдинского подстроено верхнеудинским исправником Шамшуриным, который оказался старым знакомым штабс-капитана еще по Кавказу. Иван Васильевич был убежден, что поручик предательски сдал тогда укрепление горцам, но Муравьев не поверил, что русский офицер способен на такое, решил, что это – простое разгильдяйство, и по-свойски начистил виновнику физиономию.
– Шамшурин? – наморщила лоб Элиза. – Смешная фамилия!
– Хорошая русская фамилия, – сердито возразил Иван. – Только человек ее носит нехороший, за деньги готовый все продать.
– Ты стал другой, Ванья, – сказала вдруг Элиза. – Ты тепьерь кто?
– Как – кто? – удивился Вагранов. – Офицер для особых поручений.
– Нет. Ты и раньше бьил для особых поручений, но тебье бьило скушно.
– А-а, вон ты о чем. Да, теперь мне не скучно. Я не знаю почему, но служить стало интересно.
– Это потому, – серьезно глядя ему в глаза, сказала девушка, – что у тебья талант. Ты есть настоящий contre-eclaireur[29 - Контрразведчик (фр.).].
Вагранов понял и испытал что-то вроде потрясения. Он и слова-то такого не знал, а насколько же оно верно обозначило его новое поприще. Ну да, он – против вражеской разведки и вообще против врагов России и генерал-губернатора, что, по сути, одно и то же, потому что в его, Вагранова, понимании все служение Муравьева предназначено лишь на пользу царю и Отечеству. Но откуда столь непростое слово с таким глубоким смыслом известно его Элизе, этой нежной и тонкой, восхитительно прелестной девушке, которая со своей виолончелью должна быть невероятно далека от этой грубой, порою кровавой работы?
– О, я его придумала! – засмеялась любимая. – Для тебья!
Она, конечно, шутила: такое слово просто не придумаешь. Значит, не захотела отвечать. Эта мысль царапнула Ивана, однако волна радости, оттого что нашлось точное определение его личным действиям, замыла легкую царапину. Как замечательно: он – контрразведчик! Надо будет завтра же сказать Николаю Николаевичу и попросить его, чтобы все поручения такого рода давались именно ему, Вагранову.
Муравьев новому слову особо не удивился, возможно, знал его во французском языке – спросить Иван Васильевич постеснялся. И не потому, что стыдился незнания языка, – сам не зная почему, он не хотел связывать это слово с Элизой.
Генерал сказал только:
– Главные враги, Иван, сидят в столице, до них тебе, как до неба, не дотянуться. А у нас вряд ли будет много таких поручений. Но я твое пожелание учту и, если что-то такое возникнет, буду иметь в виду.
Вот кого посчитал Николай Николаевич первым человеком, пригодным для новой службы.
По случаю возвращения из Петербурга Корсакова, а вместе с тем – приезда Невельского и Казакевича Николай Николаевич, вопреки возражениям жены и врачей, встал с постели и облачился в рабочий мундир.
– Вы что, смеетесь? – сказал он негодующим по этому поводу. – Офицеры прибыли из столицы, можно сказать, от самого императора, а генерал их будет принимать, лежа на перине?
Екатерина Николаевна лишь руками развела, а Штубендорф и Персин, не решаясь возразить, удалились, сердито фыркая. Принимал генерал приехавших в кабинете, всех разом. Каждого сердечно облобызал, усадил на кожаный полукруглый диванчик возле низкого столика, достал из застекленного шкафа бутылку коньяку, хрустальные пузатые рюмки (Невельской улыбнулся незаметно под висячими усами – уж очень обстановка напомнила уголок отдыха в кабинете Литке), а в довершение – большую плитку шоколада. – Какая роскошь! – не удержался от восхищенного вздоха Казакевич. – Неужто наш, российский? – Увы, Петр Васильевич, увы! – отозвался Муравьев, расставляя и раскладывая угощение на столике. – Швейцарский. Уж так мы в России устроились: коньяк пьем французский, шоколад едим швейцарский, а платим за все это своими богатствами. Ладно, хоть хлеб да масло за границей не покупаем. Он сам разлил коньяк по рюмкам, разломал шоколадную плитку на дольки – по-походному, прямо на обертке.