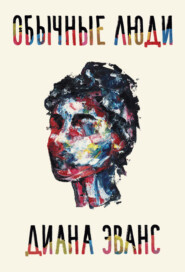скачать книгу бесплатно
– Именно, Ви! О чем я и говорю. Для чипсов это не так уж плохо, если в результате у нас есть… какой там вкус, принцесса?
– Тайский сладкий чили и сметана.
– Вот-вот. Немного здоровой конкуренции не помешает, если на выходе получаются такие удивительные сочетания. Но если получаются передачи, которые – и там это отлично знают – оказываются, извините за выражение, полной лабудой, то для развлекательной индустрии это скверно, правда? Скажем, чем им не угодила «Трибуна»? Помнишь «Трибуну»?
– Ну как я могу забыть, пап. Ты нас ею мучил каждую субботу. Без исключений.
– Да, Дэмиэн. И если в это время кто-нибудь его отвлекал, он очень, очень сердился, – добавила Верена.
– Именно. Именно. Я обожал эту передачу. А они ее убрали. Просто не могу этого понять. И теперь вместо нее «В фокусе – футбол», а это, по-моему, уже совсем не тот уровень. Гэри Линекер – олух, извините за выражение. Модные рубашечки, гладенькое лицо, дамочки от него без ума, но он – не комментатор. С Доном Лезерманом не сравнить. Может, он и посмазливее, но мозгов у него и на половину Дона не наберется.
– Зато он много сделал для чипсов, – заметила Верена. – Все эти рекламные ролики…
– Но только для «Уолкерс». Они не делают новые вкусы, – сказала Стефани.
– То-то и оно. – Патрик взял еще одну чипсину. – Футболист превращается в рекламщика, а потом – в комментатора. Это как раз и возвращает меня к изначальной мысли, Дэмиэн. Просто помни: ты можешь быть кем хочешь, но очень важно ценить нынешнее положение и извлекать из него уроки. Может, однажды солнце на стеклянных поверхностях слишком раскочегарится, и придется, так сказать, выйти охолонуться. Но пока на твоем попечении драгоценнейшая жена и две драгоценные принцессы, да еще вот этот малютка принц – поди-ка сюда, парень! – ты должен быть добытчиком, дружище, и держать это в фокусе – ха-ха, как футбольный мяч, а? Кто знает, к чему это все приведет, верно? Нет предела совершенству и все такое.
Все смотрели на Дэмиэна с сочувствием, отдавая должное искусной череде Патриковых каламбуров.
– Ну да… Спасибо, Патрик, – пробормотал Дэмиэн.
– Ты великолепный исследователь воздействия солнца на обширные стеклянные поверхности многоэтажных квартирных комплексов, – сказала Стефани.
– Наверняка так и есть, – согласилась Верена. – Стеф, тебе нужна помощь на кухне?
– Нет, мам, спасибо. Все под контролем. Сиди спокойно, отдыхай. Может, тебе еще вина?
Возможно, именно из-за стойкого эффекта этих родственных распеканий Дэмиэн проснулся сегодня вялым, подавленным и неудовлетворенным. От них у него всегда оставалось впечатление, что он живет неправильно, Стефани неправильная, этот дом неправильный и вообще все неправильно. В присутствии родителей Стефани, казалось, возвращалась к своей давней, более провинциальной, более скрытной ипостаси, взращенной уроками верховой езды, долгими прогулками по сельским окрестностям, супружеским стоицизмом и детской, выходящей окнами на Суррейские холмы и очень похожей на ту, которую Стефани обустроила здесь. Дэмиэн с трудом мог разглядеть за этой цветущей папиной принцессой ту смелую, решительную, куда более интересную женщину, в которую он влюбился и на которой женился. Да и влюбился ли он на самом деле? Может, просто она заставила его почувствовать себя нормальным, энергичным человеком, потому что, в отличие от него, была целеустремленной и решительной в том, что касалось жизненных планов, и он пошел у нее на поводу? По-настоящему ей хотелось, призналась она ему как-то в пабе в самом начале отношений, только одного: завести семью. «Я хочу, чтобы у меня были дети, дом и муж. Работать я буду, но работа не так важна. Настоящей работой для меня станут дети. Я хочу о них заботиться. И не намерена их спихивать в ясли в три месяца. Я буду учить с ними алфавит, гулять в парке, помогать им рисовать картинки. Буду их кормить. Ну да, я старомодная. Но я имею право всего этого хотеть».
Так оно и вышло. Теплый дом-таунхаус, к которому вела гравиевая дорожка. Безопасная, тихая улица. Качели на заднем дворе. Полосатый газон. Бамбуковая беседка, подаренная Патриком, откуда летними вечерами выбегали дети: шелковистые щеки, мягкие волосы. Они поклонялись своей матери, словно восходящему солнцу. Они заполняли ее до краев. Она учила их различать деревья, видеть хорошее друг в друге, контролировать эмоции. Их школа была в числе лучших и получала государственную поддержку. Джерри трижды в неделю оставался по утрам в хороших, светлых яслях, пока Стефани работала в местном благотворительном фонде. Рядом располагался большой парк и два фитнес-центра, плюс до неприличия широкий выбор складов-магазинов «Сделай сам», стоков популярных марок одежды и сетевых забегаловок в нескольких минутах езды. А потом они всегда возвращались в этот большой, теплый и крепкий дом с голубой парадной дверью и голубым диваном в гостиной, где можно сидеть и смотреть в окно на свет и на листья скального дуба. Стефани очень любила этот дом. За опрятность, за толстые ковры наверху, за поверхности из старого дерева. Ей нравилось, как эта опрятность сталкивается с хаосом, порождаемым детьми, – их обувью, фломастерами, пластмассовыми микрофонами, куклами, пазлами, конструкторами лего, – однако никогда полностью ему не поддается, поскольку Стефани разработала эффективную систему хранения: в этом доме каждая вещь имела свое место, пусть и не всегда находилась там. Плюшевые мишки, куклы и всякие мягкие игрушки жили в оранжевой подвесной икеевской корзине над лестницей. Крюк для этой корзины Дэмиэн прикрепил не без труда, он вообще не отличался особой рукастостью (еще одна причина, по которой Патрик его не особенно ценил). Предметы меньшего размера, изображающие людей или животных, хранились в пластиковой коробке с меткой «Живые существа». Коробка вставлялась в массивный стеллаж в игровой комнате, в котором было еще несколько отделений: «Бумага» (для собственно бумаги, книжек-раскрасок, наклеек и открыток), «Звуки» (для погремушек, музыкальных инструментов, свистулек и т. п.), «Предметы» (для неодушевленных игрушек, кукольной мебели, ракушек, стеклянных шариков и т. д.). Стефани наклеила эти ярлыки в минуты, свободные от развозов в школу / из школы, домашних дел и общего управления домом. Также она развесила по комнатам фотографии себя самой, Дэмиэна и детей. Этот дом и в самом деле очень напоминал тот, в котором она выросла. Детство Стефани было вполне счастливое, и ей ничего не стоило его воспроизвести. Она была довольна. Это давалось ей легко.
Дэмиэн начинал свою жизнь совсем не так. Он был не из Суррея, а из Южного Лондона – дитя многоквартирных домов Стоквелла. Газон если и был полосатым, то находился в общем дворе. Лестница располагалась не в прихожей, а за входной дверью, одного из четырех утвержденных государством цветов: красного, черного, голубого или зеленого (Лоуренс выбрал черный). На пятый этаж можно было подняться на лифте, но его кабину часто использовали в качестве туалета собаки, а может, пьяные – только сами виновники знали истину. Добравшись до своего этажа, ты промахивал пластиковым брелоком-ключом над запирающим устройством, и перед тобой отворялась тяжелая дверь с металлической окантовкой, открывая путь в холодный узкий коридор. В каждой квартире имелась маленькая ванная, маленький туалет без окон, маленькая кухня, средних размеров гостиная, а также одна, две или три спальни, в зависимости от количества жильцов (у Лоуренса с Дэмиэном было две). Имелись также балкончики, которые владельцы украшали сообразно собственному вкусу. Некоторые оставляли их пустыми или использовали только для сушки белья; другие пускались во все тяжкие: размещали подвесные кашпо, садовые столики, деревья в горшках, фонарики, – гордясь и вдохновляясь этим прямоугольником на открытом воздухе, стараясь добавить какой-нибудь флоры, перенести сюда кусочек Челси. Балкон Лоуренса и Дэмиэна был пуст, если не считать скамеечки и пепельницы на подоконнике, а квадратный проем над перилами затягивала зеленая казенная сетка, которая защищала балкон от птичьих экскрементов. Здесь Лоуренс размышлял большую часть времени – вечером, ночью, утром и днем. У него не было желания выращивать цветы и создавать уют. Главным для него были раздумья.
Лоуренс Хоуп, общественный деятель и публицист, переехал в Англию с Тринидада еще подростком и сделал карьеру на своей ярости. Он был одним из активистов, лично видевших квартирных хозяев, которые не желали сдавать чернокожим комнату, полицейских, которые держали чернокожих взаперти, уличных отморозков, которые не могли оставить чернокожих в покое. И они давали сдачи. Лоуренс бунтовал, организовывал и руководил. Он писал статьи о пагубной жестокости расизма, выступал в тускло освещенных общественных центрах с речами о необходимости действовать, о важности черного единства. «Без единства мы погибнем», – говорил он Дэмиэну за завтраком, или за просмотром вечерних новостей, или субботним вечером в прокуренной гостиной, в компании товарищей-активистов. Тусклые залы общественных центров постепенно сменились большими лекционными, а его статьи начали печатать газеты. Сборник эссе Лоуренса Хоупа, посвященный борьбе за расовое равенство в Великобритании, считался в научных кругах серьезной работой и до сих пор входил в программу некоторых университетских курсов. Больше он не издал ни одной книги, и ему так и не удалось получить постоянную должность в университете; однако он продолжал писать, сидя в углу своей спальни, которую использовал в качестве кабинета, – даже когда интерес к его статьям пропал, приглашений выступить почти не стало, само движение, каким он его видел, рассыпалось, мир отвернулся и сосредоточился на себе самом, а наследие Тэтчер сделало из людей эгоистов. Лоуренс продолжал писать и размышлять, и в конце концов у него не осталось ничего, кроме ярости, и он усыхал вместе с ней, становясь все более тощим и одиноким. «Мы по-прежнему несвободны, – твердил он Дэмиэну. – Считается, что свободны, но это не так. Предстоит еще масса работы». Впоследствии Дэмиэна буквально преследовала эта предстоящая работа. Он смотрел на книжные полки, покрывавшие стены отцовской комнаты и уставленные трудами Фанона, Болдуина, Райта и Дюбуа, этих храбрых, увенчанных ореолом людей, которые всю жизнь занимались столь важным делом, – и задумывался о том, как же он сам будет продолжать это важное дело, в то время как иногда ему хотелось просто прийти из школы домой и посмотреть «Соседей», не думая о том, почему в этом сериале нет черных, а потом поесть мясную запеканку, или лазанью, или еще что-нибудь такое, что едят в счастливых домах, где кто-нибудь готовит.
Женская рука, вот чего ему не хватало. Этого светлого, нежного, яркого элемента. Тоска по женскому присутствию превратила его в сексиста. Ему хотелось, чтобы пришла какая-нибудь женщина, поставила на подоконник цветы и сделала их балкон похожим на Челси. Чтобы она стирала занавески, меняла постельное белье. Поднимаясь по лестнице на свой пятый этаж, Дэмиэн воображал, что вдыхает не больничную вонь муниципальной лестничной клетки, а струящийся из-под черной двери аромат специй, маринада, помидоров, курицы: обещание ужина, горячее блюдо ее любви. Женщина, по которой тосковал Дэмиэн, не была его матерью – та уехала в Канаду, когда Дэмиэну было пять, и так и не вернулась, так что он ее почти забыл. Женщина, по которой он тосковал (и которая в конце концов тоже их покинула), звалась Джойс и когда-то встречалась с его отцом, приходила к ним домой и создавала уют.
Джойс тоже приехала с Тринидада, только позже. Она была светлой, веселой. В ней еще чувствовался легкий ветерок родного острова. Она носила яркие юбки, которые трепетали на ветру, а в зимние месяцы – фиолетовый кардиган с золотыми пуговицами, а еще у нее были чудесные мягкие руки. Она готовила самую вкусную еду, какую Дэмиэну доводилось пробовать, вкуснее, чем в забегаловке на Брикстон-роуд, где они с отцом были регулярными клиентами. В маринады она щедро добавляла перец, блюдо из риса с горохом получалось у нее восхитительно рассыпчатым. Она пекла имбирные кексы, покупала ананасы и вырезала из них сердцевину. Они ели все вместе за раздвижным столом в гостиной – прежде это была просто пыльная подставка для заблудившихся папок и пустых стаканов, теперь же он всегда был полностью раздвинут и на нем стояла ваза с фруктами – и да, с цветами тоже. Джойс говорила, что мужчины – это мальчишки, а мальчишки – это мужчины, и что и тем и другим нужны женщины, чтобы помогать им жить. «Дэмиэн, – говорила она, – вытри рот салфеткой, когда доешь». Или: «Дэмиэн, я вижу, ты в той же рубашке, что и вчера, тебе надо ее поменять». Сидя за столом, они говорили о том, как прошел их день, рассказывали о своей жизни. Лоуренс стал мягче, он смеялся. Дэмиэн узнал об отце множество вещей, которых не знал прежде, – о его детских годах в Тринидаде, о которых раньше Лоуренс почти не упоминал, словно они не имели значения, словно его сформировала только Англия, словно он не существовал до того, как стал сердитым. Зов активизма отступил перед светлым очарованием Джойс, и отец тоже ненадолго просветлел.
Но эти отношения продлились недолго. Лоуренс устал жить в комнате вдвоем и жаловался, что не в состоянии думать. А Джойс стала обвинять его в том же, в чем когда-то обвиняла Дэмиэнова мать: что он – холодный, зашоренный, эгоистичный, высокомерный, что он никуда с ней не ходит, что он больше не старается ее порадовать, что он ее не ценит. Аромат маринада все реже встречал Дэмиэна, пока он взбирался по четырем лестничным пролетам, и однажды вечером, отпирая входную дверь, он услышал, как они ссорятся. Джойс говорила отцу, что тот не умеет обращаться с черными женщинами. Он может встречаться только с белыми женщинами, потому что белым женщинам не требуется такое уважение, какое нужно черным. Лоуренс велел ей убираться. Дэмиэн никогда не видел его таким сердитым. Позже, в темноте своей спальни, Дэмиэн почувствовал, что рядом с ним опускается ее мягкий силуэт, что его по щеке легонько гладит ее мягкая рука. Он не стал открывать глаза; он знал, что она уходит, и не хотел прощаться. Шорох ее одежды, когда она вставала, звук ее шагов, а потом полная тишина: она остановилась у двери. На следующее утро ее уже не было. Квартира вернулась к своей прежней аскетичности, Лоуренс с еще большим упрямством вернулся за свой унылый рабочий стол, к проблемам обращения полиции с чернокожими, подавления брикстонских волнений, несоразмерно большого числа черных в психиатрических лечебницах и в тюрьмах.
От всего этого у Дэмиэна возникло ощущение, что он обязан сделать в жизни нечто значительное. Подобно члену семейства Марли или Кути, он должен продолжать отцовскую работу, принять свое положение в социуме как проводника происходящих перемен. Однако, пытаясь решить, какую специальность выбрать в университете, чтобы следовать своему призванию, Дэмиэн уперся в стенку. В глубине души ему хотелось изучать литературу, но он чувствовал, что должен пойти на политологию или социологию, – и, взбунтовавшись против этого чувства долга, выбрал философию и провел три года, пристраивая сомнительные теоретические и литературные подпорки к главному вопросу о смысле всего: почему мы существуем? действительно ли мы существуем? для чего живем? какова цель религии? Когда Дэмиэн покинул университет, будущее представлялось ему еще более туманным; он позволил вовлечь себя (через знакомых Лоуренса) в написание рецензий на книги и научную помощь для съемок документального фильма о работорговле, над которым Лоуренс работал уже двенадцать лет. Между тем Дэмиэн подумывал пойти в магистратуру по филологии, словно бы возвращаясь к своему первоначальному порыву, но к тому времени у него появилось ощущение, что уже слишком поздно. Он обратился к рынку вакансий, к этим объявлениям, которые приводят опасные мечтания в безопасный тупик, и после нескольких собеседований как-то незаметно оказался в Эджваре, в муниципальном жилищном офисе, и принялся составлять черновики договоров об аренде, писать извещения о выселении, а также заниматься заявками на жилищные льготы. Не такую работу представлял себе Дэмиэн, но эту он воспринимал как временный вариант – пока не поймет, чем же действительно хочет заниматься. Он читал книги. Читал Шекспира, Кафку, Фланнери О’Коннор. Читал Рэймонда Карвера, и ему страстно хотелось самому запечатлевать пронзительные моменты человеческой жизни. И вот по вечерам, сидя в своей комнатке за старой партой из комиссионки, он начал писать книгу. Это был роман воспитания – история о мужчине двадцати с небольшим лет, который пытается найти себя. Дэмиэн работал над книгой целый год, куря сигарету за сигаретой, сидя в коротких носках и длинных шортах, так что голыми оставались только лодыжки – это было очень важно, холодок на щиколотках помогал ему сосредоточиться, – делая подробные конспекты и читая подходящие книги по психологии и теории идентичности. Но настал момент, когда он снова уперся в стенку. Он запутался. Слова спотыкались друг о друга. Всякий раз, когда Дэмиэн пытался написать фразу, мысль, возникшая у него в голове, жухла и обращалась в пепел; его охватило какое-то бессилие, и он не мог продолжать. Примерно в это время он и встретил Стефани.
Она остановилась возле него в третьем коридоре ислингтонского выставочного центра – красные туфли, каштаново-рыжие волосы, чистая бледная кожа, ростом чуть повыше его – и спросила, не знает ли он, как по этой запутанной карте найти конференц-зал, после чего они вместе отправились на поиски. С самого начала было ясно, что Дэмиэн ей понравился. Она этого не скрывала, она сразу все решила. Она подумала (и позже призналась ему), что он выглядит в точности как тот мужчина, который ей недавно приснился: немного коренастый и склонный к полноте, крупные руки, мелкие темные кудряшки, смуглая кожа, – он внезапно ворвался в ее сон, словно что-то искал. Может, тебя и искал, сказал он ей. Может, и так, согласилась она. Они лежали в его комнате, играла пластинка Бобби Макферрина, на полу лежали конверты для винила, сброшенные красные туфли валялись под партой, соприкасаясь носками. В этих туфлях она вместе с ним исходила весь город: концерты, пабы, рестораны, кино, глинтвейн в сумерках Камдена, вид на Темзу с набережной Хаммерсмита. Город был для нее лишь временным пристанищем, потом она вернется обратно на холмы, вместе со своей семьей, своими детьми, которые – она знала – у нее обязательно появятся, а потом будут носиться по полям и запускать змеев, будут кататься на лошадях, узнают, что такое леса и луга. В Лондоне тоже есть леса и луга, замечал Дэмиэн, но они же не такие, возражала она, в них все равно слышен шум машин, вой сирен, стрекот вертолетов, терпеть их не могу, сразу думаю об авианалетах. Они продолжали спорить, когда вместе сняли квартиру в Южном Лондоне, в районе Далвич: там они часто ходили в лес, стали супругами и затем гуляли по лесу уже с Саммер, которая сидела в сумке-кенгуру возле груди Стефани. Но однажды, когда они ехали на машине по переулкам Форест-Хилл, а Саммер мирно спала в детском кресле, Стефани среди бела дня увидела следующую сцену. На тротуаре стояло трое мужчин: один держал в руке камень размером с голову Саммер и целился этим камнем в голову второго, а третий пытался помешать нападавшему. Стефани не стала останавливаться, чтобы посмотреть, швырнул ли тот камень, но ее ужаснуло его кровожадное лицо. Приехав домой, Стефани в тот же вечер объявила Дэмиэну, что возвращается в Суррей, нравится ему это или нет, и пропустила мимо ушей его аргументы, что не только в Лондоне, но и в окрестных графствах людям, вероятно, иногда проламывают голову большими камнями.
Патрик и Верена были довольны. Они помогли дочке и зятю с начальным взносом за первый дом на окраине Доркинга, а потом, когда Стефани вынашивала Аврил, – с первым взносом за нынешний, финальный, гораздо более просторный дом на Ралли-роуд. Дэмиэн твердо решил вернуть все деньги ее родителям, но пока этого сделать не удалось. После знакомства со Стефани он дважды менял работу, но так и не сумел выбраться из жилищной сферы, только пробился выше – в консалтинговое агентство в Кройдоне. Теперь по пути на работу ему вообще не требовалось соприкасаться с Лондоном. Он мог вообще не заходить в метро. Он вливался в толпу пассажиров, стекавшихся на станцию Ист-Кройдон в 17:20, – вокруг нависали стальные офисные комплексы и высоченные серебристые небоскребы, напоминая какой-то инопланетный городок, – и заходил в набитый поезд, который затем по гладким, скоростным рельсам устремлялся за город; толпа понемногу редела, за окнами виднелось все больше зелени, город оставался далеко позади, и Дэмиэн добирался домой как раз вовремя, чтобы помочь Стефани уложить детей. Иногда он даже успевал с ними поужинать и послушать, как они рассказывают про свой день: про отметки за таблицу умножения, поездку на ферму, рождественский концерт; Стефани говорила о продлении страховки, о записи на уроки плавания, о предстоящих местных ярмарках и о цирковых представлениях, которые они могли бы посетить. Столько дел и ответственности, требовалось постоянно держать в уме массу всяких вещей и заниматься массой всяких вещей – и Дэмиэн почти не успевал осознать, как ему не хватает Лондона, городского гомона, ревущего Брикстона и любимой Темзы, карибских забегаловок, ночного блеска небоскребов, сомнительных ларьков с мобильниками, африканцев в Пекхэме, повсеместных плантанов, суровой красоты церковных прихожанок воскресным утром, Вест-Энда, дуновения искусства, дуновения музыки, ощущения безграничных возможностей. Ему не хватало метро, телефонных кабинок. В глубине души он скучал даже по коварным парковочным инспекторам и по бессердечным водителям автобусов, которые из вредности пролетали мимо очереди мерзнущих людей. Ему не хватало велопрогулок по маршруту университет Лафборо – пристань Суррей-Куйэс: мимо проносятся платаны, идет какая-нибудь женщина с длинными локонами, в обтягивающих джинсах на ремне с заклепками и вызывающих сапогах, возможно, держа за руку маленького мальчика. Очертания домов, переулки и даже, да, сирены и вертолеты, биение жизни – ему не хватало всех этих вещей, так хорошо знакомых. Но главное, он сознавал, что его место – там, что в Доркинге он никогда не станет настолько своим. Он находился за пределами города, не мог найти себя на его карте. Он чувствовал, что в каком-то важнейшем смысле живет вне собственной жизни, вне самого себя. Проблема (если это и правда была проблема: как можно называть проблемой такое, когда тебе надо оплачивать счета, кормить детей, поддерживать нормальное существование своего дома?) состояла в том, что он не понимал, что делать, как избавиться от этого ощущения, как добраться до того места, где он будет чувствовать себя на своем месте. И поскольку это была не такая уж серьезная проблема, даже и вообще не проблема, он гнал эти мысли, принимая все как есть. По утрам он доезжал до станции на велосипеде (хотя в последнее время перестал так делать и начал полнеть, как и предсказывала Стефани). Он садился на поезд, прибывал в инопланетный городок, потом покидал его и возвращался домой, разговаривал о насущных домашних делах – а все его сомнения, тревоги, желания и меланхолическое раздражение словно бы оказались убраны на хранение в буфет вместе с неоконченным романом, и лежали там тихо, аккуратно и послушно – примерно до настоящего момента.
* * *
Лоуренс умер в хосписе возле парка Клапем-Коммон от застойной сердечной недостаточности. Он удалился туда, откуда нет возврата. Его дыхание перестало стремиться к вечности. В последние дни Дэмиэн был с ним – глядя, как Лоуренс все глубже утопает в простынях, как его кожа делается пепельно-серой, а глаза желтеют, как он поворачивает голову влево и замирает в глубине сентябрьской ночи. Как странно: когда это произошло, Дэмиэн почти ничего не почувствовал. Лишь наблюдал, как Лоуренс умирает. Задремав в кресле рядом с кроватью он внезапно проснулся, как раз вовремя, словно Лоуренс позвал его своим жутким негромким покашливанием, словно не желал, чтобы сын пропустил этот миг. Дэмиэн сразу понял: что-то изменилось, отец уходит именно сейчас. И он смотрел, как этот человек обращается в прах, становится новейшей историей, как исчезает старик, от которого произошел он сам, Дэмиэн, – но кроме неслышного зова, кроме слабого прикосновения невидимых рук к его сердцу, не чувствовал ничего. Потом он некоторое время просто стоял, то глядя на белую подушку чуть левее лица Лоуренса, то переводя взгляд на лицо. А потом вышел из хосписа и принялся бродить по окрестным улицам, смутно чувствуя, что мир теперь стал другим, но не в состоянии это толком осознать. Он ожидал, что ощутит себя по-новому одиноким, что начнется процесс реконструкции, в результате которого Лоуренс войдет в зал его сознания облаченным в белые одежды святости, облагороженный болью, сияющий потусторонней мудростью. Дэмиэн полагал, что расплачется, или разозлится, или ощутит свою призрачность, свою связь с небесами. Но ничего такого не случилось. Облака не переменились. Деревья не транслировали никаких посланий. Он вернулся домой и провел последующие несколько дней за посмертными хлопотами. Лоуренс умер в четверг, сразу после полуночи. Уже в понедельник утром Дэмиэн вышел на работу.
Чувствовал он нечто другое, очень конкретное, но в то же время и туманное; это чувство явилось ему наутро после похорон в виде вопроса из десяти слов. Вопрос был беззвучным. Почти неразличимый, совокупность всех его устремлений; раз возникнув, он уже не покидал Дэмиэна: «Сколько еще ты будешь жить так, словно идешь по канату?» Он толком не понимал, что это означает. Вопрос казался надуманным, он раздражал, но при этом тревожил, как подвох. Он следовал за Дэмиэном повсюду. И сейчас продолжал крутиться в голове, в то время как Дэмиэн, все еще в халате, заканчивал уборку в туалете на первом этаже, а потом шел через кухню (перегороженную здоровенной гладильной доской и горой белья) в столовую, уставший от этого дома, от его дневной сумрачности, унизительной размеренности, от кокетливой и откровенно безвкусной беседки, – как же он ее ненавидел! «Сколько еще? – словно спрашивала она. – Сколько еще ты будешь жить так, словно идешь по канату?»
Вопреки предположению Стефани, Дэмиэну очень хотелось поехать к Майклу. С Майклом они были давно знакомы. Вместе учились в университете. В баре студенческого союза вели долгие споры о Франце Фаноне, расовых проблемах, черной музыке, и у Дэмиэна постепенно возникло ощущение, что все эти вещи важны для него самого, а не только для отца. Когда Майкл сошелся с Мелиссой, мужчины старались не терять друг друга: уже вчетвером они ходили куда-нибудь выпить или поужинать. Эти ужины всегда доставляли Дэмиэну удовольствие – совместное поглощение еды, фоновая музыка. Они вечно разговаривали о музыке, фильмах, книгах, и, прощаясь, он чувствовал себя более счастливым, вновь соединившимся с творческой, неустойчивой стороной своей натуры. Иногда, вернувшись домой и дождавшись, пока Стефани уйдет наверх и дом затихнет, Дэмиэн подходил к буфету в столовой, где хранил свои старые папки и бумаги, доставал свой недописанный роман и смотрел на него. Просто сидел на полу и смотрел на рукопись, и ему снова казалось, что это возможно. Дэмиэн перечитывал некоторые предложения и размышлял, как можно их улучшить, как можно переиначить и перекроить весь текст так, чтобы он стал насыщенным и завершенным. А потом убирал рукопись обратно в буфет с твердым намерением поработать над ней ближайшим же вечером – но ни разу этого не делал. В чем тоже винил Стефани.
В гостиной он увидел, что за столом сидит девочка. Она макала вафлю в кастрюлю с густой ржаво-бурой жидкостью. Сосредоточенная, она даже не подняла чуть рыжеватой головы, продолжая глядеть влево, куда легла полоса внезапного бледного солнца, знак передышки среди дождя, словно считывая оттуда инструкцию. Дэмиэн часто натыкался на своих детей вот так – словно на неожиданные капельки света. Их чистота по-прежнему надрывала ему сердце. Его поражала новизна их жизней, мысль об ответственности и влиянии на детей, о том, что они формируются под воздействием его поступков, какие бы они ни были. Это была Аврил, его средний ребенок, шести лет.
– Привет, милая, – произнес он. – Чем это ты занимаешься?
– Кораблик делаю. Из жидких ирисок.
– Ух ты.
– А потом, – добавила она восхищенно, – мы его съедим!
– Кто – мы?
– Мы все! Ты, я, Саммер, Джерри и мама! Вся семья!
3
Миссис Джексон
В Белл-Грин тоже шла уборка – подоконников, стеллажей, столиков, полов, – пожиратель времени, бессмысленная каторга, которая повторялась из недели в неделю, напоминая о нескончаемых домашних обязанностях и безнадежной рутине твоего существования. Мелисса терпеть не могла убираться. Это занятие вовсе не было целительным, оно не обновляло и не стимулировало творчество, как любили утверждать некоторые. Тебе просто летела пыль в лицо, вот и все. Мелисса убиралась с огромной неохотой и неудовольствием, в выцветшем, забрызганном краской джинсовом комбинезоне и дырявой майке, и выражение ее лица давало вполне наглядное представление о том, как она будет выглядеть в старости. Теперь, когда требовалось убирать целый дом, страдания Мелиссы усугубились, и, таскаясь с тряпкой по гостиной, коридорам и спальням, она слышала, как миллионы крошечных пылинок смеются над ней, крутясь в вихрях своей микроскопической свободы, оглушительно хохочут, когда она подходит к неподвижной черной глади телевизора, – пыль оседала на ней тут же, как только Мелисса ее вытирала, – пляшут и хихикают в свете потолочного окна, пока она с грохотом поднимается по ступенькам с пылесосом. Несколько утешали Ашер и Берес Хэммонд (музыка – сила), однако примирить с уборкой, пока она не будет окончена, не могло ничто.
Мелиссе не повезло: дом тринадцать по Парадайз-роу оказался каким-то особенно пыльным. Он был построен примерно в 1900 году на слегка наклонном участке с дающей усадку глинистой почвой, настолько характерной для многих частей Южного Лондона, что домовладельцам приходилось страховаться от проседания грунта. Из-за этого наклона, из-за вероятного съеживания и проседания все в доме казалось каким-то кособоким и сырым, словно внутри корабля. В восточном направлении полы шли слегка под уклон. Углы были не совсем прямыми, плинтусы потрескались в тщетной попытке плотно прилегать к стенам и одновременно соединяться перпендикулярно друг другу. В образовавшихся трещинах с легкостью заводилась пыль. Она оседала на декоративном поручне на лестнице. Из-за этой влажности, из-за сырости воздуха пыль налипала между деревянными панелями на стенах в столовой, где на рядке низко прикрепленных крючков висела детская верхняя одежда. Пыль копилась на притолоках, рамах картин, абажурах. Хуже всего дело обстояло в спальне, где от нее пострадало изголовье кровати из бутика и верхний край танцующих в сумерках. В платяных шкафах завелась плесень, источавшая затхлый, какой-то древний запах, и когда Мелисса нагнулась, чтобы выровнять ряд обуви, то уже во второй раз обнаружила на подошвах влажную белесую пленку, которая осталась у нее на пальце.
Майкл в это время гулял с Блейком. Риа сидела в соседней комнате, что-то делая с картонной коробкой и, по своему обыкновению, бормоча себе под нос. Вдруг бормотание прекратилось, и она позвала с пронзительной настойчивостью:
– Мама! – Последовал звук шагов, и девочка появилась в дверях, уперев руку в бок. – Мама, почему ты всегда выкидываешь мои вещи?
– Я не всегда выкидываю твои вещи.
Мелисса повернулась и посмотрела на дочь – длинноногую, большеглазую семилетку с меняющимися зубами. Сейчас не хватало левого верхнего резца, что придавало улыбке Риа что-то ведьминское, – улыбке, которая обычно с легкостью вспыхивала на ее лице, но сейчас пряталась. От Майкла девочке достались полные, четко очерченные губы и длинные, узкие, нескладные ступни, а от бабушки по материнской линии – намек на нигерийский нос. Ей нравилось носить одну белую перчатку, на левой руке (вот как сейчас), и ее до сих пор немного раздражало, что у некоторых вещей по два названия: «макароны» и «спагетти», «штаны» и «брюки». Это как-то запутывало.
– Нет, всегда, – возразила она. – Я что-нибудь приношу, какую-нибудь открытку, или рекламку, или еще что-нибудь, а потом пытаюсь ее найти, а ее вечно нет, потому что ты ее выбросила.
– Ну откуда мне знать, что мусор, а что нет? Мы же не можем хранить вообще всё, что ты притаскиваешь в дом. – Веточки, проездные, миниатюрные схемы лондонского метро, рекламы окон, камушки, осенние листочки, грязные заколки, монетки, бейджики, флажки, вееры, закладки, ветхие резинки для волос, комья грязи. Эта бесконечная лавина личного имущества была невыносима. – Я просто пытаюсь поддерживать порядок.
– Мои лотерейные билеты – никакой не мусор. Я собиралась их использовать.
– Но тебе еще слишком мало лет, чтобы участвовать в лотерее. Тебе должно быть как минимум шестнадцать.
– А, правда? Я не знала. Но вообще-то я их просто собирала. Они были мои. И были мне нужны. Я же не выбрасываю твои вещи. Если бы я что-нибудь твое выкинула, ты стала бы на меня кричать, ты бы конфусковала…
– Конфисковала.
– Ну да, конфисковала… так почему тебе можно выбрасывать мои вещи, а мне твои нельзя? – Риа ждала ответа, и Мелисса попыталась придумать спокойную, вескую и дипломатичную фразу, однако у нее никак не получалось. – Ладно, проехали, – сказала Риа и, громко топая, вышла из комнаты.
Нам следует помнить, что дети – тоже человеческие существа, советовал специалист по родительству, автор книги «Воспитывайте правильно», которую Мелисса однажды купила в припадке отчаяния, не понимая, как ей удастся воспитать ребенка, не прибегая к телесным наказаниям, которые Мелисса категорически не одобряла – да и в любом случае они не помогали. Она шлепнула Риа всего один раз – когда та в трехлетнем возрасте улеглась прямо на пешеходном переходе, потому что не хотела больше никуда идти, и этот шлепок не произвел абсолютно никакого эффекта: дочь так и продолжала лежать на этих полосках, и Мелисса волоком потащила ее к тротуару. Вскоре после того случая Мелисса и купила «Воспитывайте правильно». Непродуктивно и нечестно позволять нашей личности, нашим тревогам влиять на наших детей, утверждалось в книге, ведь перед ними стоит сложнейшая задача: сформировать собственную индивидуальность. Они заслуживают терпеливого обращения. Они заслуживают пространства, где смогут быть собой. Избегайте конфликтов. Почаще хвалите их. Эти крупицы гуманной премудрости всплыли в мозгу Мелиссы, вызвав некоторую досаду. И она отправилась в комнату Риа, настроенная на понимание и примирение.
Однако, что бы ни произошло в этой комнате, оно уже заставило Риа забыть об обиде, и теперь та снова что-то бормотала себе под нос деловитой скороговоркой, явно забыв о выброшенных важных вещах. Она присела на ярко-алом коврике перед своей картонной коробкой, вокруг которой виднелись коробки поменьше, обрывки бумаги, клейкая лента, ножницы, фольга, веревочки, карандаши, старая зубная щетка, парковочные талоны. Эта комната до сих пор напоминала Мелиссе о Лили, дочери Бриджит – девочка лежала в своем укрытии, пока чужие люди осматривали дом. Иногда Мелисса задумывалась: может, с этой комнатой что-то не так? Она была прямоугольная, сумрачная, выходящая на север. Кровать Риа стояла там же, где у Лили, – вдоль стены слева от окна. Кроватка Блейка располагалась в противоположном углу.
– Что ты делаешь? – спросила Мелисса.
– Строю дом. Чтобы в нем жить, когда я уменьшусь. Мне сегодня надо его доделать, а то я, может, не смогу уменьшиться. День уменьшения – только сегодня.
Риа не поднимала взгляд: она продолжала складывать верхние клапаны коробки в подобие крыши.
– А в какой-нибудь другой день ты не можешь уменьшиться? Ты же знаешь, к нам скоро придут гости. Вряд ли им понравится, если ты уменьшишься. Они встревожатся, даже решат, что это невежливо. Ты разве не хочешь поиграть с другими ребятами?
– С какими другими ребятами?
– С Джерри, с Саммер, с Аврил. Они все придут.
Риа ненадолго задумалась.
– Ну ладно, – наконец решила она. – Могут вместе со мной уменьшиться. Мне для этого нужны были лотерейные билеты – чтобы по ним другие люди попадали в дом. Без билета могу только я. А теперь мне придется вместо них взять эти талоны с парковки.
– Прости, что я выбросила твои лотерейные билеты.
– Да ничего, мамочка.
– В следующий раз сначала у тебя спрошу.
– Спасибо.
Спохватившись, Мелисса добавила:
– Прежде чем уменьшить ребят, обязательно спроси разрешения у их родителей. И у них самих спроси, хотят они уменьшаться или нет.
* * *
Дэмиэн со Стефани прибыли, когда солнце уже скрылось и вернулся утренний дождь, принеся с собой ледяной восточный ветер. Стефани пришлось вынести неприятную поездку, в точности такую, как она ожидала: Дэмиэн всю дорогу читал литературный раздел субботней The Guardian и ни с кем не разговаривал. Впрочем, он, кажется, немного развеселился, когда они выгрузились из своего здоровенного темно-серого универсала и двинулись по Парадайз-роу; Джерри несся впереди – он всегда с трудом высиживал в машине и теперь с наслаждением вырвался на свободу, – девочки следовали за ним. Именно в такие моменты, когда она созерцала свою семью в каком-то нейтральном месте за пределами дома, Стефани охватывало сильное и убедительное чувство правильности происходящего. Это ее банда, ее команда. Они всё выдержат; всякие пустяки ничего не значат – перепады настроения, обиды, простыни. И сейчас они отлично проведут время.
Отворяя дверь, Майкл нараспев произнес: «Приветик!» – и они столпились в прихожей, снимая обувь, куртки и пальто, распихивая перчатки по шапкам и карманам.
– Боже, – произнесла Стефани, разматывая свой длинный-предлинный шарф, – в этом городе все больше и больше машин! Мы сто лет стояли в пробке, правда?
Обращалась она к Дэмиэну, но тот не ответил, чувствуя, что это скорее не вопрос, а один из тех раздражающих, надоедливых оборотов, которые так любит Патрик. К тому же сверху на лестнице как раз появилась Мелисса в интересном черном топе, со сверкающими кисточками. Ее афроприческа стояла словно нимб. Мускулистые руки были обнажены до плеч. Она спускалась вниз, покачивая кисточками.
– Всем привет, – произнесла она.
– Привет, – отозвался Дэмиэн, обращаясь к ней одной.
Но тут внешний мир возник снова. Майкл сказал, что заторы, видимо, из-за дождя, а Стефани ответила:
– В последнее время, когда я оказываюсь в Лондоне, у меня голова идет кругом.
– Выпей вина, и расслабишься, – предложила Мелисса. – Красного или белого?
– Ну, я бы лучше белого, но, наверное, все будут красное, правда? Я как раз недавно кому-то говорила: никто больше не пьет белое вино. Чем оно провинилось? Я обожаю белое! Но мы принесли красного, смотрите.
Дэмиэн торжественно передал Мелиссе бутылку в голубом пластиковом пакете.
– А белое у вас есть? – спросила Стефани.
– Есть. Я тоже люблю белое.
Из динамиков доносился филадельфийский соул. В воздухе стоял аромат индийских благовоний, которые Майкл зажег после уборки в гостиной, в знак возвращенной ей безупречности. Джерри и Саммер нависали над Блейком, который сидел в своем креслице у дивана, сжимая погремушку, и похныкивал, недовольный наплывом публики. Риа спросила у Аврил, не хочет ли та подняться наверх и уменьшиться, но тут вспомнила, что ей следует вначале спросить разрешения у Стефани.
– Уменьшиться? Что? Уменьшиться? Ах, уменьшиться. Ну конечно, иди уменьшайся, – разрешила Стефани, поняв многозначительный взгляд Мелиссы.
Джерри вскричал:
– Меня подождите! – и устремился вверх по лестнице вслед за девочками.
Саммер велели пойти туда же, чтобы присмотреть за всеми, и та неторопливо и равнодушно направилась вверх по ступенькам.
– Ну а ты… – Стефани опустилась на колени перед Блейком, словно перед священной реликвией. – Только поглядите на него. Чудесный. Ах ты сладенький. Можно взять его на руки?.. Смотри, что мы тебе привезли, – весело проговорила она, протягивая ему комбинезончики; Блейк тут же потянул их в рот. – Будешь их носить, когда подрастешь… Ты будешь становиться все больше, и больше, и больше, правда? Ничего другого тебе делать не надо, счастливый малыш.
– Ого, кое-кто тут настоящая наседка, – заметил Майкл.
– А она всегда как наседка, – сообщил Дэмиэн.
– Ничего я не наседка! Я просто люблю маленьких, вот и все. А теперь расскажи, как прошли роды, Мелисса. Все хорошо? Я хочу знать все-все-все.
Блейка усадили на колени к Стефани (маленькая ступня по-прежнему смотрела внутрь, хотя косолапость постепенно сходила на нет), и Мелисса в пятнадцатый раз принялась рассказывать, как рожала; Майкл иногда вмешивался, добавляя подробностей и преувеличенных деталей. Стефани слушала с наслаждением. Это была ее любимая тема; время от времени она вставляла авторитетные суждения о том, что, с точки зрения земной матери, следовало сделать на том или ином этапе. Между тем Дэмиэн слушал музыку и рассматривал корешки книг на белых полках – там были Карвер, Хемингуэй, Толстой, Лэнгстон Хьюз, – ощущая, как где-то в глубине пробуждается знакомое чувство. Мелисса, которой надоело в который раз рассказывать о родах, попыталась вовлечь Дэмиэна в разговор и спросила у него, как вообще жизнь, как работа и прочее.
– Да все та же тягомотина.
– А чем ты занимаешься, напомни?
И он рассказал об изучении воздействия солнца на обширные стеклянные поверхности многоэтажных квартирных комплексов (тоже примерно в пятнадцатый раз). Уточняющих вопросов не последовало.
– А у тебя как? – спросил Дэмиэн, радуясь этой обособленной беседе, словно бы полной скрытого смысла, покуда Стефани с Майклом тем временем продолжали начатый разговор.
– У меня все… э-э… как-то шатко, – ответила Мелисса; ее кисточки поблескивали в свете лампы-зигзага. – Я сейчас на фрилансе.
Мелисса пять лет писала про моду и стиль жизни в Open, глянцевом журнале для жительниц города, но за несколько месяцев до рождения Блейка решила «переменить жизнь» и взять полноценный декретный отпуск. Когда родилась Риа, Мелисса вернулась на работу уже через два месяца, оставив девочку на попечение собственной матери.
– Все совсем по-другому, – добавила она. – Я скучаю по суматохе.
– Тебе повезло. Я бы с радостью оставался дома и писал, – признался Дэмиэн. – Это моя мечта.
– А что бы ты писал?
– Ну не знаю. Что в голову придет.