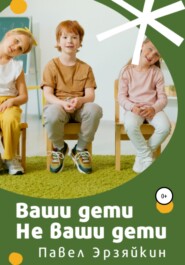скачать книгу бесплатно
Я стараюсь воспитывать ребенка свободным от наиболее штампованных стереотипов, но, общаясь со сверстниками, которые привыкли следовать неким догмам, он становится в их компании изгоем. Думаю, все может кончиться тем, что он либо перестанет доверять мне, либо останется одиночкой. Как этого избежать?
Правильно думаете. Вы уже чувствуете то, что ребенок вам не доверяет, сторонится вас, иначе вопроса бы не было. Смысл нашего воспитания – сделать ребенка адекватным, научить его действовать необходимо, достаточно и уместно, а не эпатировать окружающих своей экстраординарностью. Если мы обучаем ребенка эпатировать, то тем самым подставляем под оценку, осуждение и делаем его изгоем. Одна мама не без гордости мне рассказала о том, как ее сын однажды в школе сказал, что учительница английского плохо проводит уроки. Учительница сказала: «Либо я, либо этот мальчик». Директор школы выбрал учительницу, мальчик перешел в другую школу и теперь там учит математика проводить математику, а физкультурника – физкультуру. Это страшная ситуация. Она страшна тем, что свои таланты ребенок использует для того, чтобы его не любили. Если ты все знаешь и в школе тебе слишком просто, сдай все экстерном и поступи в институт. Свои способности можно использовать себе во благо, расти, зарабатывать, развиваться. А можно на них просто отрастить себе высокомерие и самомнение и стать изгоем.
Все дети в нашем классе чем-то занимаются помимо школы – ходят на какие-то курсы, в кружки или секции. А моя дочь никак не может определиться с выбором увлечения – ей ничто не интересно. Это нормально?
Нормально, если это проявление ее индивидуальности и ей действительно пока просто ничего не интересно. Но это может быть и признаком «рыбалки»: я вижу, что маме очень хочется, чтобы я чем-то занималась, а я назло ей заниматься ничем не буду. В основе может лежать и страх – может быть, в раннем возрасте, когда дети во все влюбляются и всем хотят заниматься, вы ее осудили, раскритиковали, запретили что-то, и теперь выталкиваете ее из дома, а она уже боится сделать выбор, потому что опасается вашей негативной реакции.
Двое моих взрослых детей не разговаривают друг с другом уже около двух лет. Причем все мои попытки сблизить их ничем не заканчиваются. Не понимаю, как сестра и брат могут так относиться друг к другу. Ведь у всех моих знакомых между детьми обычно складываются хорошие и дружеские отношения. Почему у них так?
Чаще всего мы не разговариваем, когда обижены. Своим молчанием мы пытаемся наказать того, на кого обиделись, чтобы и ему стало так же тяжело, одиноко и плохо, как нам. Ваше участие в виде беспокойства становится не тем, что «лечит», а тем, что делает ситуацию хронической. Убирайте свое участие во взаимоотношениях детей, перестаньте о них беспокоиться, и тогда они начнут о своих взаимоотношениях беспокоиться сами. А сталкивание и сводничество враждующих детей ни к чему хорошему не приведет.
Мы купили дочери велосипед в подарок на шестилетие, но она на нем не катается. Хотя мы предварительно поинтересовались, что бы она хотела получить в подарок, и она сказала, что хочет коляску. Мы ей предложили велосипед, потому что хотелось подарить ей что-то посерьезнее. Она согласилась и на велосипед, но теперь он стоит в углу. Почему?
Она не наигралась с коляской и мечтает именно о ней, что бы вы там ни думали о ее возрасте и о том, чем ей пора увлекаться. И на велосипеде она именно поэтому сейчас не ездит, что коляска для нее до сих пор важнее. А на велосипед она согласилась, чтобы вас не обижать, ведь ей хотелось вам угодить, а не спорить. А потом она еще подрастет, и вы будете удивляться: «Почему она такая скрытная? Почему не говорит, чего хочет, и не делится планами?» Потому что в шесть лет она поняла, что для родителей не важно то, чего она искренне хочет, – им важно их мнение о том, что ей должно быть нужно.
Если девушка родила в 20 лет, когда ни о какой зрелости и изобилии речи не может быть, как ей быть?
Изобилие – свойство и качество человека, а не прерогатива возраста. «Изобильной» может быть и двадцатилетняя мама. Точно так же как «нищей» может оказаться более зрелая женщина. Вообще, существует множество стереотипов по поводу возраста и того, когда надо рожать детей. Женщин, рожающих первенца в 30 лет, называют «старыми первородящими», тем самым создавая страх и вынуждая людей несостоявшихся и не имеющих в жизни ничего рожать как можно раньше – в 15, 16, 17 лет. Но другие врачи говорят, что до 20 лет рожать тоже небезопасно. Получается, что в тридцать – поздно, в двадцать – рано. При этом совершенно не учитываются готовность, зрелость конкретной женщины. Врачам важнее размеры таза, гормоны и прочее, потому что главное – все сделать правильно. Та же нечестность проявляется в диагнозах, которые ставятся на всякий случай. Если один врач чуть переборщит, ничего страшного – другие его коллеги ошибку поймут и исключат. Чтобы не отвечать за результат, врачи начинают перекладывать ответственность на маму, на папу, на витамины, на токсикозы, на несоблюдение диеты. И вся эта возня не имеет никакого отношения с тем, что там растет в животе. Тем временем будущие родители, увидев диагноз на полстраницы, начинают бояться того, что затеяли. У мамы формируется комплекс вины из-за того, что ей сказали, будто на родах она как-то неправильно себя вела. Потом этот страх передается ребенку, программируя его на дальнейшую жизнь. А через 30 лет начинаются отговорки: он у нас такой незрелый, потому что у него была родовая травма.
§ 1.3. Обратная связь
Нарушение процесса обратной связи между родителями и детьми начинается с момента рождения детей. Родители стараются угодить окружающим, слушают чужие советы и хранят их как старые застывшие фотографии, не обращая внимания на собственного живого ребенка, а когда он вырастает и выходит из-под контроля, мама с папой удивляются: «Мы же правильно воспитывали – родственники одобряли, соседи одобряли». Дело в том, что при воспитании детей нужно опираться не на мораль и не на то, как другие делают, а на «здесь и сейчас», на то, что ты чувствуешь и переживаешь в момент контакта со своим ребенком, понимая, что он говорит и как говорит.
Нам важно, чтобы дети нас услышали, а сумели ли они принять сказанное нами, поняли, почувствовали, изменились ли после этого – это нам не интересно. Нам важно лишь их согласие и признание нашей правоты. Воспитание мы подменяем самолюбованием – вот какой я строгий родитель, какие правильные вещи детям говорю. Но дети с 6–7 лет уже не слушают то, что мы им говорим. Во-первых, мы повторяем одно и то же. Во-вторых, мы сами не делаем того, чему учим. Потому и связь односторонняя – от взрослого к ребенку. Я родитель – я прав, знаю, как нужно, а ты маленький, вот и слушайся меня. А каково ребенку при этом – можно не задумываться. Я посадил семечку, а будет ли она расти? Важнее то, что я посадил, что я воспитывал, что я тысячу раз повторял одно и тоже… Но что толку, если это все не работает?
В детстве ребенок еще не обладает доверием к себе, меньше рассчитывает на свои силы и думает о том, что скажут взрослые. Посмотрите на ситуацию глазами ребенка: «Я что-то делаю и предпринимаю, а родители сразу начинают переживать, бояться и пугать. Они еще ничего не знают о внутренних мотивах того, что я делаю, но уже начинают влиять». Ребенок не получает адекватной обратной связи от родителей на свои действия, сталкиваясь лишь с их отношением к тому, что он делает. И тогда ребенок начинает придавать большее значение тому, как к его действиям относятся окружающие, нежели к тому, насколько это важно лично для него.
Обратная связь – нейтральная информация о происходящем. Например, высота над уровнем моря сто метров – это хорошо или плохо? Да не хорошо и не плохо, просто сто метров над уровнем море – и все. Температура на улице минус шесть – хорошо это или плохо? Если в холодильнике – хорошо, а если ты на улице в шортах – плохо. Точно так же в воспитании детей. Бывает, что ребенок в магазине дергает свою маму за волосы, бьет ее по лицу, а она улыбается, сохраняет внешнее спокойствие, притворяясь, что все в порядке. Она жертвует собой, терпит стыд и боль, не дает ему обратной связи, тем самым его обманывает, а потом дома возьмет и врежет ребенку за какой-то его незначительный проступок – например, он случайно разольет воду. Тут мама все свое жертвенное терпение выплеснет, и ее реакция будет неадекватной. Ее агрессия будет именно реакцией, а не обратной связью на то, что ребенок натворил. Она накажет его не за разлитую воду, а за все то, что она заставила себя вытерпеть в течение дня.
Ребенок заистерил, заорал – и ты заорал точно так же, без страха, испуга и беспокойства. Это и будет обратной связью. Если нам неудобно кричать при свидетелях, ребенок начинает понимать: когда вокруг зрители, мама подкладывается, – и станет пользоваться этим. Он орет – ты орешь. Ты показываешь, что тоже можешь быть таким, как он. Подходит ко мне попрошайка с жалобным лицом: «Подайте Христа ради». Я ему тоже с жалобным лицом: «Подайте Христа ради». Я даю обратную связь, показываю, что тоже так могу, и человек меняет что-то в своих действиях. Отражение и есть обратная связь. В этом смысле собаки и кошки – более адекватные воспитатели, чем родители, потому что они более честные. Им наплевать, как они будут выглядеть в глазах окружающих, а многим родителям – нет.
Если ребенок ударил меня – я ему отвечаю ударом, но в моем ударе нет злости, испуга, страха, жалости или желания выглядеть «как-то» в глазах тех, кто это видит. Мой удар эмоционально нейтральный – я этим ударом не пытаюсь отомстить и прервать ребенка, чтобы он больше так никогда не делал. Мой удар точно такой же по силе, как его, – не слабее и не сильнее. Пятилетняя дочь моих друзей однажды стукнула меня по голове – я стукнул ее так же, она стукнула еще раз, но слабее, я тоже ударил ее чуть слабее, потом она меня погладила, и я ее погладил. Так жизнь становится игрой. Я чувствую каждый миг, то, как мир реагирует, и выбираю манеру поведения в зависимости от ожидаемой реакции. Животные так и воспитывают своих детенышей. Когда котенок кусает кошку, она его тоже кусает, и это не значит, что она его не любит – просто дает понять, каково ей. В этом укусе нет наказания – она не кусает его сильнее, и нет жалости – она не кусает слабее. Она кусает точно так же, как он ее. Смысл обратной связи – дать тебе понять, каково мне от твоих действий.
Мы подменили детям жизнь на мертвые игрушки, с которыми можно делать что угодно – бить об угол, резать ножницами, прыгать по ним, отрывать ноги, а игрушечные существа все равно будут улыбаться. Это одна из иллюзий, которую мы внушаем детям, и они растут, не понимая сути ответственности за собственные действия. И пусть пишут на игрушках «экологически безопасные», я считаю, что все они – «экологически безобразные». Все эти поролоновые кошки и пластмассовые куклы не дают самого главного – обратной связи. Если сесть на живого цыпленка – ему конец, если на поролонового – ничего страшного. Если сломать живой цветок – он засохнет и умрет, а если согнуть искусственный – тот выпрямится, и все.
Ребенок оторвал голову кукле, она не заплачет от боли и не засмеется. Как ребенку понять: он проявил нежность или причинил боль? Он смотрит на реакцию родителей, и потому важно, чтобы эта реакция была адекватна его поступку. Если они, глядя на изуродованную игрушку, смеются, этот смех для ребенка и является обратной связью, то есть реакцией на его действия. Раз взрослые смеются, значит, я делаю хорошо. А они зачастую ведут себя совершенно неадекватно, поэтому так важно, чтобы игрушки у ребенка были живые, которые реагируют на его действия. Настоящая кошка никогда не станет терпеть издевательств – она зашипит и убежит. Так до ребенка начинает доходить истина: если причинять кошке неудобства, она убегает, когда ее гладят – она сидит на коленях и мурлычет.
Помню, в моем детстве у нас на балконе жил птенец филина, которого подобрали на территории пионерского лагеря. Днем на балконе было светло, и брат накрывал птицу тряпкой, а потом как-то забыл об этом и наступил на филина. Он умер – это стало для брата фактором обратной связи. Он потом хоронил филина, плакал, но в то же время он понял: если с живым вести себя так же, как с игрушкой, то живое умирает.
Моя дочь сначала не умела соизмерять свои усилия с результатом, а потом появилась кошка Матильда, которая не приняла неадекватности Василисы и убегала, едва завидев ее. Дочери приходилось кошку подлавливать, зажимать в углу, чтобы погладить, но та все равно вырывалась и царапалась. Потом появился еще и кот Кефир. Если Василиса делала ему что-то исподтишка и убегала, он ее догонял и сзади царапал за ногу, она спотыкалась, падала и плакала. Кефир стал для нее лучшим воспитателем.
Не хотите заводить животных – купите растение. Пусть рядом будет что-то живое, тогда ребенок увидит, как существа реагируют на действия: растение поливают – оно цветет, про него забыли – оно скукожилось. Взаимодействуя с живыми существами, ребенок понимает, что не все так быстро происходит, как ему хочется, появляется осознание: оттого что я психую, ничего не меняется. Цветок растет в таком темпе, в каком может, при этом требует ухода и терпения.
Я предлагаю родителям быть поддержкой для своего ребенка. Пусть он будет для вас главнее, чем все те незнакомые люди, которые окружают вас в супермаркетах и на улицах. В любом случае будьте на стороне ребенка, независимо от того, как он себя ведет. Всегда найдется прохожая «бабушка», которая начнет говорить, что вы плохо воспитали ребенка. Не вставайте на сторону «бабушек» – вставайте на сторону ребенка. Мир потерпит и как-нибудь переживет детские капризы и не погибнет от крика и плача. Общество подождет. Ребенок скоро вырастет и разберется с обществом, найдет в нем свое место, станет кем-то, но пока он маленький, не понимает социальных моделей, ожиданий других людей, не знает, что такое подлость, предательство и прочее. И я прошу вас не быть подлыми и не предавать детей, потому что для них вы – единственный источник информации о мире, и она должна быть адекватной. Сделайте ребенка главным для себя, и тогда ваши реакции всегда будут естественными и единственно возможными. Поступайте с ребенком точно так же, как поступил бы на вашем месте любой другой незнакомый с ним человек. Если ребенок рушит полки в супермаркете, не позволяйте ему этого и не ползайте вместо него по полу, собирая рассыпавшиеся упаковки. Потому что, если он сделает это еще раз, а вас рядом не будет, никто в этом мире не будет ползать и собирать вместо него.
Для ребенка получение от родителей адекватной обратной связи в отношении собственных действий – огромный дивиденд. К нему приходит понимание того, что разные формы поведения с разными существами приводят к разным последствиям. Ребенок начинает выбирать манеру поведения и играть с миром. Он понимает, что может управлять миром: делаю зло – получаю агрессию, делаю добро – получаю хорошее расположение. Ребенок чувствует, что у него есть множество разнообразных моделей поведения, и одновременно у него формируется ответственность за свои действия, ведь он знает, какие именно поступки к чему приводят. А если он привыкает к тому, что дома его агрессивность оборачивается еще большей заботой со стороны родителей, то, вне дома получая в ответ на агрессию точно такую же агрессию, он бежит обратно к ним. Ему начинает казаться, что лишь они его понимают и только с ними он может существовать. Так мы формируем привязанность к себе, потому что только с нами наш неадекватный ребенок чувствует себя в безопасности.
ВОПРОСЫ
Как вы думаете, стоит ли покупать ребенку игрушки, на которых присутствуют половые органы? И должны ли вообще игрушки, имитирующие людей, иметь выраженные половые различия?
Половые органы – такие же части тела, как руки или ноги. В них нет ничего особенного – это просто часть организма. Они абсолютно естественны – неестественно лишь отношение к ним, как к чему-то грязному, непристойному и нехорошему. Сегодня все политические и религиозные течения занимаются контролем, ограничением и дозированием влечения и секса. Есть такой московский мистик Андрей Лапин, который вывел закономерность: все в мире стремится к гармонии, и отсутствие у игрушек половых органов не решает проблемы, зато создает отличный (прибыльный) бизнес – отсутствующие у игрушек половые органы (больших размеров) просто изготавливаются отдельно и продаются в магазинах «Интим».
Родители считают, будто игрушки с половыми органами или подсмотренные ребенком «взрослые» фильмы могут спровоцировать у него нездоровый интерес. Но нездоровый интерес провоцирует как раз то, что мы прячем, запрещаем, за что наказываем и отчего сами смущаемся. Например, ребенок увидел, как родители занимаются сексом, – для него, только познающего этот мир, это просто событие, которое он видит в первый раз, и отношение у него к нему такое же, как при первом знакомстве с падающим снегом. Если мама начинает тут же смущаться, а папа устраивает ребенку выволочку, то тем самым они создают отношение ребенка к событию. Раз нельзя, значит, появляется интерес, желание вникнуть, узнать, попробовать, подглядеть. Поэтому я и говорю, что животные лучше мертвых игрушек. У животных половые органы никак не спрячешь – они есть. Ребенок видит, что у собачек есть, и у кошечек есть, и у него есть. У него не возникает вопросов к миру – он логичен и последователен. А когда он снимает штаны с куклы, а там нет ничего – это и провоцирует интерес. «Почему у меня есть, а у куклы нет?» – ребенок задает такие вопросы родителям, те начинают стесняться, ругать его, наказывать, а интерес только растет.
Следует ли публично наказывать ребенка? Можно ли это оставить до возвращения домой, или он все забудет к тому времени и эффективнее сразу указать ему на ошибку?
Мы собственные реакции дозируем – выставляем или прячем – в зависимости от мнения окружающих. А где здесь ваш ребенок? Если вы хотите прервать некое действие ребенка, сделайте это. Подавив в себе это желание, почувствуете себя слабым, зависимым и не способным действовать сразу и обязательно сорветесь на ребенке если не в супермаркете, то дома, и это будет неадекватной обратной связью.
Наказание по поводу прошлого – это месть, а она всегда неадекватна. Хотите что-то остановить – останавливайте сразу, не можете остановить – примите этот факт и оставьте все так, как есть. Кто-нибудь другой остановит – охранник магазина, продавец. Не можете оставить как есть, потому что надо действовать, – действуйте. Например, вы стоите у дороги, а ребенок рвется вперед на красный цвет. Просто возьмите его за шкирку и держите. Самое главное, не чувствовать себя неудобно, если он вырывается и кричит, а все вокруг оглядываются на вас. Когда я осознаю, что именно так сейчас лучше всего, мне не перед кем стыдиться и не за что оправдываться.
Как влияют игрушки на формирование личности ребенка? Стоит ли мальчикам покупать пластиковые ножи, наручники и дубинки?
Если ребенок просит ножи и дубинки, значит, он хочет быть как герой какого-то боевика. Относитесь к этому как к симптому – ребенок начинает терять себя, не понимает того, кто есть он сам. Если ребенок хочет быть как Шварценеггер, значит, в детско-родительских отношениях мало внимания уделяется индивидуальности ребенка. Понаблюдайте за детьми. Если вам понравился кто-то, кого показали по телевизору, и на следующий день ваш ребенок начинает в него играть, значит, он не уверен в том, нравится он маме или нет, любит она его или нет. Тогда он пытается соответствовать неким ее стереотипам. Если мама сказала про Шварценеггера, что он настоящий мужик, сыну тут же захочется стать на него похожим. Дайте ребенку любви и внимания, чтобы он не сомневался в себе, в том, что его любят и гордятся им, и тогда ему не нужно будет никого копировать.
Я считаю, что лучше, когда ребенок не имитирует жизнь с помощью пластмассовых ножей и молотков, а режет что-то настоящим ножом и настоящим молотком забивает настоящие гвозди. У меня у самого в детстве была коса для косьбы сена – первое время я резал пальцы, но на это никто не обращал особого внимания, не снимал ответственности и обязательств, а раз так, я просто на практике учился быть внимательнее с острыми предметами.
А стоит ли покупать девочкам все то, что имитирует взрослую косметику для женщин?
Всем известно, что лучший клиент тот, который стал клиентом еще в детстве. Поэтому в ресторанах появляются «детские дни» – это и забота о родителях, и работа на будущее, формирование у ребенка спроса, вкуса. Так в ресторанах воспитывают будущего клиента, человека, который будет ходить в заведения, когда вырастет.
Мы живем в обществе, где потребление играет главную роль, и для этого общества важно, чтобы человек потреблял и не останавливался. Детская косметика – как говорят, безвредная и даже полезная – это сохранение, умножение и поддержание традиций краситься и «тюнинговать» свое лицо. Здесь не может быть однозначного ответа – нужно или не нужно, можно или нельзя. Просто подумайте о том, для чего вам роль «отец» или «мать». Каким вы видите своего ребенка в будущем? Когда все не зря? Когда бы вы им гордились? И насколько важны эти игры, в которые он играет, для того чтобы ваш проект состоялся? Если дочь красится, чтобы найти свой образ, посмотреть, как это сочетается с разной одеждой, – это одно. Если она красится, чтобы получить внимание, чтобы ее заметили, если только так она чувствует себя красивой, – это другое. Моя дочь любит наряжаться, рисовать, придумывать образы, ставить спектакли, красить жену и подружек, кроме того, она мечтает о салоне для животных. Любые детские игры могут быть началом профессиональных навыков.
В продаже есть «Набор юного физика», «Набор юного химика» и прочее. Как вы относитесь к таким играм?
Первый вопрос: каким я хочу видеть своего ребенка? Самостоятельным или зависимым, ответственным или дурачком, потребителем или человеком с чувством меры? Когда я определился с ответами, мне проще решить, что моему ребенку полезно, а что вредно. Я буду выбирать игрушки, исходя не из того, что «врачи рекомендуют» или «люди покупают», а брать лишь то, что моему ребенку нужно, то есть руководствоваться тем, что лучше для него. И при этом я буду учитывать его мнение, а не мое. Если ребенку интересны такие наборы, вполне может быть, что он так влюбится в это занятие, что затем оно станет его профессией.
Что делать, если ребенок принес домой беспризорного щенка или котенка? Можно ли заставить его отнести животное обратно на улицу или потакать ему, тем самым поддерживая и воспитывая в нем заботу о слабых?
Первая реакция у многих мам, когда они видят на пороге такую парочку – сын и щенок, – сразу жалеть себя. Вы еще ни разу за этим щенком не убирали, а уже начинаете заранее страдать – и так столько дел, вам и так трудно, не справляетесь, а тут еще эта собака, и опять ведь все сама, все сама. Прежде чем принимать решение, разберитесь в том, что происходит, «сориентируйтесь на местности», как говорят военные. Не начинайте врать, мол, это чужой щенок, за ним уже кто-то пришел и плачет, ищет его, отнеси скорее щенка на место. Посмотрите на ребенка: как он говорит о щенке, что в нем появилось нового после встречи с животным, чем оно так важно для него. Воспитание начинается не с наказания и запрещения, а с уточнения и ясности. Пока для ребенка все животные – игрушки. Он знает о собачках лишь то, что они хорошие, добрые и плюшевые, и понятия не имеет, что они ходят в туалет, кусаются, могут погрызть любимые книжки и игрушки.
Начинаем спрашивать: «А где он будет жить? А как ты будешь его кормить? А как ты будешь с ним гулять? А знаешь ли ты, что щенок живой и за ним нужно будет убирать? А чем тебе он важен? А что ты чувствуешь? А что будешь делать, когда он вырастет?» И по ответам вы начинаете понимать, что происходит с ребенком. Вопросы учат планировать, задумываться о будущем, видеть перспективу во времени. Ответы – некие обещания, которые человек дает, и через какое-то время обязательно столкнется с опытом, показывающим, держит он свои обещания или нет. Даже если вы чувствуете, что ребенок сейчас привирает, придумывает, позвольте ему это. Позвольте вдохновиться, поверить в то, что он действительно сможет выполнить все, что обещал.
Порой своими вопросами родители начинают ждать готовых ответов: «А ты будешь убирать?» – «Да!» – «А ты будешь хорошо себя вести?» – «Да!» В таких вопросах с ожидаемыми ответами нет любознательности и искренности. Вы заставляете ребенка брать обязательства, о которых он ничего не знает. Прежде чем брать с него обещание «убирать за щенком», поинтересуйтесь, знает ли ваш ребенок, что это такое. Потому что если он не готов столкнуться с тем, что котенок вдруг погрызет его любимую игрушку, то может взять молоток и забить животное до смерти. Нам кажется, что дети жестокие, а они просто не понимают разницу между поролоновым животным и настоящим.
Если ребенок ведет себя некрасиво в магазине, но мне совершенно не хочется падать рядом с ним на пол, можно ли как-то иначе установить с ребенком обратную связь?
Не хотите падать на пол, быть обратной связью, оставьте ребенка в покое – пусть подуркует, побесится. Примите, что повлиять можно лишь через контакт. Если контакта нет – повлиять невозможно (см. ответ на второй вопрос).
Мы с мужем следим, чтобы десятилетняя дочь не смотрела по телевизору боевики, криминальные новости и прочее. Не хотим, чтобы она до определенного возраста знала, что в мире много жестокости и насилия. Я считаю, что тогда она вырастет более свободной, открытой к взаимодействию, к общению с людьми, без страха перед миром. Вы согласны с этим?
Когда родители создают для ребенка сказку, в которой нет горя, бедности и смерти, то это отличная база для его дальнейших фрустраций. Ведь однажды ребенок столкнется с реальностью и узнает, что все это в ней есть, и безденежье, и страдания. Так было с Буддой, который шестнадцать лет не знал о том, что в мире есть старость, болезни, смерть, и, когда вышел из дворца, у него был шок. Пока ребенок маленький, вы можете ограждать его и создавать для него абсолют добра, но однажды он выйдет в реальный мир и окажется в нем неадекватным, не готовым к защите. Говорить о том, что мир жесток, опасен и полон негодяев, – другая крайность. Эти суждения – бессмысленны, ведь другого мира у нас нет, и вызывать у детей страх и непринятие мира, воспитывать на иллюзиях нельзя, так как через какое-то время это придется лечить. Не прячьте от детей ничего. Просто объясните, что мир – нечто гораздо большее, чем то, что показывают в новостях. Новости – это не жизнь планеты, а лишь то, что интересно каким-то людям, жизнь состоит не только из убийств и ограблений, но еще и из успехов, оргазмов, рождения детей, пятерок за экзамены и прочего. Спросите ребенка: «Ты целый день жил и разве видел все то, что показали по телевизору, в нашем городе?»
Борьба с наркоманией создает наркоманию. Борьба за мир начинает новые войны. Если не вмешиваться, интерес к телевизору сам пройдет. Ничего не придется запрещать, если мы сами это не смотрим. Запрещать приходится, когда мы смотрим, а детям не даем: «Сейчас начнется передача для взрослых, так что иди спать». Помню, как мне папа с мамой так говорили, и я потом лежал под дверью в их комнату и пытался одним глазком подсмотреть то, что смотрят они. Запретами родители лишь нечто актуализируют в голове ребенка, к этому тут же возникает интерес и выделяется энергия – пока она не реализуется, интерес не пройдет.
Неужели вы будете отрицать влияние «улицы» на формирование ребенка? Если он вырастает в контексте наркомании, криминала, он может попасть под влияние этой среды, и даже родителям будет трудно его оттуда вытащить.
Когда ко мне на консультации приходят мамы наркоманов, которые рассказывают мне о том, какое у нас телевидение, общество и школы, я понимаю, что они ищут виноватых, потому что чувствуют в себе авторство и непосредственное участие в том, что произошло с их детьми. Такие матери создают «Комитеты солдатских матерей», «Комитеты наркоманских матерей» и скоро, наверное, создадут еще какой-нибудь комитет, чтобы бороться с обществом, которое убивает их детей. Эти дети погибли в армии или другой какой ситуации только потому, что они вдруг остались без мамы и не смогли без нее выжить. Головы этих погибших детей были напичканы ложными представлениями о мире, которые мамы специально придумали, желая оградить ребенка от столкновения с реальностью. Сколько могли, они поддерживали детей в этих иллюзиях, думали за них, подсказывали ответы, беспокоились, и когда те выросли, вышли из родительского дома, мир оказался для них шоком, но по-другому они жить не умели и потому начинали глупить и настаивать, капризничать и говорить «как должно быть». Но мир вряд ли захочет измениться под чужие капризы. Тогда ребенку остается лишь вернуться к маме, а если это невозможно, то уйти из жизни. Либо ты примешь все как есть, либо ты погибнешь – очень простая формула жизни. Ведь если ты примешь, то начнешь взаимодействовать, будешь в контакте и только тогда можешь повлиять, что-то создать, изменить, повернуть. Но если ты не в контакте, такой возможности просто нет.
Ребенка невозможно оторвать от мультфильмов – он готов смотреть их часами, хотя они глупые и «пустые». Ждать, пока ему это самому надоест?
Если реальная жизнь интересная, если между родителями партнерские отношения, в которых есть любовь, уважение и поддержка, если дома что-то происходит, если есть участие ребенка в семейных событиях, разговорах, если есть ежедневные открытия и интерес – в общем, если жизнь в семье есть, то мультики уйдут на второй план. Если в реальной жизни ребенок постоянно выставляется как «урод, неудачник, ничтожество», то он будет стремиться в мир иллюзий, где он ни в чем не виноват, где его не накажут.
А что касается низкого качества современных мультиков, то недавно в садике моей дочери состоялся разговор на эту тему у родителей с детским психологом. Она говорила нам о вреде современных мультиков, которые формируют матрицы жестоких женщин, и приводила в пример «Шрека», где есть сцена, когда девушка бьет главного героя ногами по лицу. Психолог сказала, что женщина себя так вести не может, мол, женщина – это мать, пухлые розовые щечки и прочее. Но женщины бывают разными, и чем раньше ребенок это узнает, тем лучше. Не создавайте сказок, мифов, не навязывайте ребенку стереотипов о «настоящих женщинах», «настоящих мужчинах» и прочем. Чем меньше вранья, тем адекватнее будет ребенок.
§ 2.1. Точка опоры
Родители, у которых порядок в собственной жизни, счастливы, если ребенок начинает жить самостоятельно и у него есть внутренний центр, точка опоры, он сам несет ответственность за свою жизнь и ему не нужны «костыли» в виде помощи и поддержки родителей. И в этом случае ты как родитель точно знаешь, что с ним никогда не произойдут все те страшные вещи, которых боятся беспокойные мамы, потому что у твоего ребенка есть мужество думать своими мозгами и опираться на собственный здравый смысл. Ты уверен, что он станет победителем, удачливым, успешным, и все, что тебе остается, – им гордиться, и тебя даже несильно беспокоит то, где он живет. Ты знаешь, что где бы он ни жил, он живет самым наилучшим образом среди всех возможностей, которые в мире есть.
Есть люди, которые замечательно живут в любых условиях. Есть люди, которым нужны специальные условия, чтобы жить. До ребенка нужно донести, что он сам и есть главное условие, чтобы жить. Ты живой – вот и живи. И если мы возьмем универсальную цель родительства в планетарном масштабе – она такая же, как у львицы, собаки или дельфина: научить детеныша ответственности за свою собственную жизнь. Это качество не появляется само собой в определенном возрасте – его нужно формировать и создавать.
Страхом научить ответственности нельзя. Страх – стимулирующий, а не мотивирующий фактор, и работает лишь как временная мера. Родители не в состоянии ничего запретить. Даже если сейчас запретишь, ты всю жизнь не сможешь бегать за ребенком и следить, запрещать и контролировать. И в тот момент, когда тебя нет, он сделает то, что хочет, и ты даже никогда не узнаешь об этом. Ты научила ребенка давать правильные ответы, звонишь домой: «Что делаешь, сынок?» – «Уроки», – говорит он тебе, а сам смотрит дневной повтор того фильма, который ему вчера не разрешили посмотреть.
У ребенка должна сформироваться точка опоры, чтобы он мог сам выбирать, что его, а что нет. Когда точки опоры нет, приходится опираться на «правильно-неправильно», а это меняется постоянно. Раньше, не дай бог, если ты с кем-то переспал до свадьбы – позор, а сейчас попробуй только не переспи – тоже позор. Если внушать детям стереотипы о нормах, то таким образом мы делаем их незащищенными перед изменчивым миром, перед оценкой. Ребенок начинают верить в абсолют, а потом все переворачивается с ног на голову – и он впадает в состояние растерянности.
Когда ребенок начинает верить в абсолютность оценки, он становится глупым, зависимым, очень уязвимым и превращается в социальную овцу – ту, которая маме говорит: «Видел рекламу шоколадки по телевизору, и мне она очень нужна. Я без нее жить не могу!» И жизнь его зависит от того, кого он встретит сегодня. Встретит сектанта – станет сектантом. Встретит вора – станет вором. Встретит наркомана – станет наркоманом. Мамы обычно не видят причину проблем ребенка в себе и списывают все на школу и телевизор. Миллионы людей смотрят телевизор, столько же ходят в школу, но ведь не все становятся наркоманами.
Я однажды общался с мамой наркомана. Она только зашла ко мне в кабинет, а я ей сказал: «Хочешь, расскажу, какой у тебя сын? Безответственный, безвольный и нецелеустремленный». – «Да, а откуда вы это знаете?» – «Потому что ты очень ответственная, решительная и целеустремленная». Если в маме какие-то качества гипертрофированны, у ребенка они вовсе атрофируются за ненадобностью – ему их не обязательно иметь. Нужно делегировать ребенку что-то – ответственность или честность, тогда это станет качеством его индивидуальности.
Мамы, не имеющие своей жизни, начинают забирать ее у детей – переживают, поел ли ребенок, с кем он встречается, что делает, выспался ли. Им всем на курсы к моей бабушке нужно сходить. У нее двое детей от голоду умерло, а в наше сытое время ее вообще никогда не беспокоило, кушал я или не кушал. Ребенок есть не просит – и хорошо. Зовут обедать, я отказываюсь – «ну, не хочешь, и не надо». Дедушка помолился, покушали, и все убрали. Не успел – сиди голодный. И то, покушал я или нет, вдруг стало беспокоить меня самого.
Ответственность родителей заключается еще и в том, чтобы научить детей идти навстречу какому-то мнению, если им самим это нужно, или не идти, остаться независимыми и не вовлекаться, зная, что им самим это не надо. Например, ребенок приходит из школы: «Учительница меня не любит». Прежде чем вынести приговор или диагноз поставить, спросите у него самого: почему так происходит? Начинается инвентаризация момента. Выясняется, что не любит за какие-то действия. «Во-первых, учитель и не должен тебя любить. Он должен учить. Во-вторых, зачем ты учителя провоцируешь на конфликт? Ты защищаешь нечто, что так важно для тебя, и даже готов портить отношения с учителем? Как считаешь, стоит ли и дальше так себя вести? Если да, зачем тогда жалуешься? Правильно ли я понял тебя, что ты портишь отношения для того, чтобы я ходил туда и восстанавливал их?»
Есть три вопроса для ребенка, работающие магическим образом:
Первый вопрос: что ты сейчас делаешь? Это дает человеку возможность осознать, где он, что он, на что направлена его деятельность – «стоп» такой.
Второй вопрос: как ты думаешь?
Третий (контрольный) вопрос: когда?
Так и идет формирование ответственности. Дети быстро учатся давать правильные ответы на вопросы родителей, но индивидуальность не проявляется через правильные ответы. Первое время, когда задаешь ребенку вопросы о том, что он думает, он будет стараться ответить нечто, что тебе понравится. Мы сами провоцируем детей на эту ложь: скажи что-нибудь маме, чтобы она успокоилась, скажи что-нибудь папе, чтобы он отстал.
Главное, чтобы у родителей не было ожидания ответа: спрашиваешь, но не поправляешь ответ. Своим вопросом мы даем ребенку возможность ответить самому себе, и то, что он сказал, нас не радует и не расстраивает. Я услышал и принял. Только тогда, без внешней оценки, одобрения или осуждения, ответ ребенка воспринимается как его собственный. «Какие у тебя друзья, сынок?» – «Хорошие». – «Как ты думаешь, а чем они хороши?» И оставить его с этим ответом. Если нет ожиданий, ребенок ответит объективно, ответит сам себе. Так у него появляются собственные уроки – это самое ценное. Когда мы не даем ответы, ребенок начинает искать их внутри себя и, если на практике получает подтверждение того, что оказался прав, обретает доверие к себе, точку опоры. Иначе говоря, ребенок обретает мужество пользоваться собственными мозгами (то есть размышлять, креативить, проявляться) и уверенность: опираясь на свое мнение, получишь то, что тебе надо.
Не стоит отвечать на те вопросы, ответы на которые очевидны. Дети порой спрашивают лишь потому, что помнят: когда-то их вопросы всех умиляли. И они спрашивают, просто чтобы получить внимание, и иногда делают это, потому что не доверяют себе. Например, дочь заходит на кухню, а я пью чай. Она спрашивает: «Папа, что ты делаешь?» – «А ты что видишь?» – «Ты чай пьешь». – «Так и есть». И дочь учится доверять себе, тому, что она видит. Когда дети упорно спрашивают о чем-то очевидном, значит, они не уверены в себе.
Из-за своего высокомерия мы, как правило, очень поздно начинаем делегировать ребенку ответственность за его жизнь. Сначала нам нравится думать за него, нравится, что он обращается к нам за советом, а потом он перестает думать самостоятельно, и приходится постоянно его спасать из всяких передряг. Несмотря на то что мы сами это устроили, вскоре нас начинает тяготить такая ситуация.
ВОПРОСЫ
Как понять, готов ребенок жить отдельно или нет? Например, моему сыну шестнадцать лет, и он хочет жить самостоятельно. Есть ли критерии, по которым можно спрогнозировать, чем это закончится – самостоятельностью или крахом?
Откуда такой вопрос? Шестнадцать лет ребенок был у вас перед глазами. Вы его не видели, не наблюдали за ним, а любовались придуманным образом? Я рекомендую диагностику, то есть задать ему вопрос: «А зачем тебе это?» Но диагностикой это будет лишь в том случае, если у родителей нет страха, суждения, осуждения. Порой идея жить самостоятельно возникает не потому, что в жизни должно что-то появиться, а потому, что человек хочет от чего-то сбежать, например избавиться от родительского контроля, чтобы можно было сутками смотреть телевизор.
Сделайте диагностику и себе. Почему вы так боитесь того, что ребенок хочет жить отдельно? Может быть, вы просто еще не наигрались в дочки-матери? Тогда возникает страх: если ребенок сейчас уйдет, то чью жизнь я буду контролировать и проживать, ведь моей собственной у меня нет. Ревность и страх не позволят сделать точную диагностику. Ребенок отвечает: «Я хочу попробовать жить один». – «Хорошо, если не получится, приходи домой».
Мудрое решение – адекватное решение. Оно естественно появляется, когда родителям все понятно и ясно. Отсутствие ясности вы замещаете концепцией «правильно или неправильно», «рано или поздно», «должно так быть или не должно». Скажите себе «стоп». Кто мой ребенок? Имеет свое мнение или нет, пользуется своими мозгами или ведомый, может ли взяться за дело и довести его до конца, есть ли у него решительность, как он проявляется в трудностях – решает или пасует?
Мой друг рассказывал, что купил дом, а дети не захотели в нем жить и остались в городе, в старой квартире. Одному – 16 лет, другому – 10. Родители ждали, что через какое-то время дети начнут звонить, спрашивать совета, но этого не произошло. Папа звонит: «Как дела?» – «Нормально». – «В школу опаздываете?» – «Нет». – «Нарекания от учителей есть?» – «Нет». – «Уроки делаете?» – «Да». И тут папа чувствует, что стал детям не нужен, и началась паранойя: не рано ли им жить самостоятельно, не лишаю ли я их детства, заставляя нести тяготы взрослой жизни? Кто вам сказал, что это тяготы? Ваш опыт? Мы ревнуем детей к их жизни, и это делает нас неадекватными.
Что делать, когда очевидно, что ребенок не справляется с той самостоятельностью, на которую решился, но и помощи не просит?
Значит, это только вы считаете, что он не справляется. У вас было ожидание, как все должно происходить: ребенок будет звонить, что-то просить, вообще вернется домой. Но раз он помощи не просит, значит, может сам. Вы замечаете, что ему трудно, а он не жалуется, видимо, еще не наступило отчаяние, он чувствует, что справится, продолжает трудиться, напрягаться, строить жизнь самостоятельно. Возможно, вам кажется, что у него не получается, потому что ребенок живет не так, как вы того хотите. Просто есть и другие способы жить. Ребенок ест один «Доширак», а мог бы дома колбаску кушать. Кто сказал, что «Доширак» – это плохо? Раз колбасы у родителей не просит, значит, любит лапшу. И отстаньте от него.
Вместо тревожного ожидания, что ребенок вот-вот облажается и вернется, неплохо бы ради эксперимента думать о том, что у него получится, трудности случаются, всякое бывает, ничего с первого раза не получается, пусть попробует еще раз и еще раз. Даже если не получается, это не повод поставить на ребенке крест и сказать: «Все, сиди теперь с мамой всю жизнь. Видишь, какой ты несамостоятельный?»
Я больше скажу: даже если ребенок просит помощи, не торопитесь ему помогать. А судя по вопросу, вы только того и ждете, чтобы он попросил о помощи, и тогда вы станете снова важными и значимыми, будете отвечать за его жизнь и докажете ему его несостоятельность. Позвольте ребенку самому дойти до понимания и осознания: может ли он жить сам, – и не торопите его своими комментариями. Так дети растут – в одиночестве, без друзей, без помощи, один на один с событиями: «Я продолжаю действовать и делать. Не на оценку, не за аплодисменты, а чтобы выжить».
Следует ли в ребенке воспитывать чувство того, что он особенный, отличный от всех?
Мы и так все особенные, не похожие и уникальные – это и называют индивидуальностью. Каждый рождается необыкновенным – просто не убивайте в детях это ощущение. А получается так, что родители сначала дают ребенку почувствовать, что он – полное ничтожество, а потом начинают в нем воспитывать чувство собственной уникальности. Это очень трудный процесс – сначала разрушать, а потом строить. Не разрушайте изначально. Есть замечательный анекдот о том, как к ветеринару пришла женщина с жалобой на то, что собака постоянно писается и какается. Он попросил прийти с собакой. Та приводит собаку, и ветеринар говорит: «Скажите ей что-нибудь». И хозяйка яростно орет: «Сидеть!!!!!!!» Дети рождаются безбашенными, смелыми, отважными, готовыми к риску, без тревоги и без страха. Потребность в вере в свои силы появляется, если ее забрали.
Как обеспечить детям ощущение того, что дом родителей всегда будет их тылом, но в то же время чтобы они старались самостоятельно решать свои проблемы и лишь в крайних случаях обращались к помощи «тыла»?
Беспокойство говорит о том, что вы знаете: ваш ребенок несамостоятельный. А ваше лицемерие в том, что вы говорите, будто тяготитесь его просьбами о помощи, но на самом деле вы получаете от этого удовольствие. Это игра такая: «Я бы помогла, но вот если бы не каждый день, а через день…» Пока ребенок не станет самостоятельным, пока не сможет нести ответственность за свою жизнь, он приходит за помощью. Надо будет – станет приходить каждый день. Возможно, это стало напрягать родителей, потому что у них уже появилась наконец-то личная жизнь. Раньше ее не было, и им нравилось, что дети обращаются постоянно за советом, за деньгами, а сейчас их зависимость начинает напрягать. Ваш контроль за ребенком обернулся его контролем за вами, а его несамостоятельность стала вашей несамостоятельностью.
Можно ли воспитать в ребенке точку опоры, отказывая ему в карманных деньгах (чтобы он шел зарабатывать), не оставлять ему готовый обед (чтобы учился готовить) и прочим?
Научиться можно, когда учат. Мы растем, становимся отважнее, смелее, умнее, когда решаем задачки и преодолеваем проблемы. Создание нагрузок может стать как хорошей тренировкой, так и доказательством никчемности. Отказ – не способ воспитания. Если ты приручил ребенка, подсадил на то, что дома его обеспечивают, неси ответственность. «Не умеешь зарабатывать – ходи без денег. Не умеешь готовить – ходи голодным» – это не вариант. Любая нагрузка, которая создается ребенку, должна быть адекватна его способностям. Когда вы отказываете, чего именно добиваетесь? Чтобы он стал зарабатывать или чтобы начал унижаться перед вами и выпрашивать подачку? А ваш ребенок в курсе, где деньги живут? Откуда они берутся у вас в кармане? Отказывать ребенку в деньгах можно лишь в том случае, когда он знает, что нужно предпринимать, чтобы их заработать. Ведь если он считает, что деньги берутся из кармана, то, получив от родителей отказ, он полезет в единственное место, где, по его мнению, водятся деньги, – в карман. Может к родителям полезть, может и в чужой.
Ребенок просит триста рублей на дискотеку, вы видите, что на балконе стоят три бутылки, которые можно сдать за десять рублей, и говорите: «Дам 290 рублей, десять сам найдешь». Таким образом, вы проверяете, может ли ваш ребенок увидеть десять рублей в этом мире и, увидев их, предпринять нечто для того, чтобы они оказались в его кармане. Он может и не увидеть, а начать шантажировать, капризничать и угрожать: «Ну, тогда я вообще не пойду никуда!» Это то, что вы создали. Лишать такого ребенка денег, чтобы убедиться в его никчемности, – тешить свое самолюбие.
В седьмом классе у меня тоже появились всякие хотелки – магнитофон, клеши и прочее. Мама сразу внесла ясность: «Папа работает один, деньги, которые он получает, расписаны, лишних нет». Мне еще не было четырнадцати лет, но по знакомству меня устроили на стройку, где за два месяца я заработал 180 рублей. Магнитофон стоил 220 рублей, но каникулы кончились, и заработать недостающую сумму я не успевал. Тогда мама мне добавила – это называется «поддержка». На следующий год я уже не обращался к маме – знал, что сам смогу заработать. Снова пошел на стройку и заработал себе на клеши. Все было честно – меня предупредили, что денег нет, показали, где можно заработать, заработанные деньги не отбирали, а уважали мои планы и поддержали, добавив на магнитофон денег, увидев, что я сам не справляюсь.
Как быть, когда ребенок настолько самостоятелен, что совершенно не пускает родителей в свою жизнь, ведет себя независимо и отчужденно?
Это говорит о бегстве из дома. Детство для ребенка было наполнено контролем, расспросами, запретами, допросами и пытками, ужасом и кошмаром, вмешательством, хирургией индивидуальности и отрезанием от нее кусков. И теперь он сбежал. И дело не в самостоятельности. Ему может быть очень трудно, но он предпочтет сдохнуть, чем обратиться с родителям за помощью. Он не пускает вас, охраняет и оберегает свою жизнь, потому что вы его уже достали своим вмешательством. Он не хочет быть опять контролируемым, осуждаемым, подверженным манипуляциям, беспомощным, чувствовать себя на бесконечном суде, где вы – главный судья и приговоры обжалованию не подлежат. Вы предпринимаете попытки влезть в его жизнь и быть ему якобы полезными, но он не дает, потому что знает: это опасно для его индивидуальности, для его жизни, для его системы ценностей.
Отсутствие уважения и доверия говорит о том, что вы недостойны уважения и доверия. Уважение появляется, если вы ребенка уважали, доверие – если вы ему доверяли. Если уважение к чужим силам, доверие к чужой индивидуальности, святость личного пространства каждого представляли ценность в вашей семьи, вам не о чем беспокоиться – ребенок будет к вам приезжать, чтобы делиться новостями, успехами и радостью. Если этого не было, тоже не о чем беспокоиться – он никогда не вернется в родительский дом. Максимум – приедет на ваши похороны. Но может и на похороны не приехать.
Мой муж считает, что сына с детства нужно приучать к самостоятельности, а мне не хочется раньше времени лишать его детства, и я стараюсь его поддерживать и баловать. Как скажется на ребенке то, что у родителей разные взгляды на его воспитание?
Плохо скажется. Оба родителя предают своего ребенка, поэтому можно даже сказать, что у него вообще нет родителей. Вы оба так озабочены концепцией «правильно-неправильно», что не обращаете внимания на самого ребенка. У меня вопрос к вам: «А что он сам думает? Он хочет в детстве побыть или самостоятельность проявлять?» Потому что ваши с мужем взгляды на воспитание, к сожалению, к самому ребенку никак не относятся. Вам ваши отношения важнее ребенка, и вы используете его как козырную карту. Каждый разыгрывает свою правоту. «Я считаю, что он уже взрослый!» – «А я считаю, что он еще маленький!» Не надо ничего считать – вот ребенок, спросите у него. Скорее всего, в вашей паре проблемы с сексуальной жизнью или вы не состоялись в таких ролях, как «любовник», «подруга», «профессионал».
Когда мама говорит, что не хочет лишать ребенка детства, она саму себя не хочет лишать детства. Ребенок готов к самостоятельности в полтора года, когда говорит, что теперь он все будет делать сам. Берется нести сумку, а она слишком тяжелая для него. Не надо тыкать его носом в его слабость и радоваться его неспособности помочь – поддержите его инициативность, предложите, чтобы каждый нес сумку за одну ручку. Да, ребенок может браться за то, что делать еще не умеет, будет делать это некачественно, может порезаться, уронить, рассыпать, но, если в этом нет угрозы его жизни, пусть он переживет этот опыт.
К сыну пришли друзья, и после их ухода мы обнаружили пропажу крупной суммы денег, которая была спрятана. Сын не был инициатором кражи, но молча наблюдал за тем, как его друзья рыскали по квартире. Почему он не смог защитить себя, свою семью, ее имущество?
Искушение – тоже грех. Старая истина: если я чего-то не знаю или не вижу, то этого для меня нет. Вы своими оправданиями про спрятанные деньги, про пассивного сына и его нахальных друзей просто выгораживаете себя, потому что чувствуете, что сами поучаствовали в этой краже в качестве провокаторов. Если бы дома не было никаких разговоров про спрятанные деньги и сын про них не знал, он не хвастался бы во дворе про папину заначку, и никто бы не полез в вашу квартиру.
Вы недовольны тем, что ваш сын не бросился защищать ваши деньги? Вы бы хотели, чтобы он изображал героя? Как в фильме «Заплати другому», где «хорошего» мальчика убили «плохие» люди, а мама с папой потом гордились тем, что их сын «не зассал»? Вам такого сына-самоубийцу надо? Кроме того, ваш сын просто не воспринимал эти деньги как свои, из которых ему покупается одежда и еда. Что удивляться тому, что он героически не вступился за них? Это не его деньги. Он за любимую машинку покалечит любого, за сломанную спичку, которая у него вместо пушки, не будет разговаривать с вами неделю, а понятие ценности денег у него не сформировано. И тогда он-то при чем в этой краже? Как в нем должно появиться то, что вы в него не вложили? Откуда это возьмется, если, кроме вас, у него в этом возрасте больше никого нет? Если ребенок до сих пор думает, что деньги берутся из кармана, он будет к ним беспечно относиться. Если показать ему механизм того, как они попадают в карман, как они зарабатываются, – даже мыслей украсть не возникнет.
Списывать собственные глупости на ребенка – это не уникально. Приходят родители: «Нам кажется, что с ребенком что-то не так». Первый вопрос: «А что с вами не так, если у вас такой сын?» Если у вас яблоко, значит, вы – яблоня. Хотите грушу? Становитесь деревом грушей.
У нас дома часто бывают конфеты, печенье, и пока все это есть, подружки дочери приходят к нам в гости и «дружат» с ней. Однажды дочь пришла расстроенная, я спрашиваю ее: «В чем дело?» – «Вот опять девчонки меня послали за конфетами». – «А ты зачем сделала это своей обязанностью – всех конфетами обеспечивать?» – «А без этого они со мной не дружат». Я поговорила о том, что это тоже не дружба, что себя нужно отстаивать, не делать того, чего не хочется, не бояться остаться одной в какой-то ситуации, но она боится одна остаться, боится потерять общение. Как привить ей уверенность, чтобы дочь могла себя отстоять?
В этой игре ваша дочь – «клиент», а ее подружки – «проститутки», которых она покупает. Появление таких отношений у дочери говорит о том, что вы себя с ней ведете точно так же. Когда она хорошая для вас, вы ей даете конфету, когда плохая – наказываете. И дочь знает, как быть хорошей для вас, и знает, как можно купить кого-то за конфету. А все, что вы перечисляете, говоря о дочери, это на самом деле все о вас самой: это вы боитесь остаться одна, потерять общение, не можете постоять за себя, не обладаете уверенностью. Поэтому и в дочери этого нет – в ней не может просто так появиться то, чего нет у родителей. Я бы предложил вам заняться инвентаризацией своей жизни, посмотреть, что у вас есть, убрать то, что не нужно, и развить то, что необходимо. Тогда и в вашей дочери появятся и чувство собственного достоинства, и доверие к себе, и уверенность, и умение общаться и дружить.